Библиотека » Цветотерапия » Концепция цвета и цветовой символизм в древнем мире
Автор книги: Кристофер Роу
Книга: Концепция цвета и цветовой символизм в древнем мире
Кристофер Роу - Концепция цвета и цветовой символизм в древнем мире читать книгу онлайн
За последние 150 лет очень много написано в отношении цветовыражения в греческой литературе, и преимуще-ственно — на основании цветового тезауруса монументальных поэм Гомера — «Илиады» и «Одиссеи». Выдаю-щийся британский государственный деятель Уильям Глэдстон в своей книге «Гомер и Гомеровская эпоха» («Homer and the Homeric Age») пишет, что увидел «признаки незрелости» в том, как Гомер использовал цвет: сравнительно редкое употребление слов для выражения цвета; «использование одного и того же слова для обо-значения не только различных оттенков или тонов одного и того же цвета, но и цветов, которые, согласно нашему представлению, являются совершенно различными»; «описание одного и того же предмета с использованием эпитетов цвета, фундаментально противоположных друг Другу»; «значительное преобладание наиболее грубых и элементарных форм цвета, таких как черный и белый, над всеми остальными и выраженная тенденция считать остальные цвета просто промежуточными формами между этими крайними противоположностями» и, наконец, «использование Гомером цвета как несущественного для достижения поэтического эффекта, по сравнению с другими элементами прекрасного, и полное отсутствие упоминания о цвете в некоторых случаях, когда мы вполне ожидаем его встретить»[1]. По своим предпосылкам и заключениям книга Глэдстона во многом типична для литературы XIX столетия на эту тему, хотя в целом в ней проявляется острота ума, не всегда присущая современникам автора. Мнимые упущения Гомера привели некоторых ученых того времени, под влиянием теории Дарвина, к предположению, что греки как раса страдали какой-то формой дальтонизма[2]. Примерно в том же духе Глэдстон утверждал, что «у греков героической эпохи органы восприятия цвета и его переживание были лишь частично развиты», поскольку как естественные, так и искусственные краски играли несущественную роль в зримом окружении ранней Греции: «оливковый оттенок кожи сводился к смешению красного и белого. Цвет волос куда более единообразно, чем у нас, имел тенденцию к черному. Чувство цвета в меньшей степени воспитывалось выращиванием цветов. Солнце куда быстрее меняло краски земли — весеннюю зелень на коричневый цвет... Почти не использовались красители, а искусство живописи и вовсе отсутствовало...[3] Искусственные цвета, знакомые человеческому глазу, определялись, главным образом, нечетко и всегда исключительно как оттенки металлов. Поэтому любой предмет с точки зрения цветовосприятия виделся Гомеру совершенно иначе, чем нам. Правда, некоторые краски, такие как голубизна моря или неба, были представлены здесь в редкостной красе. Однако эти цвета остаются, так сказать, независимыми фрагментами; и, не будучи объединены общей схемой, явно не получают достаточно точного понимания, необходимого для оперирования ими. Пожалуй, очевидно, что глаз должен быть знаком с упорядоченной системой цветов как предпосылкой самой возможности их различения»[4]. «Упорядоченная система», которую имел в виду Глэдстон, является «нашим собственным рядом первичных цветов, определенных для нас Природой», то есть цветов ньютоновского спектра, наряду с черным и белым[5].
Здесь имеет место фундаментальное недоразумение, которое Глэдстон разделяет с другими учеными XIX столе-тия. Отсутствие конкретного термина для обозначения определенного цвета не обязательно означает будь то психологическую или какую-либо другую неспособность различения этого цвета среди других. Возьмем приве-денный Глэдстоном поразительный пример отсутствия у Гомера какого бы то ни было обращения к голубизне неба (или, за исключением разве что одного случая, моря): неужели мы в самом деле можем предположить, что «греки героической эпохи» не были в состоянии отличить цвет летнего неба от цвета крови или снега? Такое за-ключение было бы явно несостоятельно. Мы должны искать этому другое объяснение, и это объяснение может быть найдено именно в том аспекте использования Гомером цвета, который был замечен самим Глэдстоном. Большинство эпитетов Гомера, связанных с цветом, обращены не столько «собственно к цвету», как к «форме и модальности света и его противоположности или, скорее, отрицанию — темноте»[6]. Мир Гомера — это мир яркого света и тьмы; сверкания оружия и приглушенных отсветов волнующегося моря. Ошибка умозаключений Глэдстона заключается в том, что он автоматически принимает это за признак примитивизма и неполноценности. Мы же должны, скорее, рассматривать это просто с точки зрения иного типа чувствительности к визуальным раздражителям. Но если мы собираемся выносить какие-то суждения, то предполагаемую Глэдстоном слабую восприимчивость поэтов гомеровской эпохи к «первичным цветам, определенным для нас Природой», следует рассмотривать, принимая во внимание повышенную чувствительность этих поэтов к тому аспекту сферы зримого, к которому мы, в свою очередь, оказываемся сравнительно слепы.
Это замечание, похоже, объясняет все остальные недостатки, перечисленные Глэдстоном: кажущаяся путаница применения терминов для выражения цвета является результатом неправильного понимания с нашей стороны сущности этих терминов, и точно так же сравнительно Редкое обращение к цветовому тезаурусу в тех ситуациях, где, по нашему мнению, цвет должен играть ведущую Роль, как например, в описании женской красоты или пей-зажа, следует рассматривать лишь как характеризующее Различный подход к видению мира. В 1922 году Мюл-лер-Боре в своей работе утверждал, что недостаточное внимание к цвету является характерной чертой эпическо-го стиля. Он говорил, что эпический стиль:
«...нигде не стремится к непосредственному эмоциональному эффекту, который представляется не соответст-вующим предмету описания. Сравнительное отсутствие цвета можно рассматривать как отражающее типичную для архаики холодность; но его можно также рассматривать и просто как результат сохранения чувства стиля, который соотносит величие предмета описания с равнозначным ему величием способов выражения и который никогда не использует те художественные приемы, которые низвели бы фигуры ранней героической эпохи до уровня современного человека. Выбору стиля следует также приписать факт снижения роли цвета: преобладание слов, обозначающих яркость, и сравнений с солнцем, луной и звездами. Эпитет означающий яркость, способен куда лучше придать возвышенность описываемому предмету, чем термин, определяющий цвет: слово, определяющее цвет, предполагает конкретность и прозаичность, «яркость» же — слово, соответствующее идеальному. Сильный и вместе с тем возвышенный эффект производят также речевые фигуры сопоставляющие свет с удивлением, ужасом и страхом. Такого же эффекта, конечно, можно было бы добиться и посредством обращения к цветам, но они совершенно по-другому связаны с самими этими понятиями. Наиболее действенно использование черного и белого цветов, так как они, как правило, выражают не более, чем наличие или отсутствие света; затем следует использование красного — цвета крови и убийства. После красного можно ввести блеск желтого, который на языке поэтов превращается в «золотой». Синий же и зеленый, цвета лирической экспрессии, напротив, полностью вытесняются на задний план»[7].
Я процитировал этот отрывок полностью, учитывая его значимость в качестве противовеса взглядам Глэдстона по поводу незрелости использования цвета Гомером. Мюллер-Боре, напротив, предполагает, что предпочтение Гомером выражений, в первую очередь относящихся к яркости или блеску, является результатом преднамерен-ного выбора. Однако эту точку зрения также следует подвергнуть серьезному сомнению. Выбор предполагает альтернативу; и даже независимо от склонности придерживаться традиций сложившегося стиля, очень пробле-матично, чтобы у автора «Илиады» и «Одиссеи» была такая альтернатива[8]. Другими словами, по меньшей мере маловероятно, а, по моему мнению, в высшей степени неправдоподобно, чтобы в тот период, когда создавались эти поэмы, существовали какие-либо развитые способы описания цвета, кроме тех, которые мы находим в самих поэмах. Таким образом, я полагаю, что важным ограничивающим фактором в применении цвета Гомером было отсутствие необходимых терминов в языке. Исключительно важен и тот факт, что у философов V и IV столетий мы находим очень мало терминов, относящихся к выражению цвета, которые встречались бы, хотя и в несколько ином значении, у Гомера. Если бы в то время имелся запас слов для передачи цвета, которые Гомер сознательно не употребляет, то мы, несомненное, встретили бы их в работах философов. Но мы их не находим. Было бы противоестественным полагать, что Демокрит и Платон решили бы заимствовать и адаптировать именно терминологию Гомера, отдавая ей предпочтение перед уже существующими выражениями, имеющими идентичное значение. Более того, совершенно новые термины для выражения цвета очень редко появляются и в более поздние периоды греческой литературы, за исключением большого количества словосочетаний типа «цвета ...», то есть «цвета травы», «цвета пепла». Тенденция, как мы увидим, направлена к формированию словаря цветов, сходного с нашим собственным, на основании, главным образом, терминологии, встречаемой в поэмах Гомера.
Конечно же, не исключено, что шаблонные эпитеты поэм Гомера лишь передают архаические значения более раннего периода, и в то время как сами эти монументальные поэмы уже приобрели свою окончательную форму, встречающиеся в них эпитеты, выражающие цвет, в обыденном языке приобрели новые значения[9]. Совершенно определенно, что пропасть между языком эпоса и обыденным языком не могла существовать вечно. И здесь сно-ва именно Глэдстон, как мне кажется, обратил внимание на самое важное. Он говорит: «должны ли мы совсем отвергать мысль о недостатках [Гомера] и относиться к такому использованию цвета лишь как проявлению само-го духа его произведений, который, даже при самых совершенных знаниях, все равно был бы закономерно при-сущ им?.. Я думаю наш ответ должен быть отрицательным. Действительно верно, что нередко отсутствие бук-вального соответствия в отношении цвета может быть отнесено к поэтическим вольностям. В, так сказать, не со-всем соответствующем употреблении эпитетов цвета таится высоко поэтический эффект. Но для создания такого эффекта, очевидно, необходимо: (1) чтобы это не совсем соответствующее употребление было исключением, а не правилом; (2) чтобы существовали фиксированные стандарты самого цвета и, стало быть, критерии отклоне-ния от них. Иначе результатом будет не поэтическая вольность, а неразбериха». Глэдстон продолжает, цитируя шекспировские строки из «Макбета»: «И вот лежит Дункан, его серебряная кожа покрыта кровью золотой». «Здесь идея заключается не в том, что серебро имеет тот же цвет, что и кожа, а золото — что и кровь, а в том, что соотношение цветов серебра и золота сравнимо с таковым кожи и крови: кожа оттеняет кровь точно так же, как на фоне серебра выделялось бы золото. В вольности такого типа мы всегда можем проследить и правило, и цель. Правило нарушается лишь для особого случая. При этом создается впечатление хрупкости, величия и чис-тоты»[10]. Строгость формы поэм, написанных в духе Гомера, делает подобные соображения совершенно непри-емлемыми применительно к последней стадии их создания, той стадии, на которой поэмы обретают свою оконча-тельную и унифицированную форму в произведениях «подлинного» Гомера[11]. Но вполне очевидно, что они применимы к началу эпической традиции. Как говорит Глэдстон, для того чтобы «не совсем верные эпитеты» дос-тигали эффекта, они должны быть исключением, а не правилом. Действительно, ранние поэты не могли бы об-щаться со своей аудиторией, если бы не существовала некая связь между их языком и языком аудитории. Таким образом, мы вполне оправданно можем предположить, что по крайней мере способ использования терминов для передачи цвета у этих ранних поэтов близко соответствовал их использованию в обыденном языке. Но не исклю-чено также, что главным образом эти же соответствия существовали и во времена «подлинного» Гомера. Суще-ствуют доказательства, что эволюция гомеровских терминов — как правило, в сторону выражений, передающих цвет в строгом смысле, с постепенной элиминацией первичных гомеровских коннотаций яркости и темноты — ни в коей мере не завершилась даже в четвертом столетии.
Таким образом, поэмы Гомера, в общем, могут служить свидетельством относительно типа и объема цветового тезауруса, имевшегося в греческом языке еще в период VIII века до н.э.[12] Я предполагаю, что две основные черты гомеровского языка цвета — редкость использования таких прямых выражений, как наши «желтый», «си-ний» или «коричневый», и пристрастие к терминам, говорящим о яркости или блеске (или их отсутствии) — были также и характерными чертами обыденного греческого языка в доклассический период. И именно существование таких особенностей в обыденном языке способствовало становлению гомеровского характера передачи цвета. Их действие заключалось в том, чтобы показать сравнительное отсутствие интереса к тому, что Глэдстон назвал «настоящим цветом» предметов, и гораздо больший интерес к «формам и модальностям света и его ...отрицания — темноты».
Судя по всему, у Гомера есть два слова, которые по крайней мере иногда приближаются к прямому выражению определения цвета: leukos, «белый» и melas, «черный». Leukos, например, используется в отношении молока, зубов и пуха, a melas — в отношении черных ягнят и овец. К этим двум я бы также добавил eruthros, «красный». Правда, это слово употребляется только в отношении бронзы (chalcos), нектара и вина, а, как отмечает Мюллер-Боре [13], одних этих случаев недостаточно, чтобы делать заключение об общем употреблении слова (chalkos eruthros, «красная бронза» может относиться к блеску бронзы; отличительные черты нектара неизвестны; а «красное вино» может быть специальным термином). Но происшедшие от того же корня глаголы ereutho и eruthaino, «краснеть», всегда употребляются в связи с кровью, как например в нижеследующем отрывке из «Илиады»:
«При этих словах Одиссея, исполненный яростью горящих глаз Афины, Диомед крушил людей направо и нале-во. Страшные стоны вырывались у них, когда его меч рассекал их, и земля покраснела от крови».
На первый взгляд, странно, что само слово eruthros никогда не употребляется в отношении крови, наиболее часто употребляемым эпитетом для которой является melas, «черный», «темный» (предположительно изначально эпитет для характеристики спекшейся крови, который затем для единства стиля был перенесен и на свежепролитую кровь). Но в этом случае имеется уже достаточно данных для предположения, по крайней мере, о начале процесса, направленного на выделение eruthros как прямого термина для выражения цвета со значением нашего «красный». Мюллер-Боре предполагает, что этот процесс уже завершился и утверждает, что редкость употребления этого термина, у Гомера обусловлена его «прозаическим» характером. Такой вывод допустим, но он, пожалуй, в значительной степени основывается на сравнении с более поздним поэтическим употреблением, где имеются явные доказательства такого различия между языком поэзии и прозы. Что касается эпохи Гомера, у нас практически не имеется никаких независимых свидетельств о непоэтическом употреблении. Тот факт, что кровь не называется eruthros, может рассматриваться как отражающий общее отсутствие интереса Гомера к «собственно цвету»; хотя соображения стихосложения также немаловажны, так как в гомеровском гекзаметре eruthros не может сочетаться с haima, «кровь». Как я утверждал, отсутствие интереса к цвету не было отличительной чертой только поэтов эпохи Гомера. Различия в цвете могли иметь значение в технической сфере или в ритуалах: например, богам, обитателям Олимпа, в жертву приносились белые животные, а хтоническим божествам — черные, но вне этой связи сам цвет не являлся первостепенной отличительной чертой предметов.
И здесь нам снова бросается в глаза контраст между употреблением Гомером выражений, передающих цвет, и нашим собственным, а не сходство между ними. Лишь очень редко выражения leukos и melas можно перевести просто как «белый» и «черный». В огромном большинстве случаев они упоминаются, по сути, для указание на светлое и темное. Райтер (Reiter) указал на очевидную связь между яркостью и белизной[15]. Белый цвет лучше любого другого отражает свет. Таким образом, белые предметы выражают парадигму яркости, это заставляет нас быть весьма осторожными в различении этих двух значений (или, возможно, значений вообще). Даже в случаях, которые, казалось бы, предполагают ясную отнесенность к цвету, первичное значение яркости все же может быть более важным. Одним из наиболее замечательных примеров упомянутых Райтером, является описание лошадей Резуса в «Илиаде» (X), как, leukoteroi chionos — не столько «белее, чем снег», сколько «ярче, чем снег» («strahlender'als Schnee»), поскольку позднее в этой же книге Нестор описывает их как «подобные лучам солнца»[16]. То же самое верно и в отношении melas, «черный», «темный». И наоборот, выражения, характеризующие яркость: phaeinos, lampros, sigaloeis — могут иногда содержать и указание на цвет[17]. Такая двусторонность является общей особенностью гомеровских выражений для передачи цвета.
Таким образом, мы достигли компромисса между позициями, занимаемыми Глэдстоном и Мюллер-Боре. Скупое использование цвета в гомеровских поэмах, является не просто результатом художественного выбора, но оно не является также и признаком «примитивизма», разве что в историческом смысле. Это не признак неполноценности и недостатка. Предпочтение, которое ранние греки отдавали описанию яркого, сверкающего, светлого и темного по сравнению с цветом как таковым, отражалось в сравнительно небогатом словарном запасе для передачи цве-та, в котором было очень мало таких абстрактных терминов, какие составляют основу нашего цветового тезауру-са. И именно на этом фоне творили поэты эпохи Гомера. Однако, как мы увидим, при всей очевидной ограничен-ности возможностей им удалось, по сути дела, обратить ее в свою пользу. Несмотря на сказанное выше, в распоряжении поэтов той эпохи было большое разнообразие средств Для описания зримого, которым я пока еще не отдал должного. К трем упомянутым терминам, выражающим яркость, можно добавить множество других: aglaos, liparos, phaidimos, pamphanoon — и др. Часто трудно определить различие в значениях этих терминов, хотя в большинстве случаев они шаблонно связаны с определенными группами существительных. Имеется также несколько различных слов для обозначения «темного», но основным термином в этом отношении является melas, «черный». Aithon, aithops («горящий», «подобный огню») — и то, и другое, — кроме всего прочего употребляемые по отношению к бронзе — и, возможно, также oinops («подобный вину», в отношении моря), по-видимому подразумевают красноватый отблеск или отсвет. Другим термином, по всей вероятности, более тесно связанным с цветом, является kuaneos, который Глэдстон с извесной долей сомнения приравнивает к «индиго», но который также, очевидно, часто взаимозаменим с melas, в смысле «темный». Это слово происходит от kuanos, обозначающего вещество, природа которого до сих пор остается спорной. Я упоминал также три слова, в равной мере представляющих трудность для нас: glaukos, porphureos и polios. Glaukos, употреблявшееся один раз в отношении моря вместе со сложным словом glaukopis, и родственный глагол glaukio, употреблявшийся в отношении глаз, по-видимому связаны с «серым» или «синим». Но ни в одном из этих трех случаев исходное указание на цвет не является очевидным. В «Илиаде» (XVI), где Патрокл, осуждая отказ Ахиллеса воевать, говорит ему, что тот не сын богини моря Тетис и доблестного Пелея: «лишь серое море (glauke thalassa) с его крутыми скалами могло породить такого безжалостного как ты»[18].
Суровость моря хорошо передается для нас переводом «серое», но, в виде эпитета glaukopis, употребляемого по отношению к воинствующей Афине слово glaukos, по-видимому, лучше принимать как относящееся к жестокому блеску ее глаз; и точно также в образе раненого льва в «Илиаде» (XX), атакующего охотников, glaukioon означает «сверкающий глазами». Porphureos, «пурпурный», может применяться по отношению к радуге, сверхъестественному облаку, одежде или коврам, но также и в отношении бурного моря, волны разбушевавшейся реки, крови и смерти. В этих последних случаях ставится под сомнение тот факт, подразумевает ли porphureos цвет вообще, главным образом, из-за предполагаемой связи с глаголом porphuro, который употребляется, например, в отношении волнующегося моря. Но сейчас связь с porphuro в основном отрицается, и нам поэтому приходится рассматривать все случаи использования слова porphureos в одном русле. Однако, похоже, что это слово имеет тенденцию относиться, по крайней мере в более поздней литературе, к синему концу спектра, а не к красному[19]. Но как же тогда его можно употреблять по отношению к крови? Возможное решение заключается в том, что мы снова должны рассматривать это слово и как выражающее цвет, и как слово для обозначения понятия «темный». В своем применении по отношению к крови и смерти оно, скорее всего, выступает не более, чем замена melas: «темная кровь», «черная смерть». И, наконец, polios. Polios употребляется в отношении волос (в связи со старым возрастом), моря, железа и светлой окраски волчьей шкуры, которую необдуманно надевает Долон во время ночной экспедиции («Илиада», X). Райтер предполагает, что как слово, выражающее цвет, оно в первую очередь относится к белым или «седым» волосам старости (мы можем сравнить с xanthos, которое у Гомера применяется только по отношению к конским гривам и человеческим волосам и обычно рассматривается как эквивалент нашему «белокурый» хотя оно может переводиться и как «рыжеволосый»; подобным образом glaukos является «голубовато-серым» по отношению к глазам). Словосочетание «бело-серое железо» напоминает выражение «белая жесть» и, без сомнения, должно объясняться как описывающее «блеск» железа.
Я выделил здесь лишь то, что, вероятно, принадлежит к числу наиболее важных слов, используемых Гомером для передачи цвета. У него есть целый ряд других слов, в особенности составных, таких как ioeides, «подобный фиалке», в отношении моря; miltopareos, «с красными бортами», о кораблях. Но представленного мной списка слов вполне достаточно, чтобы подтвердить справедливость общих наблюдений Глэдстона в отношении особен-ностей использования цвета Гомером и правдоподобность стержневой части его (Глэдстона) решения связанной с этим проблемы: «в качестве общего утверждения я должен сказать, что в действительности Гомер использует цвета как формы и модальности света и его противоположности или, скорее, отрицания — темноты: вероятно, отчасти под впечатлением идей, подсказанных металлами, вроде красноты меди или темноты и тусклой голубиз-ны kuanos, что бы собой не представляло это вещество, и чаще всего, по сути, в целью почерпнуть новые идеи в выражении цвета»[20].
Имеется несколько типов слов с определенной соотнесенностью с цветом: во-первых, сложные слова, как, ска-жем, ioeides («подобный фиалке»); во-вторых, субстантивные имена прилагательные, как kuaneos («подобный kuanos»); или phoinios («пурпурно-красный»), в отношении крови, вероятно, берущее начало от phonos, «резня», по аналогии с phoinix, словом, выражающим у Гомера цвет, вероятно, имеющий то же значение; в-третьих, такие слова, как. polios, «серовато белый»; porphureos, «пурпурный», которые могут иметь более широкое применение, но первично относящиеся к предметам одного рода (polios — к волосам, porhpureos — к окрашенным предметам); и в-четвертых, leukos, «белый», melas, «черный» и eruthros «красный». Я полагаю, что эти последние три наиболее близко приближаются к абстрактным выражениям цвета, преобладающим в нашем языке: то есть, подобно нашему «белому», «черному» и «красному», их цветовое выражение не зависит от обращения к какому-нибудь конкретному окрашенному объекту, как в случае ioeides или kuaneos; причем они не являются специальными терминами, как polios, привязанными к единственному предмету, а могут применяться вообще ко всем предметам того же цвета. Процесс абстрагирования, группирования бесконечно разнообразных цветов окружающей среды под ограниченным числом общих терминов пока еще только начинается. Даже leukos, melas и eruthros, как я уже подчеркивал, не могут рассматриваться как прямые выражения цвета, так как несут в себе существенные дополнительные значения светлого, темного и светящегося. Тем не менее, мы можем считать эти три слова по крайней мере подобными абстрактным терминам, обозначающим цвета в очерченном нами смысле.
В таком виде два из них можно встретить в Микенской Греции, на дощечках, обнаруженных во дворцах Крита и Южной Греции, которые, вероятно, предшествуют самому раннему периоду создания гомеровских поэм[21]. Здесь мы находим слово leukos, употребляемое в отношении тканей, быков и сафлоры, которая также описыва-ется как eruthros, «красная»: здесь, по-видимому, имеются в виду, с одной стороны, бледные семена растения и его красные маленькие цветочки — с другой. Eruthros применяется также в отношении кожи. Встречаются и дру-гие слова, выражающие цвет, такие как porphureos, «пурпурно-фиолетовый» и phoinikeos, «пурпурно-красный», в отношении тканей, и, что любопытно, polios также употребляется в этой же связи[22]. Но ясно, что из этих скупых, фрагментарных, бюрократических записей вряд ли можно много почерпнуть.
Теперь я перейду к развитию терминологии для передачи цвета в послегомеровский период. Нет никакого сомне-ния, что она претерпевала такое развитие; в этом смысле, и только в этом, использование Гомером цвета может быть названо «примитивным». Мы уже видели два примера утонченности, на которую он способен: в суровом серо-голубом блеске моря и в тонком контрасте между именем Долона — происхождение которого связано со словом, обозначающим хитрость — и его выбором в качестве маскировки светло-серой волчьей шкуры во время ночной экспедиции. Можно также добавить в качестве примера отрывок из окончания «Илиады» (XIX), где Ахил-лес прекращает свою вражду с Агамемноном после смерти Патрокла и снова готовится к битве:
«Хлынули прочь от судов быстроходных ахейцы. Как без счета несется холодными хлопьями с неба снег, угоняе-мый вдаль проясняющим небо Бореем, так же без счета из быстрых судов выносили ахейцы в выпуклых бляхах щиты и шлемы, игравшие блеском крепкопластинные брони и ясени пик медножальных. Блеск поднимался со не-ба; вокруг от сияния меди вся смеялась земля, ,и топот стоял от идущих воинов. Там посредине рядов, Ахиллес облачился. Зубы его скрежетали, как огненный отблеск пожара, ярко горели глаза, а в сердце проникало все глубже невыносимое горе. Гневясь на троянцев, надел он божий дар, над которым Гефест утомился, работав. Прежде всего по прекрасной поноже на каждую голень он наложил, прикрепляя поножу серебряной пряжкой; следом за этим и грудь защитил себе панцирем крепким, бросил на плечи свой меч с рукояткой серебряногвоздной, с медным клинком; а потом огромнейший щит нерушимый взял. Далеко от него, как от месяца, свет разливался. Так же, как если на море мелькнет пред пловцами блестящий свет от костра, что горит в одинокой пастушьей стоянке где-то высоко в горах; а пловцов против воли уносят ветры прочь от друзей по волнам многорыбного моря. Так от щита Ахиллеса — прекрасного, дивной работы, — свет достигал до эфира. На голову шлем он тяжелый, взявши, надел. И сиял, подобно звезде лучезарной, шлем этот с гривой густой; развевались вокруг золотые волосы, в гребне его укрепленные густо Гефестом. Вооружившись, испытывать стал Ахиллес богоравный, в пору ль доспехи ему и легко ли в них движутся члены. Были доспехи, как крылья, на воздух они поднимали. Вынул потом из футляра отцовскую пику...»[23]
Богатство и литературное великолепие этого отрывка не требует комментария. Более всего мы ожидаем встре-тить использование Гомером терминов для передачи цвета в описаниях пейзажа, но именно здесь оно заметно скудно. Точно так же как нет слов для передачи голубизны неба и моря, нет их и для описания пышной зелени острова Огигии нимфы Калипсо в «Одиссее»:
«После того, как на остров далеко лежащий он прибыл. Вышел на сушу Гермес фиалково-темного моря. Шел он, пока не достиг просторной пещеры,
в которой Пышноволосая нимфа жила. Ее там застал он,
На очаге ее пламя большое пылало, и запах От легкоколкого кедра и благовоний горящих Остров охватывал весь. С золотым челноком обходила Нимфа станок, и ткала, и голосом пела прекрасным. Густо разросшийся лес окружал отовсюду пещеру, Тополем черным темнея, ольхой, кипарисом душистым. Между зеленых ветвей длин-нокрылые птицы
гнездились —
Копчики, совы, морские вороны с разинутым клювом. Пищу они добывают себе на морском побережье. Возле пещеры самой виноградные гроздья висели. Светлую воду четыре источника рядом струили Близко один от другого, туда и сюда разбегаясь. Всюду на мягких лужайках цвели сельдерей и фиалки. Если на острове этом и бог появился бессмертный, Он изумился бы, глядя, и был бы восторгом охвачен»[24].
Эта картина воздействует на все пять чувств: мы находим здесь запах горящих бревен и кипарисов, прекрасный звук голоса Калипсо, гроздья спелого винограда, мягкие лужайки и светлую прозрачную leukos воду ручьев. Зри-тельное впечатление от этого идеального пейзажа колоссально, причем это впечатление свежести и ясности, а не цвета. Однако картина удалась, и мы можем разделить восхищение Гомера.
Прежде чем оставить Гомера, следует немного сказать об одной конкретной группе эпитетов цвета, эпитетов, относящихся к рассвету и морю. Рассвет описывается как rhododaktulos, «розовопальчатый», или как krokopeplos, «облаченный в шафран», а море может быть polios, «бело-серое»; oinops, «винно-темное», «винно-красное»; ioeides, «подобное фиалке»; porphureos, «пурпурное». Диапазон и характер эпитетов, употребляемых по отношению к морю, частично обусловлен частотой его использования в сравнениях; этим, например, объясняется преобладание темных цветов, которые отражают глубоко укоренившийся страх перед морем. Но в обоих случаях, несмотря на тот факт, что использование эпитетов часто является не более, чем шаблонным, мы можем ощутить ни с чем несравнимое чувство цвета.
Одна из основных причин сложностей в интерпретации присущего грекам способа передачи цвета заключается в том, что все относящиеся к этому доказательства принадлежат, в основном, к области литературы. Я же неодно-кратно напоминал, что всегда существует опасность того, что литературное употребление может значительно отличаться от обыденного языка. Следующим моим шагом будет расссмотрение специальных свидетельств, по-лученных из философских рассуждений о цвете в V и IV веках до н.э.
Из древнего источника нам известно, что Эмпедокл говорил о четырех основных цветах: белом, черном, красном и желтом; термины, используемые в этом источнике, однако, возможно, не те, что употреблял сам Эмпедокл: leukos (белый), melas (черный), eruthros (красный) и ochros (желтый). Демокрит, согласно Теофрасту, также выде-лял четыре основных цвета: белый (leukon), черный (те1аn), красный (eruthron) и chloron, по всей вероятности, желто-зеленый. Другие цвета образуются смешением указанных: золотой и бронзовый — смешением белого, ко-торый придает им яркость, и красного; некий «прекрасный цвет» — добавлением chloron; пурпурный (porphureon — здесь, по крайней мере, красно-пурпурный) образуется из белого, черного и красного, причем белый «придает ему свою яркость и блеск»; вайда-синий (обозначаемый через название растения) — из «собственно черного» и chloron; травянисто-зеленый (prasinon, от названия растения ргааson) — из пурпурного и вайда-синего или из chloron и оттенка пурпурного; индиго (kuanoun) — из вайда-синего и «огнеподобного», при этом «атомы окружа-ются и выделяются так, чтобы черный сохранил свой блеск»; и, наконец, орехово-коричневый — из chloron и от-тенка типа индиго (kuanoeides)[26].
Лишь три термина в этом перечне являются явно абстрактными: обозначающие белый, черный и красный. И сно-ва бросается в глаза, что leukon, «белый», в одно и то же время трактуется и как цвет, и как фактор, придающий при смешении скорее яркость, чем бледность. Chloron в этом контексте переводится иногда как «желтый», иногда как «зеленый». Истина, наверное, заключается в том, что его следовало бы считать промежуточным между этими двумя: у Гомера это слово иногда означает «свежий» — в отношении зелени, но может также употребляться и в отношении меда; в отрывке из Теофраста оно употребляется в отношении молодых растений. С другой стороны, в постгомеровской поэзии chloros может принимать общее значение «зеленый» как постоянный эпитет в отноше-нии растений и деревьев.
Платон в «Тимее»[27] поступает в общих чертах сходным образом, представляя вначале ряд основных цветов, а затем смешанных. Его основными цветами являются: белый, черный, красный и — любопытное дополнение, о котором я сейчас расскажу более подробно, — «яркий» (lampron). На протяжении всего эпизода Платон говорит о свете; все цвета описываются как «пламя, исходящее от предметов», а белый, красный и «яркий» являются ви-дами огня или света. Смесь этих трех цветов образует xanthon, оранжевый (слово, употребляемое здесь, у Гоме-ра встречается в значении «белесый»); красный с черным и белым образуют пурпурный; при добавлении боль-шего количества черного получается темно-фиолетовый (orphninon); оранжевый и серый (phaion) образуют риг-гоп, «рыжевато-коричневый» (слово, обычно используемое в значении «рыжеволосый»), в то время как серый — это черный, смешанный с белым; ochron, желтый, образуется белым и оранжевым. Белый, смешанный с «ярким»: «попадая» в очень черный, образуют kuanoun, индиго, «глубоко-синий»; kuanoun, смешанный с белым, образует glaukon — сине-серый Гомера; рыжевато-коричневый с белым образуют зеленый (точнее травянисто-зеленый)[28]. Здесь даже больше трудностей в определении различных цветов, чем у Демокрита. Переводы, которые в большинстве своем являются переводами Корнфорда, крайне сомнительны. Положение не спасает и тот факт, что Платон сам признает возможность разногласий в его повествовании, когда замечает в конце, что «лишь бог имеет знания и силу, достаточные для того, чтобы смешать многое в одно и разделить одно на многое»[29].
Заметным отличием перечня цветов у Платона от такового у Демокрита является то, что перечень Платона, по-хоже, во всяком случае на первый взгляд, имеет намного большую долю абстрактных терминов (двумя явными исключениями, пожалуй, являются «травянисто-зеленый» и пурпурный, который выражается словом halourgon, буквально означающим «сделанный морем», «морской пурпур»). Одним из очевидных объяснений этому являет-ся то, что Платон выбрал различные по своему характеру термины. Но дело здесь, я думаю, не только в этом. Анализируя употребление слова phaios (серый) в не философских контекстах, Райтер выдвигает предположение, что если phaios выступает здесь, и в других сходных эпизодах у Аристотеля, как общий абстрактный термин для обозначения серого, то в не философских работах это слово такого статуса не имеет[30]. Существует не только сравнительно широкий диапазон значений самого этого слова, в который входят тускло-коричневый, зеленый и синий, но имеется еще несколько других слов для обозначения серого, существующих бок о бок с ним. Как пола-гает Райтер, частота, с которой этот термин появляется в качестве эпитета по отношению к одежде, и в особен-ности к шерстяной одежде, указывает на его техническое происхождение[31]. И снова слово, переводимое как «желтый», в других местах имеет склонность сохранять значение, придаваемое ему Гомером, — «бледный», «тусклый», и, что еще более важно, по меньшей мере два термина Платона имеют по существу специализиро-ванное употребление: glaukos, серо-голубой — применительно к глазам и риг-ros — в значении «рыжеволосый». Таким образом, мы вполне оправданно может предположить, что перечень терминов Платона своей видимой аб-страктностью и определенностью во многом обязан самому Платону. Возможно, это просто неизбежный резуль-тат попытки подхода к феномену цвета как цвета самого по себе. Таким образом, описание цветов у Платона не оказывает существенного влияния на наше общее представление о греческом цветовом тезаурусе того периода. Похоже, что стандартным способом передачи цвета у греков все еще остается ссылка на конкретные предметы: зелень травы или серо-голубые глаза. Здесь, без сомнения, виден прогресс в сторону развития абстрактной тер-минологии цвета, но процесс продвигается медленно.
Наиболее интересный аспект теории цвета Платона заключается в выборе им основных цветов: белого, черного, красного и «яркого». Именно то, что является основным для Платона, было основным и для Гомера — яркость, отсвет и блеск предметов. По его мнению, восприятие цвета включает активное участие как наблюдателя, так и предмета: «ясный огонь» излучается из глаз и соединяется с огнем, исходящим от предмета (его «цветом»); ре-зультатом этого является «единая однородная субстанция» между глазом и предметом, по которой передается информация о предмете. Дневной луч — это лишь условие видения: в его отсутствие «видимый луч просто гас-нет; так как, излучаясь, чтобы встретится с тем, что от него отлично [то есть с темнотой], он изменяется сам и гаснет, более не сливаясь с окружающим воздухом, так как последний не содержит в себе никакого огня»[32].
В контексте этой общей теории перцепции цвета включение «яркого» в ряд основных цветов уже не кажется странным. Здесь Платон имеет в виду ослепительный блеск, от которого слезятся глаза: «сам состоящий из огня, он встречается с огнем, идущим от противоположной стороны и, подобно вспышке молнии, летит вперед и гасит-ся влагой (глаз); и в этом смятении рождаются все разновидности цвета. Это действие мы называем «ослепляю-щим», а фактор, который вызывает его, — «ярким» и «вспышкой»[33]. Красный находится между «ярким» и бе-лым: далее существует разновидность огня, промежуточная между этими двумя, которая достигает влаги глазных яблок, смешивается с ней, но не вспыхивает. Сияние огня через влагу, с которой он смешался, дает кровавый цвет, который мы называем «красным».
Таким образом, якобы «примитивная» чувствительность греков эпохи Гомера выстраивается и образует фунда-мент сложной и изощренной — хотя и ошибочной — теории цвета IV столетия. Нет никакого сомнения в том, что выбор основных цветов Платоном диктовался его неправильным пониманием той роли, какую в зрительном вос-приятии играет свет; но это был также выбор, отражавший традиционное мировоззрение.
Для того, чтобы завершить этот краткий обзор философских представлений о цвете, мы в заключение обратимся к Аристотелю. Рассуждения Аристотеля на эту тему наиболее сложные и запутанные из трех упопомянутых здесь. Он отвергает теорию зрения Платона (а также и Демокрита, которую я здесь не обсуждал). Первостепен-ным условием видения, по его мнению, является наличие активированной прозрачной среды, под которой он подразумевает, например, воздух при свете дня. Цвет приводит эту среду в движение, и это движение мгновенно достигает глаз. Аристотель говорит, что свет — это «цвет прозрачности»[34], то есть прозрачной среды; подоб-ным же образом цвета определенных предметов являются результатом наличия в их телах «прозрачного». «От-сюда, — говорит Аристотель, — ясно, что в том [воздухе, воде и предметах], что обладает цветом, это сходно. Поэтому именно прозрачное, соответственно той степени, в какой оно содержится в предметах (а в той или иной степени оно содержится во всем), является причиной того, что они имеют цвет. Но так как цвет располагается у поверхности предмета, то он должен находиться и у поверхности прозрачного, содержащегося в предмете. Из этого следует, что мы можем определить цвет как предел прозрачного в определенно ограниченном теле... То, что, присутствуя в воздухе, вызывает свет, может присутствовать и в прозрачном, которое наполняет ограничен-ные тела; или опять же, оно может и не присутствовать, и тогда будет наблюдаться отсутствие света. Следова-тельно, как в случае воздуха, одним состоянием которого является свет, а другим — темнота, таким же образом черное и белое зарождаются в обусловленных предметах»[35]. Другие цвета, как утверждается здесь, образуют-ся смешиванием этих двух. Здесь же дается перечень, содержащий семь видов цветов[36]: белый, черный, xantron (золотисто-желтый)[37], малиновый, пурпурный (то есть «морской пурпур»), травянисто-зеленый и kuanoun («индиго» и «глубоко-синий», согласно Глэдстонау). Серый, по-видимому, в конечном счете начинает рассматриваться как оттенок черного. Остальные цвета (а Аристотель говорит, что их количество ограничено) образуются смешением перечисленных. Эти семь принимаются как единственные действительно определенные цвета. Здесь, вероятно, впервые мы встречаем перечень цветов, который в некоторой мере напоминает наш соб-ственный. Но выбор их названий кажется странным: почему, например, для желтого — «золотисто-желтый», а для красного — «малиновый»? Я вскоре вернусь к этому.
Первостепенность белого и черного и явная связь этих двух со светом и темнотой предполагает близкое сходство между рассуждениями Аристотеля и Платона. Но это сходство, я думаю, обманчиво. Весь диапазон цветов объясняется лишь двумя факторами: прозрачностью или непрозрачностью предмета и «тем, что вызывает в воздухе свет», что активирует прозрачность предмета. Этот таинственный фактор, вероятно, является «цветом того, что можно было бы назвать источником света, который косвенно становится цветом среды, передающей его в псевдоаристотельском трактате о цветах («De coloribus») ясно говорится, что свет — это цвет огня)[38]. Сложность рассуждений Аристотеля является результатом его неопределенности в отношении физической природы света: для него он не предполагает ни телесности, ни движения. Термин «свет» применяется к активированному состоянию среды, состоянию, в котором она «действительно», а не «потенциально» является прозрачной. Следовательно, взаимодействие солнца или огня (или их «цвета» — света) и прозрачности в предметах образует цвет. Присутствие света в прозрачном предмете образует белый; его отсутствие, предположительно, в случае непрозрачности тела, образует черный; различные степени прозрачности или непрозрачности образуют остальные цвета (как именно это происходит Аристотель не пишет). Таким же образом объясняются и цветовые явления в атмосфере: например, три цвета, которые он приписывает радуге, — малиновый, травянисто-зеленый и пурпурный — объясняются как последовательное ослабление света[39]. Так как свое мнение о цвете он строит на основании анализа причин света и темноты, то можно допустить, что его рассуждения строятся на наблюдениях и размышлениях о метеорологических явлениях, а не наоборот. Таким образом, причины, по которым Аристотель выбрал как основные цвета черный и белый, отличались от таковых Платона. Основными цветами для Платона были те, которые соответствовали его общей теории зрения; но эта теория частично была основана на общепринятых у греков представлениях относительно видимого мира, согласно которым «различия в тональности и яркости»[40] играли намного большую роль, чем различия оттенков. Во взглядах Аристотеля не видно такой логической связи с общепринятыми положениями. Его точка зрения отличается попыткой дать независимый анализ наблюдаемого явления.
Но различие между этими двумя мнениями идет еще глубже. Понятие яркости и темноты, столь важные для «примитивной» греческой позиции и настолько явные у Платона, у Аристотеля отсутствуют. Уподобление Янусу сущности передающих цвет терминов, заметное у Гомера, Демокрита и Платона, у него почти не встречается. Все термины, включая обозначающие черное и белое, представляются относящимися непосредственно к цвету.
Аристотель считает свой ряд из семи цветов рядом основных цветов, данных природой. Он полагает, что пять промежуточных цветов являются результатом смешения черного и белого «в определенных количественных со-отношениях»[41], подобно основным музыкальным интервалам. К тому же, три из них (цвета радуги) повторяются с таким постоянством, которое нельзя встретить, например, в меняющихся оттенках растений и животных; в дру-гом месте он добавляет, что этих три цвета являются почти единственными, которые нельзя воспроизвести на палитре художника, таким образом, снова намекая, что они тем или иным образом являются основными и пер-вичными[42]. Если, как я утверждал, теория Аристотеля основана на наблюдениях за атмосферными явлениями, то, возможно, мы должны предположить, что сходные мотивы послужили и для выбора двух других промежуточ-ных цветов — «золотисто-желтого» и «глубокого синего»: в трактате о цветах говорится, что золотисто-желтый — это цвет солнца[43], он также «часто» является цветом радуги, образующимся по контрасту, в результате наложения малинового и травянисто-зеленого[44], в то время как глубоко-синий, например, является цветом морских глубин[45]. (Довольно интересно, что термин «глубоко-синий» или, скорее, родственный с ним с буквальным значением «подобный kuanos» в трактате о цветах употребляется по отношению к небу; «воздух, находящийся рядом, кажется лишенным цвета, потому что он настолько разрежен, что уступает и пропускает более плотные лучи света, который, таким образом, светится сквозь него; но когда он виден во всей своей массе, то выглядит практически темно-синим (или глубоко-синим; буквально «выглядит как имеющий цвет kuanos»). «Это снова является результатом его разреженности, так как там, где слабеет свет, воздух уступает темноте»[46]. Сам термин kuanous у Аристотеля обычно означает синий, граничащий с черным, но фрагмент из трактата о цветах позволяет предполагать, что в перечне, представленном в трактате о чувствах («De sensu»), он означает не просто темно-синий, а еще и небесно-голубой. Итак, основу перечня Аристотеля составляют конкретные цвета, наблюдаемые в природе, а не какая-то система абстрактных терминов. Впрочем мы, конечно же, ожидали найти такую систему именно в этом контексте рассуждений о видах цвета.
Таким образом, свидетельства Аристотеля указывают на две вещи: больший интерес в отношении цвета как та-кового, по сравнению с «модальностями и формами света» Гомера, и продолжающаяся зависимость описания цвета от обращения к каким-то конкретным имеющим цвет предметам. В то же самое время здесь снова можно видеть некоторые признаки прогресса по направлению к абстрактности словаря терминов для передачи цвета: в дополнение к уже существующим обозначениям белого, черного и красного здесь, по-видимому, появляется и общее слово для выражения желтого (ochros Платона, употребляемое Аристотелем по отношению к желтку яй-ца); и, как я уже говорил, kuanous Аристотеля может быть попыткой выражения категории синего. В этом случае расширение значения ослабило бы первоначальную связь с kuanos. Также является спорным, что слово prasinos, «травянисто-зеленый», употребляемое Демокритом, Платоном, а также Аристотелем, может уже использоваться как общее обозначение для выражения зеленого, как это, без сомнения, видно в более поздней Греции. Но даже если это так, то все еще остается в значительной мере спорным вопрос о том, как широко эти термины могли употребляться таким же образом в обыденном языке.
Однако в греческой поэзии послегомеровского периода еще сложнее разобраться, чем в поэзии самого Гомера. (Прозаики, за исключением философов, лишь очень редко обращаются к цвету и в настоящем контексте вполне могут быть оставлены без внимания). Более поздняя греческая поэзия является более осознанно художествен-ной; и в ней особенно проявляется своеобразная любовь к реминисценции и подражанию, главным образом тому, что писал Гомер. Эллинский поэт Аполлоний Родосский, например, говорит о крови как kuaneos, не глубоко-синей, а «темной»[47]; по такому же образцу римские поэты могут употреблять слово caeruleus, например, по отношению к грозовой туче[48]. Опять же здесь наблюдается естественная тенденция к идеализации употребления слов для передачи цвета. Например, у Эврипида героические фигуры автоматически являются xanthoi, хотя то же самое, как правило, верно, по крайней мере в отношении греческих героев, у Гомера[49]. В связи с этими сложностями после-гомеровская поэзия может дать нам мало полезного для того, чтобы проследить развитие терминологии цвета. Появляются лишь два факта: во-первых, поэты после-гомеровского времени намного больше используют цвет в своих описаниях; во-вторых, цветовой тезаурус Гомера претерпевает модификацию значений, во многом сходную с той, что мы находим в философских рассждениях о цвете, с меньшим акцентом на яркость и темноту и, соответственно, большим обращением к «собственно цвету».
В то же время, сравнение двух типов после-гомеровских свидетельств — философских и литературных — под-сказывает, что мы должны принять возможность независимого развития двух различных видов терминологии для передачи цвета — поэтического и прозаического. Растущее расхождение поэтического и прозаического употреб-ления иллюстрируется словами для выражения зеленого и желтого цвета: в поэзии стандартным словом для обозначения зеленого (если мы вообще можем говорить о стандартных словах) является chloros, хотя оно упот-реблялось и Демокритом; Платон и Аристотель употребляют prasinos, «травянисто-зеленый», Теофраст — poodes, «зеленый как трава». Что же касается желтого, то поэты склонны употреблять слово chruseos, «золоти-стый», в то время как Платон и Аристотель используют ochros. Prasinos никогда не употребляется в поэзии, a ochor — никогда в точном значении «желтый».
Наиболее примечательной чертой выражений для передачи цвета на протяжении всей греческой античности яв-ляется неконкретность. Точная передача цвета, как правило, достигается лишь посредством прямого сравнения с привычными предметами; и это также определяет основной способ расширения диапазона имеющихся терминов для передачи цвета путем образования новых составных слов. Картина, представленная философами, своей тщательностью, по большей части, как мы видели, обязана самим философам. Мы можем легко абстрагировать-ся от того, насколько ближе греки стояли к истокам языка. Но опять же, сама греческая литература далека от примитивной: тонкие эффекты использования Гомером яркости и темноты соответствуют богатству сравнений более поздней поэзии, которая, что парадоксально, вынуждена при видимой бедности языка полагаться на ана-логию. Даже вне связи с литературой так называемый «примитивизм» греческой терминологии для передачи цве-та может рассматриваться как отражение большей осознанности изменчивости цветов в естественном окружении; в действительности абстрактный словарь является искусственным, и сведение мира цвета к нескольким простым категориям слишком упрощает его и лишает утонченности.
Что касается латыни, у нас или совсем нет свидетельств в отношении доклассического периода или их очень ма-ло. К I столетию до н. э., относительно которого мы уже располагаем некоторыми свидетельствами, латинский язык достиг стадии развития, сравнимой с уровнем развития греческого языка четвертого столетия. Для римлян было обычным делом восхищаться большим богатством экспрессии, присущим грекам: Лукреций, эпикурейский поэт-философ, сокрушается по поводу бедности своего родного языка: «patrii sermonis egestas» (Родной язык скуден (лат). — Прим. ред) [50]; в то время как Цицерон, со своей стороны, пытается защитить латинский язык от нападок. «Я часто заявлял, — говорит он, — несмотря на возражения не только греков, но и тех, кто хочет, чтобы их считали скорее греками, чем римлянами, что наш словарный запас не только не уступает греческому по богатству, но даже превосходит его»[51]. В обоих случаях речь идет лишь о способности латыни выражать технические детали греческой философии; но позднее Авл Геллий вторил сетованиям Лукреция именно в отношении терминологии для передачи цвета[52]. В этом он, вероятнее всего, ошибался: как утверждает Андре, его истинное недовольство имеет общий характер, заключающийся в том, что диапазон разнообразия цвета всегда будет большим, чем количество терминов для его выражения, имеющихся в словаре[53]. Доказательства, собранные Андре, говорят о том, что латинский словарный запас терминов для выражения цвета был, по меньшей мере, столь же богатым, как и греческий.
Латынь имеет приблизительно такое же количество абстрактных терминов для передачи цвета, как и греческий язык IV столетия: такие термины имеются для определения белого, черного, красного, желтого, зеленого и, воз-можно, синего. Caeruleus, синий, вероятно, был позаимствовал прозой из поэзии[54], точно так же, как Платон и Аристотель могли позаимствовать kuaneos у Гомера. В поэзии слово caeruleus является постоянным эпитетом для неба и моря, факт, который делает редкость синего моря и неба в греческой поэзии еще более удивитель-ным. Само слово происходит от caelum, «небо». Точно так же, как слово kuanous, индиго, или «глубокий синий», возможно, развилось из значений «темный», «темно-синий» до «синий», так и слово caeruleus могло, по аналогии, употребляться, например, Вергилием как синоним «черного».
Кроме этих абстрактных терминов, как и в греческом, имеется большой ряд слов типа «цвета ...»: niueus — «цве-та снега»; sanguineus — «цвета крови». Эти слова могут употребляться поэтами как синонимы основных терминов или, наряду с этим, могут быть использованы для придания большей точности ссылке на что-то. Здесь на-блюдается сходная неконкретность многих терминов и такое же разобщение поэтического и прозаического упот-ребления; расхождение, которое, опять же, поощряется склонностью поэтов к подражанию. Почти все жанры римской поэзии близко связаны с соответствующими им греческими; и употребление выражения для передачи цвета в греческой поэзии оказало на них особенно заметное влияние.
Развитие греческой и латинской терминологии цвета хорошо иллюстрируется перечнями цветов радуги, пред-ставленными в различные периоды. Гомер описал ее просто как porphureos, возможно как пурпурно-фиолетовую или же фиолетовую[56]. Ксенофан, поэт-философ шестого века, — как фиолетовую, желтовато-зеленую и мали-новую[57]; у Аристотеля цвета были: фиолетовый, травянисто-зеленый, «часто» золотисто-желтый и малиновый; для философа-стоика первого столетия Посидония, согласно Шульцу (хотя это весьма сомнительно), это были фиолетовый, синий (kuanous), травянисто-зеленый и красный цвета[58]; Сенека представляет их как фиолетовый, синий, зеленый, желто-оранжевый и «цвет огня», то есть красный[59], и, наконец, Аммиан Марцеллин, римский историк IV столетия нашей эры, перечисляет фиолетовый, синий, зеленый, желтый, «золотисто-желтый или ры-жевато-коричневый»[60] и малиновый[61]. Из ньютоновского ряда семи цветов спектра в списке Аммиана не хва-тает лишь индиго, что, как отмечает Гиппер, скорее всего отражает предпочтение Ньютоном числа 762. Феномен радуги был одинаков во все периоды; и греки и римляне всех периодов обладали одной и той же способностью различать цвета. Пробелы в более ранних перечнях обусловлены, главным образом, возможностями языка на тот или иной период. Это положение стоит повторить: различение цветов и их обозначение — это два совершен-но различных процесса. Любой наблюдатель с нормальным зрением будет в состоянии, по крайней мере, разли-чить предметы, имеющие резко контрастирующие цвета, какие бы цвета это ни были; но если он должен назвать эти цвета, то для этого в языке должны иметься соответствующие термины. В то же время, кажется разумным предположить, что количество имеющихся терминов налагает ограничения на количество цветов, которые он бу-дет считать «действительно различными». Аристотель называет лишь три или четыре цвета радуги потому, что эти цвета, так сказать, выделены для него языком. Позднее, с развитием языка, все большее количество цветов отделяется от соседствующих с ними и обретает свою идентичность. (Двух поэтов, Гомера и Ксенофана, навер-ное, не следует включать в эту специфическую дискуссию: ни тот, ни другой не обязательно должны были давать полный перечень цветов радуги в поэтическом контексте, независимо от того, способны они это сделать или нет).
Классический цветовой символизм — явление куда менее сложное и запутанное, чем применительно к другим периодам и культурам; однако его стоит рассмотреть в общем контексте представлений о цвете древнего мира.
Во многих примитивных обществах мы встречаем основные пары противоположностей, которые имеют некоторое особенное символическое значение: такие пары, как верх и низ, право и лево, свет и тьма. Верх, право и свет обычно ассоциируются с добром и жизнью, а их противоположности — со злом и смертью[63]. Белое и черное, близко связанные со светом и тьмой, представляют еще одну такую пару. Как в греческом, так и в римском обществах эти примитивные ассоциации, на удивление в значительной степени сохранились; но особенно те, что касаются этих двух пар: света и тьмы, черного и белого.
Связь между этими двумя парами настолько близка, что их трудно разделить. С исторической точки зрения, свет и тьма — без сомнения, первичная пара; ассоциации белого и черного берут свое начало непосредственно от их отождествления со светом и тьмой. Как мы уже видели, в ранней греческой литературе категории белого и свет-лого, черного и темного передаются одними и теми же словами. Однако, несмотря на то, что направленность этих слов конкретно на цвет — постоянно растет, своего символического значения они отнюдь не теряют. Не только в поэзии, но и в обыденной жизни, а особенно в ритуальных традициях, эти ассоциации сохраняются.
Гомер описывал смерть как «темную» (melas); в «Одиссее» души убитых поклонников Пенелопы повинуются тре-бованиям Гермеса:
«...и с писком они полетели.
Так же, как в темном пространстве пещеры
летучие мыши
Носятся с писком, когда с каменистого свода,
где густо
Все теснятся они, одна упадет вдруг на землю, — С писком таким же и души неслись. Их вел за собою Темным и затхлым путем Гермес, исцеленье несущий, Мчались они мимо струй океанских,
скалы левкадийской [белой], Мимо ворот Гелиоса и мимо страны сновидений. Вскоре рой их достиг асфодельного луга, который Душам — призракам смертных уставших —
обителью служит»[64].
Переход от жизни к смерти — это переход от света к тьме: мимо белой скалы (левкадийской), мимо ворот захо-дящего солнца, мимо призрачного мира сновидений. Контраст усиливается отдаленным сравнением: в свите те-перь — создания ночи, вытесненные из жизни, подобно встревоженным летучим мышам.
Никто не может усомниться в силе ассоциаций между темнотой и смертью, светом и жизнью у Гомера. И, что бо-лее важно, мы находим здесь нечто похожее на сугубо символическое употребление термина, передающего цвет. Ученые не смогли прийти к согласию по поводу точного значения белой (левкадийской) скалы и выдвинули по этому поводу различные объяснения, в равной мере рациональные: нам говорят, что скала белая оттого, что на нее падают лучи заходящего солнца; или же — потому, что ее надо отождествлять с мысом Левкас в Эпире, северо-западнее Итаки. Ни одно из объяснений не является убедительным. Подобно океану, омывающему землю, и воротам солнца, скала отмечает границу между этим миром и потусторонним; а белая она потому, что эта гра-ница является также границей света и жизни. Точно так же белые животные приносятся в жертву Олимпийским богам, а черные — душам мертвых: так в «Одиссее» (XX), по наставлениям Цирцеи, Одиссей обещает душе мертвого провидца Тиресия черных овец в обмен на совет о том, как ему вернуться домой. Белые — для олим-пийцев, черные — для хтонических богов; это, похоже, было общим правилом для древних ритуалов[65].
Белое у поэтов является признаком божественности и красоты: Гера является leukolenos, «белорукой»; Венера Candida. В особенности же белизна связана как эпитет с дружелюбно относящимися к человечеству богам: Дио-скурами — богами-покровителями моряков, которые постоянно описываюится как leukippoi, leukopoloi, «верхом на белых лошадях»; Паксом и Конкордией. Парки иногда описываются как candidae sorores, «белые сестры», когда они плетут белые нити, или нити счастья; иногда как sorores nigrae, «черные сестры», когда их нити являются «черными нитями горя»[66].
Таким образом, слова для обозначения белого и черного обрели дополнительные значения — «счастливый» и «несчастливый», «радостный» и «безрадостный»: счастливый день — это leuke hemere, albus (или candidus) dies, a несчастливый день — dies ater. В таких случаях, когда выражения закрепились повсеместным употреблением, первоначальные символические ассоциации, без сомнения, теряются; такое же закрепление, безусловно, про-изошло и в ритуальном применении белого и черного. Плутарх, когда писал во времена империи, мог лишь га-дать, почему умерших заворачивают в белое; его объяснение является чисто рациональным, основанным, на платонической и пифагорейской догме: «они облачают труп таким образом, потому что не могут сделать это с душой, которую хотят отпустить светлой и чистой, как только что победоносно вернувшуюся с великой и тяжелой битвы...»[67]. Радке считает, что белое используется как магическая защита от зла, но его предположение ничем не лучше, чем у Плутарха.
Плутарх, по крайней мере, прав, ассоциируя белое с чистотой и непорочностью религиозного характера, даже если это и не имеет отношения к обсуждаемому случаю. Белые одежды, которые носят греческие и римские ре-лигиозные сановники, почти наверняка символизируют их безупречность, а следовательно, соответствие выпол-няемым функциям. Но вполне возможно, что мы не должны искать здесь никакой связи со светом: белое, вероят-но, такой же очевидный символ непорочности, как черное — смерти. Всегда существует опасность привнесения излишнего рационализма и порядка в явление, которое по самой своей сущности иррационально: у него своя логика, но эта логика имеет более близкую связь с чувством и эмоцией, чем со здравым смыслом.
Было показано, что противостояние света и тьмы не имеет почти никакого отношения к моральному дуализму[68]. Скорее, свет символизирует благополучие, добро вне морального контекста, а тьма — зло в смысле пагубности. Действительно, нравственной добродетели и злу, в нашем смысле этих слов, в раннем греческом обществе осо-бого значения не придается. «Слово agathos, предок нашего слова «хороший», изначально является предикатом, который особенно был связан с ролью аристократов времен Гомера. Слово во многих гомеровских контекстах отличается от нашего слова «хороший», так как оно не употребляется для того, чтобы сказать: «хорошо» быть величественным, храбрым и мудрым — то есть, оно не употребляется для того, чтобы хвалить эти качества в человеке, как может быть использовано наше слово «хорошо» современным поклонником идеалов Гомера... Вопрос «является ли [человек] agathos?» эквивалентен вопросу «является ли он храбрым, умным и величественным?» И ответом на него является ответ на вопрос «сражался ли он, был ли организатором и успешно ли правил?»[69]. Лишь постепенно слово agathos приобретает общий смысл «нравственно хороший». Присущее нам нравственное сознание в сущности является феноменом V и IV столетий До н.э. В Пифагореизме хорошее и плохое скорее ассоциируются с Ограниченным и Неограниченным или с Единицей и Множеством, чем со светом и тьмой, так как они являются парными началами Зороастризма, Ормаздом и Ариманом, несмотря на другие поразительные соотвествия между этими двумя доктринами, отмеченные самими древними.
Красный цвет также широко используется с символическим значением. В общем, похоже, что он символизирует жизнь и силу, значение которое несомненно исходит от его ассоциации с кровью. Красный играет важную роль в магических целебных средствах: Плиний Старший упоминает, что для лечения лихорадки используется «пыль, в которой обваляли ястреба, завернутая в красную полотняную ткань и перевязанная красной нитью», или «нос и кончики ушей мыши, завернутые в красную ткань»[70]; от головной боли применяется «растение, которое растет на голове статуи, завернутое в лоскут одежды и перевязанное красной нитью»[71]. Иногда используется сама кровь: для лечения эпилепсии упоминается черепашья кровь вместе с гранатовым соком[72]. Эпилептики также пьют кровь гладиаторов, говорит Плиний, «будто бы из живых чаш, хотя мы и содрогаемся от ужаса, когда видим, как это делают дикие животные здесь, на арене. Но... пациенты думают, что наиболее эффективно высасывать из самого человека еще теплую, живую кровь и прикладывают свои губы к ране, чтобы осушить чашу самой жизни»[73]. Красный также ассоциируется с обрядами плодородия[74]. Считалось, рассказывает нам Плиний, что менструальная кровь оказывает благотворное влияние на сельское хозяйство, хотя, в общем, она больше способствует злу, чем добру.
Во второй «Идиллии» Феокрита символическое значение красного менее очевидно: «Где мои Лавровые листья? Принеси мне их, Фестил. А где мои магические принадлежности? Оплети чашу тонкой малиновой шерстью, чтобы я могла приворожить мою любовь, столь безжалостную ко мне. Уже одиннадцать дней, как он не приходил ко мне...» В «Буколиках» (VIII) Вергилия в похожем контексте упоминаются три цвета: «Я беру три нити, выбирая их по трем цветам, и вначале обматываю вокруг тебя. Затем я обхожу вокруг алтаря с твоим изображением три раза. Боги любят нечетные числа. Чары мои, приведите Дафниса из города, верните Дафниса домой». (Подоб-ным образом в медицинских контекстах белое и черное встречаются наряду с красным; например, в описании лечения эпилепсии Цельсом.)[76] Здесь, вероятно, сохраняется лишь память о том, что цвета имеют магическую силу; что это за сила и почему цвета обладают ею — забыто. Точно также и с flammeum, огненно-красной фатой невесты[77]: согласно одному древнему толкователю, она была красной, «потому что невеста должна оберегать себя от краски стыда». Более правдоподобно объяснение Варроном использования красного в погребальных ритуалах в качестве замены жестоких и дорогих кровавых жертвоприношений более раннего периода.[78]
Намного проще и прямолинейней ассоциации пурпурного цвета, по крайней мере, в некоторых из его применений. В «Partheneion» Алкмана, седьмое столетие до н.э., хор поет: «недостаточно ни обилия пурпурного для нашей защиты, ни усыпанной блестками змеи из чистого золота, ни Лидийской шапки, гордости девиц с нежными глазами... Это Hagesichora, по ком мы тоскуем». Контекстом этой фрагментарной поэмы является состязание ме-жду соперничающими хорами: «простого убранства и красоты недостаточно; нам нужен наш предводитель Hagesichora». Лукреций с горечью пишет о суетности человеческих желаний: «Когда-то люди дрались за шкуры; теперь — за пурпур и золото. Таковы безделицы, которые омрачают человеческую жизнь чувством обиды и опус-тошают ее войной. Я не сомневаюсь, что в этом большая вина лежит на нас. Для человеческого рода, нагое со-стояние, отсутствие шкур означало действительное неудобство, причиняемое холодом; но нам совсем не повре-дит, если мы не станем ходить в одеяниях из пурпура, парчи и золота, блистательно расписанных»[79]. Плиний тоже предается нравоучениям, хотя его тон более литературен и затейлив: «Моральное разложение и роскошь не возникают в такой мере ни от чего другого, как от рода моллюсков... По-видимому, было недостаточно запих-нуть море в наши желудки; их следует еще носить на руках, в ушах на голове и по всему телу как мужчинам, так и женщинам. Какое отношение имеет наша одежда к морю?.. Мы входим в эту стихию должным образом, лишь ко-гда обнажены... Неужели это общее правило, что наибольшее удовлетворение мы получаем от роскоши, которая стоит человеческих жизней?»[80] Как свидетельствует Плиний, пурпурная краска была очень дорогой (а некото-рые ее разновидности — в особенности). Символизируя роскошь, пурпур, наряду с этим, являлся также знаком отличия или полномочий — как широкая пурпурная нашивка сенаторов, узкая полоска equites и toga praetexta су-дей с пурпурной оторочкой. Praetexta предназначались также вольнорожденным детям, когда это доступно. Пли-ний говорит, что они носили ее «pro rnaiestate pueritiae», «как знак достоинства детства»[81], что, без сомнения, можно расценивать как аргумент против ее использования судьями; такое же примечание дает и Квинтилиан[82]. Вундерлих пытается найти магическую первопричину такого использования, но это, по-видимому, излишне и не-правдоподобно. Пурпур является знаком отличия просто потому, что это дорогостоящий и выделяющийся цвет.
Этого и следовало ожидать. В силу своей простоты общие ассоциации черного, белого и пурпурного сохранялись, лишь укрепляясь с каждым последующим поколением. Но в более специальном употреблении цветовых терминов — в медицине или в ритуале — форма сохраняется, теряя значение. Постепенное застывание традиционной формы резко контрастирует с развитием и обновлением средств точного описания, предоставляемых самим языком.
Именно это развитие с наложением на него своеобразных тенденций греческой и римской поэтических традиций и является центральной темой этой статьи. И самый большой интерес в этом процессе представляет его самая ранняя стадия, обнаруживающаяся в поэмах Гомера, поскольку она раскрывает позицию по отношению к види-мому миру, заметно контрастирующую с нашей собственной. Но, по-видимому, такая позиция не является специ-фической для ранней Греции. В одном из последних исследований американских лингвистов[83] предполагается, что использование цвета Гомером подпадет под схему, общую для всех культур на определенной стадии разви-тия. «Некоторые языки имеют больше основных терминов [цвета], чем другие, но те термины, которые на самом деле существуют в языке, должны со временем фокусироваться на тех же позициях, что и в других языках. Более того, если в языке имеется, например, пять основных терминов для определения цвета, то эти пять всегда будут иметь свои центры приложения в одних и тех же местах...» «Основной» здесь приблизительно эквивалентно «абстрактному»[84]: «...скудный словарный запас для передачи цвета не означает неполноценное зрение; и каков бы ни был язык человека, он [человек] может добиться лучшего выражения цвета, образуя сложные фразы или упоминая определенно окрашенные предметы. Но для того, чтобы считаться основным термином для передачи цвета, слово должно быть единой лексической единицей (а не такой конструкцией, как «светло-синий», «лимонно-окрашенный» или «цвета ржавчины на старом шевроле моей тетки»). Это не должно быть просто подразделение термина более высокого порядка (как, скажем, «алый» или «малиновый», которые, бесспорно, являются разновидностями «красного»); термин должен быть достаточно широко применим (в отличие от слов типа «белесый», которое редко употребляется для чего-либо другого, кроме описания волос или древесины)...» Кроме того, что немаловажно, «обнаружены языки, имеющие не более двух основных терминов для выражения цвета, и эти термины всегда сосредоточиваются на черном и белом. Говорящему по-английски, возможно, удобнее полагать, что эти термины переводятся как наши «темный» и «светлый», но если спросить Жале из высокогорий Новой Гвинеи об истинном [«темном»], он укажет на цвет, о котором мы говорим как о черном, а, если спросить об истинном [«светлом»], он укажет на белое. (Говорящий по-английски, вероятно, укажет на черное и белое как свои «темное» и «светлое»)... Языки с тремя основными терминами в качестве третьего всегда включают термин, соответствующий нашему «красный». Большинство теплых цветов — желтые, оранжевые и коричневые — на этой стадии могут быть включены в понятие «красный», но центральное значение этого термина все равно остается на «собственно красном». Язык с четырьмя, основными цветовыми терминами добавит желтый или зеленый; с пятью — тот, что был упущен на предыдущей стадии; с шестью — добавит синий; а с семью — коричневый. В английском языке четырьмя дополнительными основными терминами считаются серый, розовый, оранжевый и пурпурный»[85].
Хотя эти исследователи и говорят о наличии связи между количеством имеющихся в языке «основных» терминов для передачи цвета и уровнем «культурного и технологического развития» употребляющего их общества, иссле-дование Берлина и Кая по своей сути не является изучением развития языка на основании имеющихся свиде-тельств относительно известных и находящихся сейчас в употреблении языков. Несмотря на это, связь между представленными ими данными в отношении языков с четырьмя, пятью и шестью терминами и развитием грече-ского языка в V и IV столетии поразительна. Но скудность и неоднозначность свидетельств того периода, вероят-но, делают такие сравнения опасными. Более того как я уже говорил в отношении ранней Греции, мы имеем чет-кие свидетельства употребления цвета в «Илиаде» и «Одиссее». Как мы видели, греки в эпоху Гомера имели са-мое большее три основных термина: для определения белого, черного и красного. Это явилось первой отличи-тельной чертой использования цвета Гомером; второй же — значение яркости и темноты, и особенно, неопреде-ленность положения leukos и melas между «белым» и «ярким» — в первом случае — и между «черным» и «тем-ным» — во втором, что может теперь рассматриваться (если Берлин и Кай правы[86]) как отражающее общую черту такого рода «скудного» цветового тезауруса. Конечно же, в этом случае предполагаемая связь между от-сутствием развитой терминологии цвета и низким уровнем культуры и технологии отпадает, так как при любом анализе в этих отношениях общество Гомера было весьма высоко развитым. Тем не менее, эта теория может быть полезна в той мере, в какой она может обеспечить прочную основу для различения (на котором .я настаи-вал) того, что является просто случайным, и того, что является сознательным и художественным в рамках сло-жившейся формы гомеровской поэзии. В то же время эта теория лишний раз отдает должное бесспорным дости-жениям Гомера.
Изменение сущности греческой терминологии цвета — это не просто лингвистический феномен, а воплощение изменений самого типа чувствительности. Точно так же, как мы, читая Гомера, должны учитывать иные, чем наши нравственные ценности, так мы должны перестроиться и на довольно отличный тип осомысления и восприятия видимого мира и не разочаровываться, не обнаруживая здесь тех приемов описания, которые мы привыкли счи-тать необходимыми атрибутами поэтического. Гомер воспринимал мир в основном не в цвете, а как сверкающий, светящийся, блестящий и пылающий. Его мир проще, но от этого он не менее реален.
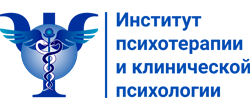

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству




 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
