Библиотека » Гипноз, метафоры, аутогенная тренировка » Фридмен Д., Комбс Д. Конструирование иных реальностей. Истории и рассказы как терапия
Автор книги: Фридмен Д., Комбс Д.
Книга: Фридмен Д., Комбс Д. Конструирование иных реальностей. Истории и рассказы как терапия
Фридмен Д., Комбс Д. - Фридмен Д., Комбс Д. Конструирование иных реальностей. Истории и рассказы как терапия читать книгу онлайн
Джилл Фридмен и Джин Комбс
Конструирование
иных реальностей
Истории и рассказы как терапия
УДК
Книга посвящена нарративной (повествовательной) терапии, в основе которой лежит работа с жизненными историями клиентов: анлиз проблемных историй и создание альтернативных повествований, открывающих новые перспективы для людей. Основываясь на постмодернистском мировоззрении, этот подход отвергает сложившуюся иерархию в отношениях “терапевт-клиент”, предоставляя людям пространство для выбора предпочтительных направлений развития. В первой части раскрываются теоретические основы нарративного подхода, разбираются основные понятия постмодернизма и социального конструктивизма. Практическая сторона нарративной терапии иллюстрирована многочисленными примерами из практики авторов, приводятся три подробные стенограммы терапевтических сеансов. В последней части книги обсуждаются вопросы терапевтической этики, недостатки общепринятых этических норм и важность учета социального контекста в терапии.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Изначально это предисловие виделось как кружево, сплетенное из множества голосов — голосов терапевтов, которые изучали нарративные идеи и использовали их в своей работе, и голосов людей, которые консультировались у нарративных терапевтов и переживали эти идеи на практике. Итак, в один прекрасный субботний день семеро нас — Дайэн Чизмен, С. Мишел Коэн, Чэрил Дэвис, Лиз Грэй, Энн Коген, Эл Росс и Дайна Шульмен — встретились и в течение двух часов обсуждали свой опыт. Позже мы (ЭР и ДШ) решили еще раз просмотреть видеопленку нашей беседы и выделить из нее некоторые фрагменты, которые мы затем планировали дополнить своими размышлениями. Однако, поскольку каждая индивидуальная история оказалась настолько богатой и своеобразной, это оказалось невыполнимой задачей. Примерно в то же время я (ДЧ) начала обсуждать эту книгу с моей близкой подругой, с которой Джилл проводила терапию. Она проглотила книгу залпом, и ее буквально распирало от новостей о том, как она изменила путешествие ее жизни. Я рассказала Элу о нашем обсуждении и предложила, чтобы каждый из нас троих написал бы свою историю и передал ее дальше так, чтобы мы могли теснее приблизиться к нашему изначальному видению. Итак, мы начинаем — сначала моя подруга, которая предпочла не называть своего имени, потом я, Дайна, недавняя выпускница школы социальной работы, а затем Эл, опытный клиницист.
I
Мне было 23 года, когда я начала испытывать вполне ощутимые приступы паники. Это был ад. Мне понадобилось еще два года, чтобы увидеть в них симптом, связанный с испытанным в детстве насилием. И лишь 12 лет спустя я пришла к пониманию того, насколько жестоко надругался надо мной мой отец — сексуально, физически и эмоционально. Мне трудно сказать, какая из граней моей жизни пострадала от этого насилия более всего. С тех пор, эры насилия и беспорядка скрепились запекшейся кровью. Но я, с полной определенностью, могу сказать, что поразительно долгие поиски помощи слишком часто, как это ни печально, несли оскорбление как в себе, так и для себя.
Напряженная работа и самоотверженность подвели меня к кульминации жизни и вынесли на вершину карьеры в сфере исполнительских искусств. Медленный и тяжелый подъем по служебной лестнице в моей профессиональной жизни, как в зеркале, отражался в накатывающем ощущении, что меня засасывает в пучину мерзостного насилия. В тот момент, когда я получила пост первого вице-президента творческого отдела престижной промышленной организации, я проходила курс уже у двенадцатого по счету терапевта. Постоянные попытки отвергнуть растущую настойчивость, с которой каждый новый терапевт рекомендовал мне госпитализацию и новые лекарства, изматывали и подавляли меня. А финансовое бремя было просто непомерным. Потеря всего, ради чего я работала — мечты всей жизни — казалась неминуемой. На меня накатил эмоциональный паралич, беспомощность, и, в конце концов, суицидальные мысли, порожденные каверзным, трехстраничным психологическим заключением семилетней давности, раздулись до неуправляемой степени, не оставляя мне пространства для того, чтобы увидеть хоть что-то позитивное. Насилие со стороны процесса, наполненного смятением и фрустрацией и скрытого за пеленой тайны, привело меня к ощущению повторной травмы. Я беспомощно сидела во тьме давнего надругательства, тогда как выводок “экспертов” сидел рядом, вынося суждения о том, что же у меня “не в порядке”. В меня вселилась боль. Это СТАЛО эрой безысходности.
Отчаявшись увидеть хоть какую-то перспективу, я удалилась в дом подруги, которая проявила неутомимость в попытках помочь мне найти выход. В мой первый день этой “эмоциональной отключки” мне позвонила Дайна Шульмен, другая моя подруга, которая часто с энтузиазмом рассказывала о своей работе в качестве терапевта. В течение некоторого времени я благоговела перед ней, поражаясь ее неподдельному состраданию к пациентам и уважению к коллегам и учителям из круга нарративной терапии. Она мягко уговорила меня пойти на прием к Джилл Фридман, объясняя, что “на этот раз все будет по-другому”. Я пошла. Все было по-другому. И воздействие последующей терапии привело к явной поворотному пункту.
Рабочий процесс, с помощью которого Джилл Фридман освобождала меня от стальных вериг надвигающейся тьмы, был одновременно принудительным, бросающим вызов, приносящим озарение, но никогда — угрожающим или таинственным. Мне казалось, что я как бы сижу на тропинке, поросшей терниями, которые обволакивают меня, оставляя мне мучительную роль свидетеля сужения круга выбора. И теперь Джилл стоит надо мной, энергично расчищая заросли, чтобы я смогла увидеть дорогу, которую мне стоит выбрать. Она открыла для меня возможности выбора, и возможности стали действительно моими, ждущими моего решения. Она контролирует меня, как бы спрашивая: “Куда бы мы могли отправиться?” Если я оказываюсь в тупике, она может сказать: “Тебе не кажется, что мы могли бы пойти сюда... или туда?” И я вольна согласиться или отказаться. Временами, в ходе этого путешествия, я могу присесть и рассказать историю или просто спокойно отдохнуть, поскольку путь может быть утомительным. И я постоянно поражаюсь и восхищаюсь тем, что она рядом со мной каждым ударом своего сердца. Глаза в глаза.
Я начала разворачивать процесс исцеления.
Теперь я пытаюсь увидеть, как насилие может существовать вне меня. Не обольщайтесь, это лишь суть. На самом деле, я вытягиваю тьму насилия ИЗ СЕБЯ.
Я часто замечала, что с каждым маленьким шагом к исцелению у меня внезапно менялось отношение к реакции “это хорошо”, ведь ничто в разрушительном пробуждении прошлого унижения нельзя воспринимать как “хорошее”. Итак, мы (я и моя команда — Джилл и Дайна) встали на тропу “белого направления” * [С чувством беспокойства и сожаления я обращаюсь к тому факту, что использование моих метафор черного и белого может навести на мысль о расизме. Мои цветные карандаши (наиболее важный инструмент в моем исцелении) воссоздают для меня то осеннее ликование моего детства, когда начало учебного года сулит начало новой жизни... желанная, новенькая коробочка с 64 цветами. Мой черный карандаш просто обозначает ту тьму, в которой я жила в те ночи унижения. Я лишь однажды раскрасила концепцию исцеления. Это случилось сразу после прочтения этой книги. Исцеление олицетворяется радугой, символизируя все цвета и возможности выбора. Когда на предмет падает белый (ясный) свет, они склонны отражать заложенный в них цвет. Поскольку я только что проглотила работы Майкла Уайта (White (англ.) — белый. Прим. перев.), я выбрала термин “белое направление” из уважения к тем ценностям, которые он олицетворяет.], которое работает против унижения и “черного направления”, которое работает на унижение. Медленно и осторожно я пришла к убеждению, что если я хочу подняться над этим отравляющим жизнь препятствием, то мне следует довериться белому направлению. “Белые инструменты” стали символом этого направления. Для меня, это музыка, цветные карандаши, свечи и, не в последнюю очередь, готовность принять любовь и поддержку от тех, кто стремится ими поделиться... как бы ни тяжело их было принимать. Я постепенно передала свои “черные инструменты” своей подруге Дайне, которой я обязана по причинам очевидным, но пока не передаваемым в наших земных терминах.
Более всего я была поражена просто своим осознанием того факта, что терапия действительно может действительно иметь терапевтический характер. И с некоторым налетом шутливого легкомыслия я говорю... “Кто бы мог подумать?”
Зерно моей преданности “белому направлению” было брошено в почву, когда я прочитала эту книгу. И оно последовательно подпитывается постоянным терпением, пониманием и приятным сочувствием моих соратников, хотя все это я продолжаю воспринимать с трогательным недоверием.
Я надеюсь, что эта книга побудит многих увидеть “белое направление” и обрести надежду, что кто-то проявляет заботу и что-то кто захочет увидеть жемчужину среди мусора. Я надеюсь, что многие поймут, что под токсичностью проблем и интенсивной боли лежит блистательная уникальность, которая проявится как значимый и поразительный вклад в наше бытие. А теперь мы можем убрать свою кисть и обратить взор на безбрежность возможностей, которые лежат за этой тропой.
II
Когда я обдумывала возможность своего участия в этом предисловии, передо мной встали некоторые препятствия. Я думала: “Кто я такая, чтобы писать это предисловие? Я — не специалист в этой области. Я пока еще участвую в учебной программе. Как я могу оценивать значение этой книги и нарративные идеи как таковые?” В один прекрасный день, читая эту книгу (на самом деле, ожидая парикмахера), я поняла, что меня соблазняет тот доминирующий дискурс, который должен присутствовать в этом предисловии. Если наша жизнь состоит из историй, которые составляют основу нарративной терапии, то разве не было бы замечательно, если я просто смогла бы рассказать историю того, как эта книга и нарративные идеи вообще повлияли на мою жизнь?
Я думаю, что мне повезло. Я познакомилась с нарративной терапии, будучи интерном второго года обучения. В тот год я начала нащупывать свой путь среди различных теорий, которым я обучалась в колледже, и одновременно изучала нарративную терапию в интернатуре. Я боролась за то, чтобы найти свою личную теорию, и находила привлекательность в этих нарративных идеях — в особенности, когда мне приходилось их использовать. Тем не менее, поначалу я обнаружила, что недостаточно использовать лишь некоторые из этих техник, и задалась идеей узнать больше о тех идеях, которые лежат в их основе. Затем я начала читать труды Майкла Уайта, Дэвида Эпстона, Джилл Фридман и Джина Комбса, одновременно посещая конференции, которые повышали для меня привлекательность этих идей.
Как начинающий терапевт, я почти ощущала себя кудесницей, у которой, как предполагается, имеется некий “секрет”, который позволяет ей решить все проблемы и ответить на все вопросы. Я поняла, что это недостижимая цель и неподъемная ноша. Тем не менее, используя нарративную терапию, я обнаружила, что эту ношу можно поднять, я что я просто могу быть самой собой. Исходя из позиции “не-знания”, я укрепила свое спокойствие и нравственность, узнавая от клиентов, как разворачиваются их истории. Поначалу эта прозрачность казалась пугающей. Как я могу делиться чем-то со своими клиентами, если у меня нет ответов на все вопросы? И все же, у меня было прекрасное чувство, что я могу сотрудничать с ними как с командой, а не ощущать одиночество в ходе процесса. Кроме того, казалось, что идея команды выносит взаимоотношения “клиент-терапевт” на новый уровень, порождающий нескончаемые возможности.
Одна из ситуаций, с которой я постоянно боролась в практической терапии, это втягивание в боль всех проблем. Нарративная терапия бросает новый свет на эту борьбу. Она научила меня тому, что “проблемы есть проблемы, а люди есть люди.” Экстернализация проблем, вынесение их вовне, позволила мне видеть людей такими как они есть. Я могу видеть их как проблемы, или я могу видеть их как истории. Проблемы держат вас в царстве боли, тогда как истории открывают вам новые возможности. В ходе учебной программы я пыталась взглянуть на истории с точки зрения журналиста, исследуя ее под разными углами. Каждая история — это тайна, и моя задача заключается в том, чтобы помочь определить сюжет и контрсюжет. После этого клиенту позволено выбрать то, что он предпочитает.
Чтение этой книги помогло мне выяснить те причины, по которым я выбрала нарративную терапию. Читая литературу патологического характера, я снова чувствую, как меня накрывает волной боли и пессимизма. Чтение этой книги вызывало во мне ощущение оптимизма. Возможности казались бесконечными. Каждая глава здорово помогла мне в работе, закрепляя то, что я изучаю. Огромный клинический опыт Джилл и Джина, многочисленные примеры случаев и стиль письма обусловливают легкую доступность этой книги.
Я, возможно, не смогу описать все аспекты нарратива, которые повлияли на мою профессиональную и личную жизнь. Я благодарна Джилл и Джину, чья программа позволила мне погрузиться в познание. Участие в этом предисловии дало мне возможность поразмышлять о своей собственной эволюции. Как и в нарративной терапии, когда кто-то получает шанс поразмышлять о собственной жизни, растут возможности выбора, вызывая волнение, вызванное пониманием того, что предпочтительные результаты вполне достижимы.
Дайна Шульмен
III
Примерно 24 года тому назад я усиленно совершенствовался в том, чтобы понять и принять общепринятые истины о терапии как свои собственные — я хотел стать “хорошим” терапевтом. Я, подобно Джилл и Джину пытался извлечь смысл из многообразия различных школ мысли. Это были поиски “теоретического крова.” На заднем плане — страшно заглушенные более громкими голосами “теории систем”, “психодинамической теории” и мириад других “радикальных подходов”, которые, как я надеялся, обеспечат мне искомое теоретическое ядро — звучали и слабые голоса, которые я едва мог различить. Эти робкие голоса, как я полагаю, в первую очередь и несут изначальную ответственность за то, что я пришел в эту область.
Эти голоса говорили мне об уважении к тому, люди есть люди, а проблемы есть проблемы. Они напоминали мне о том, что связь с теми, кто нас окружает, живыми или мертвыми, жизненно важна. Они готовили меня к тому, чтобы я стал сотрудником, а не экспертом в жизни людей, максимально используя их потребность в обучении и способности к анализу.
Со временем я понял, что идеи и убеждения, почерпнутые мной из обучения и супервизии редко отражают “мои” идеи и убеждения по поводу людей. Чем больше я стремился стать “хорошим клиницистом”, тем меньше я ощущал себя хорошим “я”. С тех пор я почувствовал, что многие популярные версии психотерапевтического знания действуют на меня удручающе. Тихие, но настойчивые голоса продолжали напоминать мне, что в действительности “знаю” очень мало о людях, и о том, почему они делают вещи, которые они делают. Эти голоса убедили меня в том, что “знание” — это не тот материал, из которого состоят хорошие терапевты. Однако у меня не было возможности выбрать законный путь, который позволил бы мне следовать за любопытством и удивлением, пробужденными этими голосами. Наконец я посетил конференцию, на которой я услышал, как Джилл и Джин озвучили свое удивление и волнение, говоря о нарративной терапии. В словах, высказанных на этом семинаре, я услышал эхо своих “собственных” голосов. Пока я, благоговея, сидел покрытый мурашками и глотал слезы, на горизонте появилась новая история.
По мере того, как эта история развивалась, я стал меньше беспокоиться о том, как объяснять свою работу на языке, доминирующем в культуре, и свободнее исследовать новые территории опыта. По мере того, как ускорялся этот сдвиг, меня охватило любопытство по поводу того, как сами жизненные “проблемы” развиваются с течением времени. Я задумался над тем, как социальный контекст влияет на жизнь этих проблем и на их взаимосвязь с людьми, сидящими в моем кабинете. И я обнаружил, что у меня есть множество вопросов, касающихся этих людей и их возможностей. Я дал себе разрешение задавать те вопросы, на которые ранее, как я думал, у меня есть ответы.
То, что случилось далее, стало, вероятно, самым богатым опытом моей профессиональной жизни. Я обнаружил, что как только я отказался от ответственности за поддержания и практики экспертного знания, опрашиваемые мной люди, на самом деле, дают ответы, замечательные образные ответы, которые точно говорят о их жизни и об их восприятии самих себя — об их истине. Я понял, что каждый человек, с которым мне когда-либо приходилось работать, обладал экспертным знанием о своей собственной жизни или “истории”.
Эти восприятия стали резонировать с теми голосами, которые я признал в качестве знания о моем собственном жизненном опыте. Заглушенные культурой, окопавшейся в науке и технологии, это “знание” оказывало минимальное влияние на мою работу терапевта и мою жизнь в целом. Но как только я стал исследовать ландшафт нарративной терапии, я обнаружил протяженные тропинки, которые привели меня под мой “теоретический кров.”
Сюжет приобрел насыщенность, когда я припомнил старые истории и еще более старые голоса, с которыми я утерял контакт много лет назад, когда я начал учиться на терапевта. Я восстанавливаю связь с теми формами бытия, которые согласуются с тем, что есть (как я полагаю) “я”, и с тем, что я выбрал в качестве своего “я”.
Я уверен, что то, что произошло со мной как с терапевтом, это именно то, что происходит с теми, с кем мне приходится работать в моем кабинете. Касается ли это бытия терапевта или бытия мужчины или бытия кавказца и т.д., сегодня я владею языком, который продуктивен для исследования реальных эффектов конкретных нарративов в моей жизни. Теперь я обладаю инструментами для оценки значения этих нарративов для себя самого. При этом, я не опираюсь на другие факторы нашей культуры. Я разрешаю себе сохранить или отбросить эти нарративы по своему желанию. В конце концов, я нашел сообщество других людей, которые поддерживают и укрепляют эти направления развития. Вместе с ними я сохраняю мужество и нахожу поддержку для преодоления постоянных препятствий языков, доминирующих в культуре.
Я не могу не рассказать о том, как глубоко повлияли на многие аспекты моей жизни слова и учение Джилл и Джина. Они сыграли так много ролей в раскрытии моих собственных “истин” и в выявлении тех нарративов, которые отражают растущее ощущение умиротворенности в моей терапевтической работе. Они действовали как со-визоры (Это слово нравится мне больше, чем “супер-визоры”). Их со-визорство, никогда не заглушаемое их супервизорством, открывало пространство для моего собственного видения. Они были со-трудниками, когда мы пытались найти пути распространения нашей работы в том сообществе, в котором мы живем. И наконец, что не менее важно, они стали друзьями. Их голоса влились в тот хор, который позволяет мне поддерживать связь с новыми, волнующими и предпочтительными путями развития в моей работе и в моей жизни. Весьма выразительно, трепетно и изящно эта книга описывает основы работы, которая приобретает известность как нарративная терапия. Это их введение в нарративную терапию пятилетней давности. Мысли и идеи, отраженные на этих страницах, открыли для меня новый мир возможностей. Я надеюсь, что вы, читатель этой книги, по мере ознакомления с идеями, убеждениями и практиками, составляющими нарративную терапию, отправитесь в путешествие, подобное совершенному мною ( которое будет длиться годами).
В этой книге Джилл и Джин будут говорить о “распространении слова.” Я весьма благодарен им за то, что они решились нести людям слово о той работе, которой они себя посвятили. Мне лишь интересно знать, испытывали ли Джилл и Джин на себе эффекты этой работы так же, как испытывали их я и другие. Мне любопытно знать, какое воздействие оказало и окажет написание и опубликование этой книги на их вечно развивающиеся истории. Я искренне польщен, что стал одним из тех, кого пригласили “нести слово” о своих разработках. Интересно понять, каким образом повлияет на ход моего путешествие ознакомление других с моей историей.
Элек Росс
ВВЕДЕНИЕ
Мы написали эту книгу в ответ на многочисленные просьбы осветить идеи, установки и практики, известные как “нарративная терапия.” Сделав этот обзор насколько возможно ясным, целостным и доступным, мы искренне надеемся, что вы воспримете его не как единственный способ практики нарративной терапии, но как иллюстрацию некоторых способов.* [Мы, вероятно, будем писать о разнообразии нарративных терапий с тем, чтобы отразить те различия, которые существуют в практике.]
Эта книга, главным образом, концентрируется на методах работы, которые сформировались среди терапевтов, которые, воодушевленные новаторскими усилиями Майкла Уайта и Дэвида Эпсона, организовали свое мышление через две метафоры: нарратив (повествование) и социальная конструкция. Семь из десяти глав посвящены специфическим клиническим практикам. В этих главах каждая практика описана, сопряжена с идеями и установками, которые лежат в ее основе и проиллюстрирована клиническими примерами.
Тем не менее, как мы будем подчеркивать на протяжении всей книги, мы не рекомендуем подходить к этим практикам как к “техникам” или пытаться использовать эти практики без основательного понимания того мировоззрения, из которого они возникли. По этой причине Главы 1 и 2 фокусируются на исторических, философских и идеологических аспектах мировоззрения нарратива/социального конструктивизма. В Главе 1 мы рассказываем историю нашего собственного развития как конкретных терапевтов в конкретной части мира в течение конкретного исторического периода. Мы надеемся, что, помещая себя в такой контекст, мы дадим вам некоторое представление о том, как воспринимать наши идеи, и побудим вас к присущему вам способу использования практик, почерпнутых из этой книги, приспосабливая их к вашим конкретным обстоятельствам и опыту. В Главе 2 мы пытаемся дать ясный, сжатый и не слишком заумный обзор тех философских идей, которые сформировали “нарративный” метод работы.
Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать две первые главы, прежде чем вы приметесь за клинический материал. Мы полагаем, что вы воспримите его по-другому, если сначала вникните в те идеи и установки, которые представляют эти практики. Тем не менее, некоторые люди сначала предпочитают испытать практики, а потом изучить идеи, лежащие в их основе. В этом случае вы можете вернуться к двум первым главам после того, как ознакомитесь с клиническим материалом.
Главы 3-6 фокусируются на практиках, которые составляют основу нашей клинической работы. В Главе 3 мы познакомим вас с тем, как мы вступаем в контакт с людьми, получая от них проблемно-насыщенные истории; как мы выслушиваем их, побуждая воплощать проблемы, помещать их в социо-культурные контексты и раскрывать пространство для новых историй; и как (в случае, если лишь одного выслушивания оказывается недостаточно) создаем завязки для новых, менее проблематичных жизненных историй. В Главе 4 мы описываем практики для расширения входа в значительные, запоминающиеся истории со множеством поворотов, которые поддерживают предпочтительные ценности, действия и направления в жизни людей. В Главе 5 мы даем обзор процесса подхода-выслушивания-деконструкции-реконструкции, который мы обозначили в Главах 3 и 4 в контексте разнообразных вопросов, которые мы задаем в ходе этого процесса. Здесь содержится общая схема и предложения по поводу того, что спрашивать и когда. Глава 6 состоит из трех достаточно объемных стенограмм реальных бесед, которые, как мы полагаем, дадут вам ощущение процесса “расплетения нитей” в действии.
В главах 7, 8 и 9 описаны различные практики для “уплотнения” новых нарративов и распространения их в среде локальной культуры людей. В Главе 7 мы описываем тот важный корпус практик, которые выросли вокруг идеи “обратной связи”, начиная с “команд наблюдателей”. Кроме этого, здесь приводится взгляд на то, как терапевты могут осуществлять обратную связь сами, без команд, и как могут быть приглашены люди, чтобы делиться своими собственными и предпочтительными нарративами друг с другом по мере того, как последние возникают. В Главе 8 приводится обзор методов уплотнения предпочтительных историй посредством таких средств, как письма, документы, праздненства и особые практики опроса. Глава 9 описывает, как новые истории можно распространять в семьях, союзах, “заинтересованных сообществах” и пр. с тем, чтобы, в конечном счете, волны локальных изменений в индивидуальных историях смогли, перехлестнув в более крупное сообщество и распространившись по нему, смогли оказать на него влияние.
В Главе 10 мы снова увеличиваем масштаб нашего подхода, рассматривая этику, в особенности, особую этику взаимоотношений, которая направляет нас при использовании специфических нарративных практик.
Когда мы обучаем, мы пытаемся наделить наши занятия и семинары духом взаимодействия. И это отнюдь не только потому, что это предпочтительный для нас стиль. Это объясняется также и тем, что то, что возникает из взаимодействия, больше того, что мы вносим как учителя. Итак, при написании этой книги вы, читатель, были рядом с нами. Нам было интересно, что будет интересно вам, о чем вы будете думать и что скажете в различных точках этого пути. Мы были бы весьма обязаны вам, услышав ваши идеи, вопросы и размышления.
1
СМЕЩЕНИЕ ПАРАДИГМ: ОТ СИСТЕМ К ИСТОРИЯМ
Может, эту работу лучше определить как мировоззрение? Возможно, но даже этого недостаточно. Наверное, это — эпистемология, философия, личная преданность, политика, этика, практика, жизнь и так далее.
— Майкл Уайт, 1995, стр. 37
Строго говоря, истории нет; есть лишь биография.
— Ральф Уолдо Эмерсон, 1830
В этой книге рассказывается, как мы, два конкретных терапевта в рамках сообщества терапевтов, применяем две метафоры — “нарратив” и “социальная конструкция” — для организации своей клинической работы. Использование нарративной метафоры приводит нас к тому, чтобы видеть в жизни людей истории и работать с ними, чтобы пережить их жизненные истории, придав им значимый и завершенный характер. Использование метафоры социальной конструкции приводит нас к тому, чтобы рассматривать способы, посредством которых социальная, межличностная реальность каждого человека сконструирована через взаимодействие с другими людьми и человеческими установлениями. Этим также обусловлен фокус на влиянии социальных реальностей на смысл жизни людей.
Ведущая метафора, такая как нарратив, имеет не меньшее значение. Метафоры, посредством которых мы организуем свою работу оказывают мощное влияние как на то, что мы воспринимаем, так и на то, что мы делаем. Пол Розенблатт (1994) написал целую книгу, раскрывающую этот феномен в области семейной терапии. Он обсуждает такие метафоры, как “семья как сущность”, “семья как система”, “коммуникация” и “структура”. В ходе обсуждения он описывает не только то, что каждая метафора высвечивает, но также и то, что она скрывает, будучи призванной направлять мышление и восприятие человека.
Например, используя “структуру” в качестве ведущей метафоры, мы склонны рассматривать семьи как достаточно косные, геометрические комбинации людей. Такое мышление привело к развитию таких полезных понятий, как “триангуляция” и “границы”. Терапевты, использующие “структуру” как ведущую метафору, могут заниматься перестройкой, укреплением или ослаблением существующих структур. Они склоняются к тому, чтобы подходить к проблемам и их разрешению как своего рода плотники, архитекторы или скульпторы. Это может способствовать очень ясным, легко воспринимаемым и эффективным подходам к терапии.
Тем не менее, временами метафора “структура” побуждает нас уделять слишком мало внимания постоянно смещающимся и изменяющимся аспектам семейных взаимоотношений. Она может заморозить наши восприятия во времени и излишне упростить сложные взаимодействия. Она может побудить нас обращаться с людьми как с объектами, тем самым дегуманизируя терапевтический процесс. В каждой организующей метафоре есть свои плюсы и минусы.
Поскольку применяемые нами метафоры влияют на то, как мы смотрим, слушаем и чувствуем, мы тщательно обдумали те метафоры, которые выбрали. Здесь мы хотели бы поместить свой выбор в контекст своего терапевтического опыта.
Мы (Combs & Freedman, 1994b) присоединились к группе терапевтов и теоретиков терапии (напр., Anderson & Goolishian, 1988, 1990a; Gergen, 1985; Hoffman, 1990; White & Epston, 1990; Zimmerman & Dickerson, 1994a), выбрав метафоры нарратива и социальной конструкции, а не метафору систем, *[Обсуждение метафоры систем и множества способов ее применения в литературе по терапии см. de Shazer (1991, глава 2) и Auerswald (1987).] которая в течение последних десятилетий лежала в основе семейной терапии как теоретическая база для терапии.
Метафора “системы” сослужила полезную службу в этой области. Она дала нам ценную возможность обсуждать процессы, посредством которых люди присоединяются к паттернам, которые выходят за пределы их индивидуальных тел. Работа с такими процессами и паттернами взаимосвязи служила отличительной чертой семейной терапии. Тем не менее, точно так же, как идея индивидуальной психики и индивидуального тела некогда ограничивала нашу способность концептуализировать психику и работать с ней как с межличностным феноменом в семейных системах, идея “семейных систем” теперь может ограничить нашу способность размышлять о потоке идей в нашей более широкой культуре.
Нам кажется, что вы лучше поймете историю нашего очарования метафорами “нарратив” и “социальная конструкция”, если мы для начала расскажем о том, как мы работали до встречи с ними, когда нашей ведущей метафорой были “системы”.
КИБЕРНЕТИКА ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Мы (Дж. Ф и Дж. К) знакомы с метафорой систем, главным образом, по кибернетической парадигме, введение которой в нашу область обычно приписывают Грегори Бэйтсону. Норберт Винер (1950) ввел слово “кибернетика” для обозначения нарастающей массы знаний о структуре и потоке в системах обработки информации. Он вывел его из греческого корня (кубернетес)*[Это то же греческое слово, от которого происходит наше слово “governor” (“губернатор”, а также “регулятор”. Прим перев.), обозначающее как механический регулятор верхнего предела скорости двигателя, так и человека, который управляет штатом.], обозначающего кормчего корабля. Таким образом, кибернетика, по его разумению, была наукой руководства, контроля через некое подобие последовательных циклов исправления ошибок, которое позволяет держать курс корабля. Фактически, большая часть ранних работ по кибернетике проводилась в рамках разработок систем наведения ракет во время Второй Мировой Войны. Когда мы использовали метафору кибернетики для “наведения” своего мышления, мы были склонны концентрировать свое внимание на “нацеленности” терапии. Другими словами, мы были склонны представлять предлагаемую нами помощь как помощь в контролировании вещей для достижения специфической цели.
Работая в качестве начинающих семейных терапевтов, мы твердо придерживались принципов “стратегической терапии” (Erickson & Rossi, 1979; Haley, 1963, 1973, 1976; Madanes, 1981, 1984; Watzlawick, Weakland, & Fisch, 1974), многие идеи которой были заимствованы из кибернетики. Наше мышление терапевтов “стратегических кибернетических систем” концентрировалось на том, как семьи могут быть ввергнуты в повторяющиеся циклы незавершенного поведения. Наши интересы были направлены на неверно сбалансированные иерархические структуры. Мы задавались вопросом о том, что может сделать терапевт, чтобы прервать эти паттерны и направить семьи в русло здоровой, а не болезненной стабильности.
Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, что наша работа того времени направлялась не столько кибернетикой вообще, сколько “кибернетикой первого порядка”. С нашей сегодняшней точки зрения, теории кибернетики первого порядка призывают терапевтов рассматривать семьи как машины (термостаты, управляемые ракеты или компьютеры). Такой взгляд предполагает, что терапевт изолирован от семьи и способен ее контролировать, давать отстраненные, объективные оценки неблагополучия и приводить проблемы в порядок подобно тому, как механик приводит в порядок забарахливший двигатель. В те времена мы не замечали и не беспокоились о тех аспектах работы, которые сегодня нам кажутся отстраненными или механистичными. Мы были взволнованы, найдя способ говорить о людях в контексте их взаимодействия. Кроме того, практики, разработанные людьми, вроде Джэя Хейли и команды MRI, срабатывали, и это само по себе притягивало к ним.
Когда наша терапевтическая работа направлялась метафорами кибернетики первого порядка, мы концентрировали свои начальные усилия на том, чтобы добиться специфической цели для каждой семьи. Мы полагали, что часто неудачи людей в достижении своих целей объясняются тем, что они зацикливаются в повторяющихся паттернах поведения, все настойчивее и настойчивее пытаясь применить одно и то же “решение” снова и снова.
Если мы обнаружим повторяющийся паттерн, как мы полагали, то наша работа будет заключаться в том, чтобы разработать стратегическое вмешательство, которое разрушит его и перенаправит членов семьи в сторону новых моделей поведения. Это поможет им достичь своей цели, которая представлялась нам в виде некоего нового и более удовлетворительного гомеостатического баланса. Мы также полагали, что наша работа состояла в том, чтобы убедить семью принять разработанное нами вмешательство подобно тому, как задача врача состоит в том, чтобы убедить его *[Здесь намеренно вводятся патриархальные ассоциации] пациента принять выписанное им лекарство. Большинство приходящих к нам людей были удовлетворены тем, что мы делали, руководствуясь этой моделью. В течение нескольких лет она нам тоже нравилась. Но постепенно мы начали подвергать сомнению эффективность нашей практики.
Оглядываясь назад, теперь мы думаем, что идея контроля над целью побуждала нас становиться в еще более контролирующую позицию по отношению к людям, с которыми мы работали, в особенности, когда мы ощущали, что цели не достигались. Похоже, что наша работа, когда она направлялась метафорой “направления”, побуждала людей относиться к себе с большим контролем, более механистично. Теперь мы полагаем, что эта модель заставляла нас, как разработчиков искусных вмешательств, излишне доверять происходящим изменениям, тогда как люди, с которыми мы работали, вполне могли ощущать себя пассивными реципиентами внешней мудрости и излишне мало доверять себе. Итак, хотя люди обычно достигали свои цели, теперь нам кажется, что терапевтический опыт не укреплял их ощущения своего личного соучастия.
Не было ничего необычного в том, что терапевты описывали свои терапевтические сеансы исключительно в контексте проблемы и того, что они сделали, чтобы ее разрешить, или цели и того, что они сделали, чтобы ее достичь. Иногда казалось, что стратегия достижения специфической цели вынуждала как людей, с которыми мы работали, так и нас самих, не замечать интересные и полезные возможности, которые лежат вне пределов дороги к конкретной цели.
Линн Хоффман (1988, стр. 12), вспоминая свою собственную работу в рамках кибернетики первого порядка, пишет, что, когда она писала Foundations of Family Therapy (“Основы семейной терапии”) (Hoffman, 1981), она разворачивала картину этой работы, представляя “семью как машину”, а “терапевта как ремонтника”. Она (1988, стр. 111) пишет: “Если перед вами такая сущность, ее легче рассматривать в контексте дисфункции... Предполагалось, что терапевт знает, какой должна быть “функциональная” структура семьи, и что ему следует изменять ее в соответствии с этим.” Она (1988, стр. 111) также пишет об “общей тенденции объективировать патологию” в американской семейной терапии того времени, приводя ДСМ-III и “дисфунцкциональные семейные системы” в качестве примера объективированных патологий.
Тогда как мы полагали, что ищем в людях силу и ресурсы, мы вынуждены согласиться с Хоффман, кибернетика первого порядка слишком настойчиво призывала нас концентрироваться на дисфункциональном в жизни людей, которые приходили к нам на терапию. Она также побуждала нас рассматривать дисфункцию как фокус терапии. Оценивая потребности людей для достижения цели, мы невольно решали, что именно у них не в порядке.
КИБЕРНЕТИКА ВТОРОГО ПОРЯДКА
К тому времени, как Хоффман уже писала свою книгу, другие люди (напр., Dell, 1980, 1985a; Keeney, 1983; Keeney & Sprenkle, 1982; Watzlawick, 1984) начинали обдумывать системы в другом ключе. В прологе и эпилоге книги она (Hoffman, 1988, стр. 112) пыталась “выявить путь к модели, менее ориентированной на контроль, модели, которая не помещала бы терапевта вне семьи или над семьей.” Это новое направление мысли получило название “кибернетика второго порядка” или “кибернетика кибернетики”. Она развивалась по мере того, как люди начали понимать, что терапевт действительно не может делать “объективные” оценки и заключения, оставаясь вне семейных систем. Терапевт был, нравится это или нет, частью самой системы, проходящей терапию, и, следовательно, не был способен на отстраненную объективность. Люди также стали понимать, что изменение не менее важно, чем стабильность, и утверждать, что терапевты могли бы более успешно сконцентртироваться на том, как кибернетические системы постоянно изменяются во времени, а не на том, как они постоянно стремятся к гомеостатической стабильности.
По мере того, как фокус смещался от кибернетики первого порядка ко второму порядку, метафоры, применяемые терапевтами, стали изменяться. Там, где мы некогда говорили о регуляторах, термостатах и циклах обратной связи, мы начали думать в контексте биологических и экологических систем (Bateson, 1972, 1979; Bogdan, 1984). В наш язык вошли такие слова, как “коэволюция” и “со-творение”. Ауэрсвальд (1987, стр. 321) назвал эту новую парадигму парадигмой экологических систем. Он писал, что она определяет “семью как коэволюционную экосистему, расположенную в эволюционной системе пространства и времени.” Он рассматривал эту парадигму как глубоко отличную от парадигм “семейных систем”, которые ей предшествовали.
Примерно в это же время идеи кибернетики второго порядка стали вытеснять кибернетику первого порядка. Мы поехали учиться у Луиджи Босколо и Джанфранко Сеччина из команды Миланской системной семейной терапии (Boscolo, Cecchin, Hoffman, & Penn, 1987; Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, & Prata, 1980). Мы уверены, что идеи, которые они тогда представляли, являются архетипом кибернетики второго порядка в семейной терапии.
Миланская команда, работавшая в относительной изоляции от традиционной северо-американской семейной терапии, разработала свой собственный уникальный взгляд на то, как применять идеи Грегори Бэйтсона в практике семейной терапии. Вместо того, чтобы искать паттерны поведения, они искали паттерны смысла. Их интервью фокусировались на выявлении предпосылок или “мифа”, который формировал смысл действий членов семьи. Вокруг этого мифа они устраивали “мозговую атаку” всей командой и разрабатывали вмешательство, часто ритуальное, которое предписывалось осуществлять в конце каждого сеанса. Для интервью, помогающего найти семейный миф, они разработали характерную форму опроса, которую они назвали “круговым опросом” (Fleuridas, Nelson, & Rosenthal, 1986; Penn, 1982; Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, & Prata, 1980). Круговые вопросы предполагали, что члены семьи вовлечены в текущие взаимоотношения, что действия и эмоции каждого человека рекурсивно влияют на любого другого. Участники миланской команды использовали эти вопросы для того, чтобы выявить информацию о том, как работают взаимоотношения в семье. Затем эта информация используется для разработки гипотезы о семье, на основе которой формируются вмешательства.
Поначалу именно круговой опрос привлек наше внимание к миланской команде. Наш интерес к стратегическим подходам в терапии привел нас к интенсивному изучению работы Милтона Эриксона, в особенности его работы в области гипноза, которая заинтересовала нас косвенным внушением. Нам встретилась статья (Schmidt & Trenkle, 1985), в которой круговой опрос в миланском стиле рассматривался как способ привнесения косвенных гипнотических внушений — внушений, которые должны были влиять на одного или более членов семьи в ходе, казалось бы, обычного разговора между собой. Гюнтер Шмидт использовал вопросы, которые всегда являлись естественной частью каждого клинического интервью, скорее для того, чтобы давать, а не получать информацию. Это была захватывающая идея. И все же, как вы отметите, это была идея “терапевт находится вне системы и направляет ее”, почерпнутая из кибернетики первого порядка. Но как бы то ни было, она была захватывающей.
К тому времени, когда мы действительно поехали учиться у Босколо и Сеччина, они уже меньше внимания уделяли разработке вмешательств, а больше — опросу. Казалось, что сам процесс кругового опроса обладал некоей преобразующей силой; семьи изменялись по мере того, как члены семей выслушивали ответы друг друга. Опрос, казалось, поощрял любознательность и стремление узнать больше и больше о том, как члены семьи воспринимают мир и друг друга. Однако это осложняло удобство позиции терапевта, которая некогда заключалась в том, чтобы рассказывать людям каким должен быть их мир. Ища ответы на круговые вопросы, члены семьи вступали в реальность, которая концентрировала их внимание на взаимосвязанности, на том, как чувства и действия каждого отдельного члена влияют на чувства и действия других и подвержены влиянию с их стороны. В такой реальности вместо того, чтобы ждать внушений от терапевта, они размышляют над возникающей информацией о семье и о друг друге. Оглядываясь назад, мы видим, что эти факторы способствовали смягчению или сглаживанию иерархии между терапевтом и членами семьи.
Участвуя в процессе их супервизии, мы увидели и другие нововведения, которые разработали Босколо и Сеччин. Они использовали команды за зеркалом неведомым нам доселе образом. Команды действительно функционировали как команды. Вместо того, чтобы слушать, как супервизор в кабинете высказывает вслух свои мысли или дает советы терапевту, объекты супервизии за зеркалом участвовали в мозговой атаке. Хотя цель этих обсуждений состояла в том, чтобы прийти к единственному вмешательству или сообщению, часто повторяемый лозунг “Флиртуй со своими гипотезами, но никогда не вступай с ними в брак” предполагал, что эта цель ни в коем случае не должна стать единственной или конечной истиной. В команде соратников обсуждение такого рода снижало значение иерархии, которую мы привыкли ощущать между супервизорами и объектами супервизии, предоставляя последним больше возможности высказаться.
Команда разбивалась на Т-команду, которая напрямую помогала терапевту, и Н-команду, которая наблюдала за взаимодействием всей семьи, терапевта и Т-команды, как в комнате для терапии, так и в комнате для наблюдения. Тогда как Т-команда собиралась для обсуждения гипотезы, касающейся семьи, Н-команда встречалась отдельно для обсуждения гипотезы на трех уровнях: семейная система, система “семья-терапевт” и система “семья-терапевт-команда”. После каждого сеанса терапии команды встречались вместе и Н-команда начинала с обсуждения наблюдений своих участников на всех трех уровнях. Затем Т-команда обсуждала мышление, стоящее за выбранным ими вмешательством, за чем следовала дискуссия более общего характера, которая была призвана интегрировать идеи, исходящие от разных позиций. Размышления на всех этих уровнях убеждало людей в том, что терапевт не может быть отстраненным, “объективным” наблюдателем. В ходе всего процесса Босколо и Сеччин участвовали в нем скорее как члены команд, нежели как отстраненные или иерархически недосягаемые супервизоры.
Участие в супервизии команды миланского типа позволяло познавать многоуровневую и многонаправленную природу межличностного влияния. Простые круговые циклы обратной связи были неподходящей картой, для того, чтобы нанести на нее тот поток информации, который мы получали. Командная работа миланского стиля дала нам непосредственный опыт, позволяющий оценить значимость обратной перспективы в обсуждении. Этот опыт оказался весьма плодотворным.
Минимизация иерархии, поощрение разнообразных точек зрения и размышления над командным процессом, обогащенные введением Н-команды, вкупе с установкой на любознательность (Cecchin, 1987) и фокусом на взаимоотношениях, обусловленный использованием круговых вопросов — все это способствовало быстрой эволюции в нашей клинической практике. Идеи людей из нескольких групп миланского типа — Линн Хоффман (1981, 1985, 1988, 1990, 1991), которая сначала работала с группой Акермановского института, затем как часть команды в Брэттлборо, Вермонте, Том Андерсен (1987, 1991a) и его коллеги в Тромсе (Норвегия) и Карл Томм (1987a, 1987b, 1988) в Калгари (Канада) — вдохновляли и влияли на нас, *[На нас также сильно повлияли работы Харлен Андерсон, Гарри Гулишиана и их коллег (Anderson & Goolishian, 1988; Anderson, Goolishian, Pulliam, & Winderman, 1986; Anderson, Goolishian, & Winderman, 1986) из Галвестонского института в Хьюстоне, которые разрабатывали сходные идеи.] когда мы усиленно боролись за то, чтобы интегрировать идеи “кибернетики второго порядка” Босколо и Сеччина с нашей склонностью к эриксоновской стратегии. Похоже, что люди которые начали использовать команды миланского стиля в своих установках, могли помочь только тем, что развивали новые формы мышления и работы.
Метафоры, направляющие всех этих людей, первоначально склонялись к бэйтсоновским понятиям “экологии идей” (Bateson, 1972, 1979; Bogdan, 1984). *[Многие из людей, которые влияли на нас, в свою очередь, находились под сильным влиянием идей Умберто Матураны (напр., Maturana & Varela, 1987), чьи ведущие метафоры были основаны на биологии и физиологии. Возможно, из-за того, что мы никогда не изучали их достаточно подробно, мы никогда не находили эти идеи особо полезными.] Эти новые формы мышления были интересны и полезны тем, что помогали нам воспринимать себя как соучастников в одних и тех же системах, как членов семьи. Они также помогали нам фокусироваться на некоем потоке и изменении, присущих эволюции, таким образом снижая возможность “зацикливания”, которое иногда рука об руку идет с метафорами гомеостаза.
Когда нас направляли идеи коэволюции, мы уделяли гораздо больше сознательного внимания сотрудничеству, чем раньше. Вместо того, чтобы разрабатывать ритуалы и стратегию их выполнения людьми, мы спрашивали людей, какой сорт деятельности в промежутках между сеансами представляется им полезным, и использовали время сеанса для совместного создания ритуалов (Combs & Freedman, 1990). Ощущать себя “в процессе” означает отказаться от любого чувства объективности, касающегося специфических долговременных целей. Если выходные результаты клиента и терапевта коэволюционировали, мы не могли определить свой конечный пункт назначения ни в один из моментов настоящего. В своей лучшей форме, наш отказ от роли пилотов, правящих в направлении специфической цели, побуждал к смирению и сотрудничеству в любой момент, в ходе которого выяснялось, движется ли терапия в удовлетворительном направлении. В своей худшей форме, он приводил к ощущению беспомощности, бесцельному “совместному дрейфу”.
Мы испытали обе формы. Временами нам казалось, что мы сотрудничаем действительно новыми способами. Казалось, что в наших беседах появляется больше пространства для голосов и идей не-терапевтов. Мы думали, что люди гораздо полнее ощущают себя изобретательными и творческими существами, чем при наших ранних терапевтических методах. В другие моменты мы чувствовали себя потерянными, утратившими контакт и менее эффективными, чем когда либо. Казалось, что эта штука, коэволюция, требует больше терпения, чем мы привыкли проявлять.
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ
История, которую вы только что прочитали, “правдива”, но это еще не вся история. Мы писали так, как если бы наше продвижение к пониманию было четким и логичным, и как если бы наше понимание ясно и логично отражалось в нашей практике. Мы также писали так, как если бы нас направляла исключительно метафора кибернетических систем. Наш опыт в течение тех лет, о котором мы рассказывали, был, конечно, гораздо беспорядочнее и богаче.
До сих пор, в своей истории мы лишь по касательной упоминали влияние Милтона Эриксона на наше развитие. Эриксон недостаточно четко вписывался в историю наших усилий понять и применить метафору “система”. Он недостаточно четко вписывается в любые сводные теории в психотерапии. Как бы то ни было, Эриксон служил неиссякаемым и непреходящим источником для нас обоих.
Подход Эриксона к терапии имел прагматический и антитеоретический характер. Вот его типичное высказывание (Erickson & Rossi, 1979, стр. 233-34) по этому вопросу:
Психотерапевты не могут зависеть от общих шаблонов или стандартных процедур, которые без разбора применяются ко всем пациентам. Психотерапия — это не просто применение истин и принципов, предположительно обнаруженных академиками в ходе контролируемых лабораторных экспериментов. Каждая психотерапевтическая встреча уникальна. Она требует свежего творческого усилия как со стороны терапевта, так и со стороны пациента, призванного обнаружить принципы и средства для достижения терапевтического результата.
Эриксон (1965/1980, стр. 223) полагал, что работа терапевта состоит в том, чтобы понять убеждения и опыт людей, которые пришли к нему на консультацию. Убеждения терапевта не следует навязывать другим:
Задача терапевта не должна состоять в том, чтобы посредством своих убеждений и понимания обращать пациента в свою веру. Ни один пациент действительно не может понять понимание его терапевта. Кроме того, он в этом не нуждается. То что требуется, это развитие терапевтической ситуации, позволяющей пациенту использовать свое собственное мышление, свое собственное понимание, свои собственные эмоции таким образом, который лучше всего соответствует ему в его схеме жизни.
Мы встретились в 1980 на серьезном семинаре по эриксоновской терапии. (И мы пришли в состояние глубокого восхищения друг другом, но это уже другая история.) Хотя формально мы присутствовали там, чтобы изучать гипноз, сегодня нам ясно, что на самом деле мы хотели научиться тому, как культивировать те взаимоотношения, которые Эриксон создает с теми людьми, которые приходят к нему на консультацию. Нам нравилось, что Эриксон учитывал и уважал опыт тех людей, с которыми работал. Он культивировал такие терапевтические взаимоотношения, которые отодвигали на задний план профессиональные, теоретические идеи терапевта и благотворным образом помещали в центр внимания конкретные ситуации. Мы хотели усовершенствовать свои способности в этой области.
Эриксон демонстрировал живое и заинтересованное понимание людей. Он искренне и осязаемо верил, что в каждом человеческом существе есть нечто уникальное и замечательное. Задавая вопрос, он ожидал ответа, всем своим видом выражая восхищенное ожидание — с огоньком в глазах, воодушевляющей улыбкой и огромным терпением. Вы просто видели, что он знает, что любой человек, которому он задал вопрос, выдаст удивительный ответ, нечто такое, чего никто не ожидал.
Эриксон видел в людях изобретательность. Он верил в то, что мы все пожизненные ученики, и что жизнь — это приключение, когда никогда не знаешь, что тебя ожидает за следующим поворотом. Однако, что бы это ни было, это будет интересно, и мы наверняка справимся с этим. И, справляясь с этим, мы будем обучаться, расти и обогащать свою жизнь.
Именно Эриксон впервые заинтересовал нас терапевтическим использованием историй. Всем были известны его “обучающие рассказы”, и большая часть его терапевтической работы включала расширение и обогащение историй людей о себе самих. *[То, что принято называть его подходом “февральского человека” (Erickson & Rossi, 1980, 1989), это, вероятно, самый ясный и наиболее известный пример этого.] Часто это завершалось рассказыванием историй о случаях с другими людьми или о его собственном жизненном опыте. Первая наша совместная книга (Combs & Freedman, 1990) вышла в свет, во многом благодаря нашему интересу к тому, как Эриксон использовал истории, символы и ритуалы.
Для нас, наиболее впечатляющая иллюстрация понимания Эриксоном важности историй служит то, как он писал и переписывал свою историю жизни, наделяя позитивным смыслом то, что другие могут переживать как несчастье. Его борьба с полиомиелитом почти на протяжении всей жизни стала повторяющейся темой в его обучающих рассказах. Вместо того, чтобы причислять последствия полиомиелита к недостаткам, он описывал их как преимущества. Например, Сид Розен (1982, стр. 226-227) описывает историю, которую Эриксон рассказывал о тех временах, когда он был профессором медицины. У него был студент, который стал “излишне замкнутым и чрезвычайно чувствительным” после того, как он потерял ногу в автокатастрофе. Однажды утром он договорился с несколькими другими студентами помочь ему заблокировать лифт, и вот что произошло:
В тот понедельник, когда Джерри держал двери лифта открытыми, а Томми расположился наверху лестницы, я обнаружил, что класс ждет меня на первом этаже к семи тридцати... Я сказал: “Что с твоим пальцем, Сэм? Нажми кнопку лифта.”
Он сказал: “Я уже пробовал.”
Я сказал: “Может, твой палец настолько слаб, что тебе стоит использовать два пальца.”
Он сказал: “Я и это пробовал, но этот чертов привратник хочет спустить вниз все свои ведра и швабры и, наверное, держит двери лифта открытыми.”
... Наконец, в пять минут восьмого я повернулся к студенту с протезом ноги и сказал: “Давайте-ка мы, калеки, поковыляем наверх и оставим лифт для здоровых людей.”
“Мы, калеки” принялись ковылять наверх. Томми дал сигнал Джерри; Сэм нажал на кнопку. Здоровые ждали лифта. Мы, калеки, ковыляли вверх по лестнице. К концу этого часа этот студент снова обрел новую идентичность. Он принадлежал к профессиональной группе “Мы, калеки”. Я был профессором, у меня была больная нога. Он идентифицировался со мной, я — с ним.
Нас поразило то, что идентифицируясь со студентом медицины, Эриксон вписывал новую главу в свой личный нарратив. Он конструировал сообщество профессионально компетентных, способных, уважаемых врачей, которые имели четкое понятие о том, что значит быть “калекой”, и помещал себя в самую сердцевину этого сообщества.
К концу своей жизни, когда студенты начали беспокоиться по поводу его скорой кончины, Эриксон, вместо того, чтобы включаться в их потенциально пессимистические нарративы, рассказывал истории о долгой жизни его родителей и их оптимизме. Мы полагаем, что эти истории играли вдохновляющую роль для его студентов и самого Эриксона. Это развивало конструкцию умонастроения, что позволило ему сказать: “Я не намерен умирать. По крайней мере, это будет последняя вещь, которую я сделаю!” (Rosen, 1982, стр. 167).
Итак, именно в лице Эриксона мы впервые встретились с верой в то, что люди могут постоянно и активно пере-созидать свою жизнь. Тогда как история наших взаимоотношений с метафорой систем касается изменения, которое, в конечном счете, привело к расставанию с ней, история нашего отношения к метафоре пере-созидания рассказывает о постоянстве. Это центральная организующая идея этой книги. Преданность Эриксона делу настройки терапии на личность и его восхищение и уважение по отношению к тем, для кого он работал — это те аспекты его работы, которые мы стремимся поддерживать.
Есть и другие идеи, с которыми мы впервые познакомились через Эриксона. Они продолжают формировать нашу клиническую практику. Одна из них состоит в том, что существует много возможных эмпирических реальностей. Он писал: “В любой ситуации существует достаточно альтернатив... Когда вы посещаете сеанс групповой терапии, что вы хотите там увидеть? Это [множество альтернатив] то, за чем вы туда приходите” (Erickson & Rossi, 1981, стр. 206).
Эриксон использовал принцип альтернативных эмпирических реальностей в своей терапии и обучении. Он рассказывал истории об индейцах тарахумара, балийцах и других народах из разных регионов, чтобы внушить (помимо прочего) идею, что не следует ограничиваться врожденной системой ценностей. Он говорил: “Я всегда интересовался антропологией. И я думаю, что антропология должна стать предметом, о котором психотерапевты должны читать, в котором они должны разбираться, поскольку различные этнические группы думают по-разному” (Zeig, 1980, стр. 119).
Еще одна идея, с которой мы познакомились через Эриксона и которая продолжает воодушевлять нашу практику. Она заключается в том, что наши эмпирические реальности проявляют себя через язык. Эриксон был убежден в образующей силе языка. Значительная часть его работы строилась на предположении, что особый язык может привести к особым измененным состояниям сознания. Он часто говорил о том, что предлагая пришедшему к нему человеку более работоспособную реальность, важно выбрать верный язык.
Подводя итог и оглядываясь назад, мы отмечаем, как Эриксон повлиял на нас, и какие аспекты его работы мы особо ценим. Это его восхищение и уважение к людям, его вера в то, что мы можем постоянно пере-созидать свою жизнь, его вера в разнообразные возможные реальности и его акцент на образующей силе языка.
И ВСЕ ЖЕ ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ
В то время как мы боролись за то, чтобы интегрировать свои эриксоновские/стратегические идеи с вещами, которым мы учились у миланской команды, семейные терапевты феминистского направления (напр., Avis, 1985; Carter, Papp, Silverstein, & Walters, 1984; Goldner, 1985a, 1985b; Hare-Mustin, 1978; Taggart, 1985) начинали критиковать ту теорию и практику, которые направляли область нашей деятельности с самого начала. Они обращали наше внимание на то, что объяснения и вмешательства кибернетики первого и даже второго порядка были основаны на нормативных моделях функционирования семьи, которые предполагают “отдельную, но равную” власть для мужчин и женщин. Они спорили с тем, что такие модели игнорируют более широкий социально-исторический контекст, в котором мужчины обладают большей политической, финансовой и “моральной” властью, чем женщины.
По большей части, именно эта феминистская критика привела нас к сомнениям, связанным с патерналистской направленностью некоторых эриксоновских/стратегических практик, и заставила стремиться к повышению степени сотрудничества при работе с людьми, которые обращаются к нам за помощью. Даже несмотря на то, что Эриксон ценил эмпирические реальности людей, и хотя он глубоко верил, что каждый человек на редкость изобретателен, все же он был врачом мужского пола, белой расы и конкретной эры. Он был добрым и благосклонным патриархом, но, тем не менее, все же патриархом. Тогда как обычно он общался с людьми, надев “бархатные перчатки”, временами он говорил, что под бархатной перчаткой скрывается железный кулак.
Когда мы оглядываемся назад на годы обучения и попыток применения идей Эриксона, мы находим, что многие вещи, которые тогда порой казались важными, сегодня мы не считаем столь полезными. В частности, это относится к понятию транса.
Некоторое время транс был для нас организующей метафорой. Мы разговаривали с людьми так, как если бы они находились в некоей форме транса, и как если бы наша работа в качестве гипнотерапевтов должна была помочь им развивать и использовать способность входить в нужное состояние транса в зависимости от различных жизненных ситуаций. Это означало, что, во многом, наша работа концентрировалась на “наведении транса”.
Сам Эриксон часто разговаривал с людьми, которые пребывали в “трансе”, взаимодействуя с ними в духе сотрудничества. Однако стиль гипноза, который приобрел популярность среди второго и третьего поколений эриксонианцев (включая и нас), состоял в том, что терапевт ужасно долго говорил, предлагая стратегически разработанные косвенные внушения человеку, который тихо и спокойно сидел перед ним с закрытыми глазами. По мере того, как мы учитывали феминистскую критику в своей работе, нам становилось все более и более неловко так много говорить в ходе терапии. Мы все реже и реже использовали расширенные состояния транса.
Другие две идеи, которые стали менее важны для нас (мы уже упоминали это в обсуждении кибернетики), состояли в разработке стратегии и в иерархии. Когда мы моделировали свою деятельность по Эриксону, мы были склонны думать, что наш долг состоит в том, чтобы разрабатывать искусные стратегии, которые будут (благотворно) влиять на людей, побуждая их направлять свою жизнь в новое русло. Даже в своей наиболее ответственной, мягкой и благожелательной форме, этот метод работы отличается односторонностью и отсутствием сотрудничества, с чем (в свете феминистской критики) мы более не могли мириться.
Отрешаясь от Эриксона и возвращаясь к метафоре “системы”, феминистская критика убедила нас в том, что метафора — по крайней мере, как она эволюционировала и применялась в семейной терапии — служит помехой не в меньшей степени, чем вспомогательным средством. Она направляет наше внимание на слишком мелкие, слишком сжатые циклы обратной связи, тогда как мы хотим уделять больше внимания идеям и практикам, которые играют в более обширном культурном контексте. Метафора “системы” искушает нас, побуждая искать внутри семьи дополняющие цепи и совместную каузальность проблем вместо того, чтобы работать с членами семьи, выявляя негативное влияние определенных культурных ценностей, установок и практик на их жизнь и взаимоотношения, и побудить их сплотиться вместе и противостоять этим ценностям, установкам и практикам. Это скорее поощряет позицию нейтральности (Selvini Palazzoli, Boscolo, & Prata, 1980) или любопытства (Cecchin, 1987), чем защиту или увлечение одними ценностями и противостояние другим.
Оглядываясь назад, сегодня мы полагаем, что, работая терапевтами в рамках эриксоновской парадигмы и кибернетики второго порядка, в моменты отчаяния, беспокойства и разочарования мы находились на краю более значительного сдвига в мировоззрении, чем когда либо прежде. До тех пор мы работали в системных рамках и развивали все более и более тонкое понимание “систем” как организующей метафоры в своей работе. Вскоре нам предстояло встретить, как говорят в шоу Монти Питона, “нечто совершенно другое!”
НАРРАТИВНАЯ МЕТАФОРА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ
Для нас, в контексте нашего мышления, это нечто другое — не просто дальнейшая эволюция теории систем, это прерывистая парадигма, совершенно другой язык. В самой общей форме, на эту парадигму ссылаются по-разному. Хотя были предложены такие термины, как “пост-структурализм”, “деконструктивизм”, “интерпретативный поворот” и “новая герменевтика”, нам кажется, что в настоящий момент наиболее распространенным термином в мировоззрении, о котором мы говорим, служит “постмодернизм”.
В следующей главе мы постараемся более подробно ознакомить вас с этими идеями, но прежде, чем мы сделаем это, мы хотели бы продолжить историю о том, как мы сами осуществили сдвиг к мировоззрению, которое исповедует эти идеи. Возможно, самой важной вещью на нашем пути к принятию постмодернистского мировоззрения стали не те ярлыки или метафоры, которые мы только что перечислили, а личность — Майкл Уайт. *[Мы признательны Дженнифер Эндрюс и Дэвиду Кларку, которые включили нас в состав участников первых консультаций Майкла в Чикаго, а также Черил Уайт, которую мы также встретили на этих ранних консультациях. Тогда как Майкл Уайт обучал этим идеям, мы с Черил ими жили.]
Когда мы встретились с ним, нас сразу же привлекла работа Майкла, тот изобретенный им тип взаимоотношений с приходящими к нему людьми, и то, как он переживает свои ценности как внутри, так и вне терапевтического контекста. Он проявлял такое же доверие, интерес и волнение по отношению к тем людям с которыми он работал, что так привлекали нас в Эриксоне. В то же время, он цитировал Мишеля Фуко (1975, 1977, 1980), который писал об объективации и подчиненности личности и говорил о поддержке людей, восстающих против “пристального взгляда” доминирующей культуры. Сегодня, будучи активистами 60-х среднего возраста, мы не имеем ни малейшего понятия, как будут выглядеть эти идеи в приложении к терапии, но мы без сомнения хотим это выяснить!
Когда мы впервые встретили его, Уайт (1986b) отчасти основывал свои практики на понятиях Грегори Бэйтсона (1972) о негативном объяснении, сдерживании и двойном описании. Хотя интерес Уайта к Бэйтсону был достаточно новаторским явлением, чтобы быть увлекательным, мы были очень хорошо знакомы с работой Бэйтсона и это, вкупе с межличностным стилем эриксоновской направленности, помогло нам чувствовать себя среди идей Уайта, как дома. Однако объяснения Уайта по поводу того, что и зачем он делает в терапии, очень быстро менялись, и вскоре мы увлеклись этими переменами. Уайт, который настаивал на том, что он никоим образом не осведомлен о работе Эриксона, пишет (White & Epston, 1990, стр. xvi), что использовать нарративную метафору, или “аналогию истории”, его надоумили Дэвид Эпстон, который наткнулся на нее при изучении антропологии, и Черил Уайт, “которая почерпнула энтузиазм к этой аналогии из своих познаний в феминизме.” Изучив нарративную метафору, он обнаружил, что она предлагает полезное расширение и развитие “интерпретативного метода”, с которым его ознакомила работа Бэйтсона. *[Понятие “интерпретативный метод” относится к методам работы, разработанным учеными социального направления, которые полагают, что у нас нет прямого доступа к знанию об “объективной” реальности. В отсутствии такого знания, для того, чтобы наделить мир смыслом, мы должны интерпретировать “новости различия”, приносимые нам органами чувств.] В Narrative Means to Therapeutic Ends (Нарративные средства для терапевтических целей) (White & Epston, 1990) Уайт напоминает нам, как Бэйтсон использовал метафору [географических]“карт”, утверждая, что все наши познания о мире содержатся в форме разнообразных ментальных карт “внешней” или “объективной” реальности”, и что различные карты приводят к различным интерпретациям “реальности”. Ни одна карта не содержит всех деталей территории, которую она отображает, и события, которые не попали на карту, не существуют в смысловом мире этой карты.
Он также напоминает нам, насколько важным для Бэйтсона было время:
Утверждая, что вся информация — это обязательно “новости различия”, и что именно восприятие различия запускает все новые реакции в живых системах, он [Бэйтсон] продемонстрировал, насколько нанесение на карту событий во времени существенно для восприятия различия, для обнаружения изменения. (White & Epston, 1990, стр. 2)
Преимущество, которое Майкл Уайт увидел в нарративной метафоре, заключалось в том, что любая история — это карта, простирающаяся во времени. Она объединяет оба бэйтсоновских понятия в одну концепцию. Когда мы впервые начали применять нарративную метафору (скорее в уайтовском, нежели бэйтсоновском смысле), мы рассматривали ее просто как полезное расширение мышления Бэйтсона. Тем не менее, по мере того, как мы продолжали использовать ее и изучать ее теоретические ответвления, мы поняли, что она привела к достаточно серьезному сдвигу в нашем мировоззрении.
В нашей прежней работе вмешательства были нацелены на специфические проблемы и задачи. Прислушиваясь к Уайту, мы более не пытались решать проблемы. Вместо этого, мы заинтересовались работой с людьми, которая призвана порождать и “уплотнять” (Geertz, 1978) истории, которые не поддерживают или подтверждают проблемы. Мы обнаружили, что как только люди начинают заселять и переживать эти альтернативные истории, результаты выходят за пределы решения проблем. В рамках новых историй люди могли переживать новое представление о себе, новые возможности во взаимоотношениях и новое будущее.
Ученые в области гуманитарных и социальных наук (напр., E. Bruner, 1986b; J. Bruner, 1986; Geertz, 1983) начали применять нарратив в качестве организующей метафоры за несколько лет до того, как она стала использоваться в терапевтических кругах. Например, Джером Брунер (1986, стр. 8) пишет:
К середине 1970-х социальные науки двинулись... в сторону более интерпретативной позиции: смысл стал центральным понятием — как интерпретируется мир, какими кодами регулируется смысл, в каком смысле саму культуру можно рассматривать как “текст” [историю], который участники “читают” самостоятельно.
По мере того, как мы получали более широкое представление о потоке идей, из которого Дэвид Эпстон, Черил Уайт и Майкл Уайт заимствовали нарративную метафору, мы обнаружили еще одно важное направление в том же потоке — социальный конструктивизм. *[Здесь мы не уверены, что впервые встретились с термином “социальный конструктивизм в ходе беседы с Гарри Гулишианом или в статье Линн Хоффман (1990) “Конструируя реальности: Искусство оптических линз”. Как бы то ни было, мы рекомендуем как статью Хоффман, так и значительно более раннюю статью Кеннета Гергена (1985), которые ознакомили многих людей из психотерапевтических кругов с идеями социального конструктивизма. ] Тогда как более глубоко социальный конструктивизм мы будем обсуждать в Главе 2, здесь мы лишь отметим, что его главная предпосылка состояла в том, что убеждения, ценности, установления, обычаи, ярлыки, законы, разделение труда и все прочее, что составляет наши социальные реальности, конструируются членами культуры по мере того, как они взаимодействуют друг с другом, поколение за поколением, день за днем. Другими словами, сообщества конструируют “линзы”, сквозь которые их члены интерпретируют мир. Те реальности, которые каждый из нас принимает как должное, это реальности, которыми общество окружает нас с самого рождения. Эти реальности обеспечивают практики, слова и опыт, на основе которых мы строим свою жизнь или, как бы мы сказали на постмодернистском жаргоне, “учреждаем свою самость”.
Когда мы используем как нарратив, так и социальный конструктивизм, в качестве ведущих метафор, мы видим, как истории, циркулирующие в обществе, учреждают нашу жизнь и жизнь людей, с которыми мы работаем. Мы также замечаем, как истории индивидуальных жизней могут влиять на устройство целых культур — не только истории людей, подобных Ганди, Мартину Лютеру Кингу, но и истории людей, вроде Покахонтаса, Энни Оукли, Хелен Келлер и Тины Тернер, равно как и истории “обычных” людей, чьих имен мы никогда не слышали. Работая с людьми, которые приходят к нам, мы задумываемся над взаимодействием между историями, которые они проживают в своей личной жизни, и историями, которые циркулируют в их культурах — как в локальных, так и в более обширной культуре. Мы думаем о том, как культурные истории влияют на то, как они интерпретируют свой повседневный опыт, и как их повседневные поступки влияют на истории, которые циркулируют в обществе.
Принятие метафор нарратива и социальной конструкции в качестве ведущих метафор повлияло на то, как мы обдумываем другие метафоры и используем их. В самом начале нашей дружбы с Дэвидом Эпстоном он обсуждал с нами нашу первую книгу (Combs & Freedman). Он недоумевал, почему мы так часто используем метафору “ресурс”. Эпстон первым обратил наше внимание на то, что разговоры о ресурсах наводят на мысли о горных разработках. Ресурс представлялся ему как некая неподвижная вещь внутри человека, до которой нужно докопаться и завладеть ею. Он предпочитал метафору “знание”, поскольку знание — это нечто, что развивается и циркулирует среди людей.
Кэти Вайнгартен (1991, стр. 289) пишет:
В контексте социального конструктивизма, опыт самости существует в непрерывном взаимообмене с другими... самость постоянно творит себя через нарративы, которые включают других людей, которые взаимно переплетены в этих нарративах.
Эта концепция самости не согласуется с тем обтянутым кожей контейнером, наполненным неподвижным содержанием (ресурсами), который прежде лежал в основе наших умозаключений.
Пока мы размышляли над этой новой “учредительной” (White, 1991, 1993) метафорой самости, моя (Дж. Ф) сама собой разумеющаяся реальность была настолько перетряхнута, что я стала страдать расстройством кишечника. Меня буквально тошнило. Я всегда верила в то, что “глубоко внутри” я была хорошим человеком, что бы я ни вытворяла. Если нам действительно предстояло принять эти новые методы мышления и восприятия (которые мы хотели принять, благодаря тем формам терапии, которые из них вытекали), нам следовало взять на себя ответственность за непрерывное учреждение себя как людей, которыми мы хотели стать. Нам пришлось бы исследовать принятые на веру истории нашей локальной культуры, контексты, в которые мы входим, взаимоотношения, которые мы культивируем, и все прочее. Короче, нам пришлось бы постоянно пере-созидать и освежать свои собственные истории. Нравственность и этика уже стали бы не фиксированными понятиями, но текущей реальностью, требующей постоянной поддержки и внимания.
Привыкнув к этой идее, мы поняли, что в контексте нашей терапевтической работы, совместных проектов с другими, наши истории потенциально могут приносить не только помощь, но и вред. Я (Дж. Ф) — белая еврейка восточно-европейского происхождения. Я (Дж. К) — белый англосакс, экс-баптист, который вырос в горах сельского Юга. Мы — образованные члены профессионального сообщества среднего возраста. Как таковые, мы находимся в привилегированном положении во многих контекстах, включая владение помещением для терапии. В своей терапии мы не хотим воспроизводить те притеснения, которое многим людям пришлось испытать в когтях доминирующей культуры. Мы знаем, что порой не видим всех возможных факторов, могущих привести к этой ситуации, хотя мы постоянно анализируем прошлый опыт и бросаем критический взгляд на наши практики, пытаясь разоблачить опасные доминирующие истории, которые мы переживаем. Мы пытаемся признать, что не понимаем в полной мере опыт других людей, в особенности тех, кто принадлежит другим культурам. Постоянная дилемма для нас заключается в том, как повысить свою ответственность за последствия своего (не) понимания и своих действий. *[В Главе 10 мы пишем о некоторых аспектах нашего отношения к своим преимуществам.]
Наше восприятие процесса, который мы называем терапией, претерпело смещение, как только мы взяли на вооружение нарративную и социально-конструктивистскую метафоры. Мы уже не организуем наши эмпирические миры в контексте “информации” и “паттерна”. Вместо этого, мы мыслим в контексте “историй”. Вместо “систем”, мы размышляем о “культуре” или “обществе”. Мы уже не ощущаем себя механиками, которые работают над тем, чтобы починить сломанную машину, или экологами, которые пытаются понять и повлиять на сложные экосистемы. Мы воспринимаем себя как заинтересованных людей — возможно, с антропологическим, биографическим или журналистским уклоном — которые компетентны в задавании вопросов, побуждающих к выявлению знания и опыта, которые содержатся в историях людей, с которыми мы работаем. Мы ощущаем себя членами субкультуры социального взаимодействия, сотрудничая с другими людьми в конструировании новых реальностей. Сегодня наша работа помогает людям обнаружить влияние ограничивающих культурных историй на их жизнь и расширить и обогатить их собственные жизненные нарративы. Мы стремимся найти пути распространения вестей об индивидуальных триумфах, запустить в обращение истории о личных успехах с тем, чтобы они поддерживали удовлетворительную атмосферу роста и движения нашей культуры.
Наш переход к этим формам мышления имел прерывистый, ухабистый и волнующий характер. Поскольку мы работаем в атмосфере терапевтической культуры, в которой доминируют модернистские идеи, всегда существует искушение идентифицировать людей, отождествляя их с патологическими ярлыками. Поскольку мы являемся частью сообщества людей, применяющих нарративные идеи в терапевтической практике, также есть искушение принять эти идеи за непоколебимую истину. Мы надеемся, что читая эту книгу, вы будете воспринимать рассказываемые нами истории не как притязания на истину, а как предварительные сообщения и работу в процессе становления, исходящие из волнующей новой культуры. Мы надеемся, что некоторые из вас включат свои истории в поток историй этой культуры.
2
НАРРАТИВНАЯ МЕТАФОРА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ: ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
... истории имеют значение. Равно как... и истории об историях.
— Клиффорд Геертц, 1986, стр. 377
[Три арбитра] сидят за пивом, и один говорит: “Есть мячи и есть удары, и я называю их так, каковы они есть.” Другой говорит: “Есть мячи и есть удары, и я называю их так, как вижу.” Третий говорит: “Есть мячи и есть удары, и они — ничто, пока я их не назову.” *[Этот конструктивистский анекдот относится к тому, как реальности учреждаются через язык. Чтобы превратить его социально-конструктивистский анекдот, его следует расширить, признав, что если арбитр “называет их” так, что это не согласуется с восприятиями других, его могут забросать гнилыми помидорами или уволить. Не таким ли путем постмодернисты деконструируют анекдот?]
— Уолтер Труэтт Андерсон, 1990, стр. 75
Эта книга представлялась нам исключительно клинической и ориентированной на практику. И действительно, описание клинический действий составляют ее большую часть. Изучение и применение практик нарративного/социально-конструктивистского толка может привести к более глубокому опыту нарративного/социально-конструктивистского мировоззрения. Однако без некоторого понимания этого мировоззрения весьма затруднительно эффективно или адекватно использовать те идеи, которые мы здесь представляем. Поэтому эта глава посвящена нарративным/социально-конструктивистским установкам. (В Главе 10 мы возвращаемся к этому мировоззрению в контексте этики, из которой оно вытекает, и взаимоотношений, которое оно поощряет.)
Вероятно, наиболее важная для нарративной терапии черта этого мировоззрения — это определенная установка на реальность. Давид Парэ (1995, стр. 3), описывая три различных установки, касающиеся человеческого познания реальности, пишет, что вещи
... эволюционировали от фокуса на наблюдаемом мире как объекте к фокусу на наблюдаемой личности как субъекте, и к фокусу на пространстве между субъектом и объектом, то есть, межсубъектном мире, где в сотрудничестве с другими происходит интерпретация.
Другими словами, Парэ говорит, что существуют три убеждения: (1) реальность познаваема — ее элементы и творения могут быть точно и неоднократно выявлены, описаны и использованы человеческими существами; (2) мы — пленники своего восприятия: попытки описать реальность говорят нам очень много о человеке, который выполняет описание, но не слишком много о внешней реальности; и (3) знание возникает внутри сообществ познающих — реальности, которые мы населяем, это те, где мы ведем переговоры друг с другом. Парэ утверждает, что в ходе этого столетия происходила постепенная (но все еще не завершившаяся) эволюция от первой к третьей точке зрения.
Нам видится некая самая общая связь между тремя установками Парэ, кибернетиками первого и второго порядка и нарративным/социально-конструктивистским мировоззрением — всем тем, что мы встречали во время своего личного путешествия в качестве терапевтов. Нарративная терапия основана на третьем мировоззрении Парэ.
Непротивление эволюции, первое мировоззрение, называемое “модернизмом”, “позитивизмом”, “структурализмом” или “старомодным здравым смыслом”, описанное Парэ, живет и процветает. Что касается науки, это мировоззрение, при котором люди убеждены в том, что возможно найти неотъемлемые, “объективные” факты, которые затем можно связать вместе в сводные теории общего приложения, призванные подводить нас все ближе и ближе к точному пониманию реальной вселенной. Применительно к гуманитарным наукам, это тот гуманизм, который пытается развить великие, обширные мета-нарративы, касающиеся положения человека и способов его улучшения. Приняв это мировоззрение, люди начинают верить в то, что применяемые ими идеи — это больше, чем просто идеи. Они убеждены, что это выражение общих истин о базовой, лежащей в основе нашего бытия реальности.
Во время одного научного курса, который я (Дж. Ф) некогда посещала, преподаватель описывал научные теории как некоторые объяснительные системы, которые периодически ниспровергаются улучшенными системами. Кртиерий наилучшей теории, как он сказал, заключается в том, что она предлагает простейшее объяснение для всех известных явлений. Новые теории получают признание, когда обнаруживаются новые явления, или когда разрабатывается более простое объяснение. *[Это объяснение можно считать как модернистским, так и постмодернистским в зависимости от того, в чем состоит ее предпосылка: в том, что каждая удачная теория ближе продвигалась к истине, или в том, что новые теории служили новыми историями, которые становились более популярными через политические/социально-конструктивистские процессы (см. Kuhn,1970). Я никогда не была искушена в науке, и я не помню, с какой точки зрения давалось это определение. Нам выгоднее полагать, что это постмодернистская история.] Далее преподаватель заметил, что наше понимание электричества — это теория, но не истина, однако, когда ему приходится чинить телевизор, он отбрасывает это различие, и на это время теория для него превращается в истину. В противном случае, как пояснил он, задача ремонта телевизора становится весьма затруднительной.
С постмодернистской точки зрения, мы подходим ко многим проблемам в области душевного здоровья примерно так, как этот преподаватель — к починке телевизора. Мы видим, как это происходит, когда диагносты, применяющие критерии, изложенные, скажем, в ДСМ-IV, ведут себя так, как если бы они обладали не исследовательским инструментом, а набором описаний реальных, гомогенных, душевных расстройств, который истинен для всех людей во всех контекстах. Или когда генетики и фармакологи, равно как и клиницисты, которые опираются на свои исследования, ведут себя так, как если бы они обладали “истиной” о причинах и методах лечения расстройств, входящих в ДСМ-IV. Или когда люди из организованного здравоохраненительного движения полагают, что возможно разработать стандартные методы, которые обеспечат предсказуемые, эффективные результаты при лечении всех психиатрических “заболеваний” за установленное число сеансов, проводимых с установленной частотой.
С этими и подобными им проектами связаны некоторые проблемы. Как бы то ни было, люди — это не телевизоры. Когда к ним подходят как к объектам, о которых мы знаем истину, их опыт часто подвергается дегуманизации. Они могут ощущать себя машинами на сборочной линии. Кроме того, хотя пилюля или процедура могут улучшить функционирование человека, он может начать думать хуже о себе самом. Нам встречались люди, которые, в результате применения антидепрессантов, лучше спали, становились более энергичными и меньше плакали. Однако в то же время они ощущали себя сломленными или неполноценными, поскольку для их функционирования “требовались” лекарства. * [Мы не против медикаментации. Мы также не против клинических исследований или поименования проблем. То, против чего мы выступаем, это использование медикаментации, исследований, открытий или диагностической терминологии, которые применяются в механизированной, шаблонной и/или дегуманизирующей манере.] “Объективность” модернистского мировоззрения, с его акцентом на фактах, воспроизводимых процедурах и правилах общего применения, с легкостью игнорирует специфические, локализованные смыслы индивидов. Когда мы подходим к людям с “объективностью” такого рода, мы рассматриваем их в качестве объектов, тем самым вовлекая их во взаимоотношения, в которым им отводится роль пассивных, беспомощных реципиентов нашего знания и умения. Говоря об этом, Кеннет Герген (1992, стр. 57) пишет:
... постмодернистские возражения направлены не против различных школ терапии, но лишь против их позиции авторитарной истины.
Постмодернисты убеждены в том, что существуют ограничения в сфере возможностей человека измерить и описать вселенную точным, абсолютным и универсально применимым методом. Они отличаются от модернистов тем, что исключения интересуют их больше, чем правила. Они предпочитают рассматривать специфические, контекстуальные детали гораздо чаще, чем великие обобщения, отличие чаще, чем подобие. Тогда как модернистские мыслители склонны интересоваться фактами и правилами, постмодернистам интересен смысл. В своих поисках смысла и его исследовании постмодернисты находят больше пользы в метафорах из гуманитарной сферы, чем в модернистских метафорах, заимствованных из физики девятнадцатого века. Как пишет об этом Клиффорд Геертц (1983, стр. 23):
... средства аргументации меняются, и общество все реже и реже представляется в виде искусной машины или квази-организма, и все чаще как серьезная игра, бульварная драма или поведенческий текст.
ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ ВИДЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ *[Среди ученых ведутся многочисленные споры о том, что же в точности составляет постмодернистское мировоззрение. Поскольку мы — клиницисты, а не ученые, различия, которые мы здесь обсуждаем, касаются лишь сферы предпочитаемых нами терапевтических практик.]
Принятие постмодернистского, нарративного, социально-конструктивистского мировоззрения влечет за собой полезные идеи относительно того, как понятия власти, знания и “истины” обсуждаются в семьях и более крупных культурных образованиях. Более важным представляется подходить к людям и их проблемам с позиции установок, вытекающих из этих идей, нежели использовать какую-то определенную “нарративную технику”. По этой причине, нам хотелось бы ознакомить вас с четырьмя идеями, которые относятся к этому мировоззрению прежде, чем мы опишем практики, обычно ассоциирующиеся с этим мировоззрением. Вот эти идеи:
1. Реальности социально конструируются.
2. Реальности учреждаются через язык.
3. Реальности организуются и поддерживаются через нарратив.
Реальности социально конструируются
Представьте себе двух людей, выживших после некоей экологической катастрофы и собравшихся для того, чтобы заложить новое общество. Представьте, что они — мужчина и женщина, пришедшие из разных культур. Даже если у них нет общего языка, общей религии и предположений о том, как следует разделять труд, или о том, какое место в нормальном обществе занимают работа, игра, общественный ритуал и частное размышление, они должны начать координировать свои действия, если предполагается продолжение культуры любого рода. По мере того, как они займутся этим, появятся некоторые взаимоприемлемые привычки и различения: с некоторыми веществами будут обращаться как с едой, определенные места, найденные или обустроенные, будут служить кровом. Каждый из них будет принимать на себя определенные повседневные задания, и они, что наиболее вероятно, разработают общий язык.
В кругу двух этих основателей зарождающегося общества, возникшие привычки и различения будут оставаться “зыбкими, легко изменяемыми, почти игривыми, даже несмотря на то, что они строят меру объективности просто на факте их формирования” (Berger & Luckmann, 1966, стр. 58). У них всегда будет возможность вспомнить: “Вот как мы решили это делать”, или “Будет лучше, если я приму эту роль”. Они будут поддерживать некоторую степень убежденности, что существуют другие возможности. Тем не менее, уже в их поколении начнут появляться такие обычаи, как “забота о детях”, “обработка земли” и “постройка”.
Что касается детей поколения основателей, то для них “Вот как мы решили...” будет звучать скорее как “Вот так это делают наши старшие”, а для третьего поколения это будет “Вот так это делается.” К матерям, земледельцам и строителям будут относиться как к вечно существовавшим типам людей. Процедуры-полуфабрикаты для постройки домов и сева урожая, которые двое наших основателей сформировали на скорую руку, будут, в той или иной степени, сведены в правила, касающиеся того, как строить дома или сеять урожай. Подобно этому, будут написаны законы, определяющие, каким образом можно строить дома или сеять урожай. Трудно представить, чтобы не появились обычаи, регулирующие надлежащие ритуалы создания семьи или сбора урожая. Так же очевидно, что определенные индивиды будут определены как надлежащие люди для исполнения этих ритуалов. Начнут появляться такие институты, как женские общества и гильдии каменщиков.
К четвертому поколению нашего воображаемого общества “Вот так это делается” превратится в “Вот так существует мир; это — реальность”. Как формулируют это Бергер и Лакманн (1966, стр. 60), “Мир установлений... переживается как объективная реальность.”
Предыдущий мысленный эксперимент служит парафразой рассуждений Питера Бергера и Томаса Лакманна, которые в своей, сегодня уже классической работе The Social Construction of Reality (Социальная конструкция реальности) описывают, как идеи, практики, убеждения и прочее приобретают статус реальности в данной социальной группе.
Центральный принцип постмодернистского мировоззрения, на котором основан наш подход к терапии, состоит в том, что убеждения/верования, законы, социальные обычаи, привычки, связанные с одеждой и питанием — все те вещи, которые составляют психологическую ткань “реальности” — со временем возникают из социального взаимодействия. Другими словами, люди совместно конструируют свои реальности, обживая их.
Бергер и Лакманн различают три процесса: типизацию, институционализацию и легитимацию, которые, как они полагают, играют важную роль в том, как любая социальная группа конструирует и поддерживает свое знание, касающееся “реальности”. Они используют четвертый термин, конкретизация, который охватывает весь процесс целиком, тогда как три первые — его части.
Типизация — это процесс, посредством которого люди сортируют свои восприятия по типам или классам. Например, в моей родной культуре я (Дж. К) научился сортировать людей на “баптистов” (нас), “других христиан” (почти, но не совсем нас) и “тех, которые не спасутся” (их). Наши реальности учреждаются через сети типизаций. То есть, мы склонны принимать типизации, о которых мы узнаем от членов нашей семьи, друзей, учителей и т.д., за реальные. И все же, типизации, которые использует определенный человек или культура, не являются единственно возможными. *[Джордж Говард (1991) указывает на то, что все мы принадлежим нескольким культурам. По мере того, как новые культуры начинают доминировать в нашей жизни, мы, как правило, отказываемся от менее авторитетных культур.]
Например, Кеннет Герген (1985, стр. 267) описывает, как
в определенные [исторические] периоды детство не рассматривалось как особая фаза развития, романтическая и материнская любовь не были составляющими человеческого склада ума, и самость не считали изолированной и автономной.
Он продолжает, рассуждая о том, что появление таких понятий, как “детство”, “романтическая любовь” и “автономная самость” связано с “исторически обусловленными факторами”, а не с внезапным появлением во вселенной новых объектов или сущностей.
Когда мы говорим о “взаимозависимости”, или “шизофрении”, или “нарративной терапии”, важно помнить, что мы активно увековечиваем социальную конструкцию этих понятий как реальных элементов в ткани нашего повседневного бытия. Все мы слишком легко забываем, что другие типизации могут привести к восприятию других возможностей. (С чем вы предпочтете работать — с “этим пограничным состоянием” или с “женщиной, которая озлоблена тем, что сослуживцы обращаются с ней в патриархальной, патерналистской манере”?)
Институционализация — это процесс, посредством которого вокруг наборов типизаций возникают институты/установления: институт материнства, институт закона и т.д. Институционализация помогает семьям и сообществам поддерживать и распространять трудом добытое знание. И, подобно типизации, она может ослепить, не дать нам разглядеть новые возможности. Например, социальный класс выжил как институт спустя тысячелетия. Большую часть этого времени, большая часть людей воспринимала этот институт как правильный, надлежащий и единственный способ распределения прав и ответственности в рамках культуры. Тем не менее, внутри западной культуры критерии принадлежности к тому или иному классу, равно как и названия и число классов, сильно разнятся от общества к обществу. И многие люди действительно подвергают сомнению полезность и, без сомнения, справедливость классовых различий.
Легитимация. Это слово Бергер и Лакманн используют для обозначения тех процессов, которые придают легитимность/законность институтам и типизациям определенного общества. Например, написание этой книги, представление ее миру стараниями авторитетного издателя и прочтение ее людьми, подобными вам — все это акты легитимации института нарративной терапии. Имея достаточную степень законности, “институты теперь воспринимаются как субъекты, обладающие собственной реальностью, реальностью, которая противостоит индивиду как внешнему и вынужденному факту” (Berger & Luckman, 1966, стр. 58). Позже в этой главе мы обсудим те важные роли, которые отводятся языку и нарративу в легитимации каждого особого видения реальности.
Конкретизация, согласно Бергеру и Лакманну (1966, стр. 89), это
... представление продуктов человеческой деятельности, как если бы они были чем-то отличным от человеческих продуктов — явлениями природы, последствиями космических законов или проявлениями божественной воли. Конкретизация предполагает, что человек [sic!] способен забывать свое авторство в отношении человеческого мира. (акцент в оригинале)
Конкретизация, результат комплексных процессов типизации, институционализации и легитимации, похоже, неизбежна. Она необходима, если мы собираемся эффективно мыслить и общаться. Без нее, разговаривая меж собой, мы не могли бы ничего принимать на веру. Нам приходилось бы все время определять и осмысливать даже свои простейшие выражения.
Однако, как бы она ни была полезна, бездумная конкретизация может быстро привести к проблемам. Например, “гомеостаз” в семейной терапии был полезным понятием для описания и попыток изменить определенные проблемы, которые испытывают семьи. Однако, когда мы конкретизируем гомеостаз как процесс, контролирующий взаимодействие во всех встречающихся нам семьях, он ограничивает наше восприятие и превращается в помеху прогрессу. То же самое можно сказать о “генограмме”, “границе”, “коэволюции”, “нарративе” и всех других терминах и понятиях, которыми мы пользуемся. Каждое из них позволяет нам эффективно ссылаться на определенный аспект опыта, но может вызвать проблемы, когда мы забываем, что это лишь полезная социальная конструкция, и начинаем относится к нему, как к части некоторой внешней, непреходящей реальности.
Схема Бергера и Лакманна, которую мы обсуждали, это лишь один из способов разделки пирога. Линн Хоффман (1990) и Кеннет Герген (1985) обсуждали другие аспекты социальной конструкции реальности.
Хоффман описывает различие, которое ей видится, между социальным конструктивизмом и конструктивизмом. Она связывает конструктивизм с работами Матураны и Варелы (1980), фон Ферстера (1981) и фон Глазерсфельда (1987). Эти исследователи и теоретики, концентрируясь на биологии восприятия, настойчиво утверждали, что, поскольку сенсорная информация претерпевает несколько типов трансформации по мере того, как она принимается и обрабатывается, то невозможно узнать, что собой “действительно представляет” внешняя реальность. Они говорят, что такая вещь, как “непосредственное восприятие” не существует. Хоффман (1990, стр.2) пишет, что конструктивисты полагают, что
конструктивы формируются, когда организмы развивают согласованность со своей средой, и что конструкция идей о мире происходит в нервной системе, которая ведет себя примерно так, как слепой, исследующий комнату. Идущий во тьме, который не натыкается на деревья, не может сказать, находится ли он в лесу или в поле. Он может лишь утверждать, что уберег свою голову. *[Эта конструктивистская позиция весьма схожа со второй позицией Парэ, касающейся человеческого познания реальности, описанной на стр. *]
Хоффман пишет (1990, стр. 2), что, как других семейных терапевтов, к примеру, Пола Вацлавика (1984) и Брэда Кини (1983), конструктивизм привлек ее в середине 80-х. Как, похоже, многие все еще так думают, она изначально полагала, что социальный конструктивизм — это синоним конструктивизма. Потом она прочитала статью Гергена (1985) и поняла, что социальные конструктивисты гораздо больше внимания уделяют социальной интерпретации и межсубъектному влиянию языка, семьи и культуры, и гораздо меньше — функционированию нервной системы, нащупывающей свой путь.
Хоффман (1990, стр. 3) одобряет социальный конструктивизм, поскольку вместо того, чтобы рассматривать индивидов, как бы заточенных в “будки биологической изоляции”, он
кладет в основу набор смыслов, которые бесконечно возникают из взаимодействия между людьми. Эти смыслы не привязаны к черепу и не могут существовать внутри того, что мы называем индивидуальной “психикой”. Они составляют часть общего потока постоянно меняющихся нарративов.
Она цитирует Гергена (1985, стр. 268): “Это сдвиг [от конструктивизма к социальному конструктивизму] от эмпирической к социальной эпистемологии.” Другими словами, это сдвиг от фокусирования внимания на том, как индивид конструирует модель реальности на основе своего опыта, к фокусированию на том, как люди взаимодействую друг с другом, чтобы конструировать, модифицировать и поддерживать то, что в их обществе считается истинным, реальным и значимым. Именно эта социальная эпистемология привлекает нас в социальном конструктивизме. Он представляет более удовлетворительную концепцию “видения через взаимодействие”, которая сначала привлекала на в теории систем.
Реальности учреждаются через язык
Когда я (Дж. К) рос на востоке Кентукки, мой отец и мой дядя Т.А. любили брать меня на долгие прогулки по лесу, во время которых они указывали, называли и рассказывали истории о различных растениях и цветах, которые нам встречались. Я научился отличать белый дуб от черного дуба. Я узнал, что дерево, которое первым зацветает белым цветом, называется рябиной. Моя мать однажды по секрету показала мне поле голубоглазых маргариток, которые каждый год цветут лишь несколько дней. Моя бабушка рассказала мне, что горный лавр — это двоюродный брат обычного лаврового дерева. И теперь каждый раз, когда я кладу лавровый лист в кастрюлю с супом, я думаю о россыпях белых цветов горного лавра.
Дедушка и бабушка Джилл часто водили ее с братом в английские парки в Сент-Луисе. Она часто рассказывала мне о том, в какой восторг ее приводили эти прогулки. Но старики никогда не называли Джилл имена цветов и не говорили об их свойствах; их главный интерес заключался в наслаждении окружающей их красотой.
Поэтому, когда мы весной бродим по окрестностям и паркам Чикаго, я вижу нарциссы, азалии, бутоны роз и фуксии и отмечаю (каждый год как будто впервые), что здесь они зацветают все разом, а не в той медленной и величавой последовательности, которой наслаждались в Кентукки.
Джилл видит просто красивые цветы.
Та разность в лингвистических различениях, исходящая от наших семей в юности, приводит к нашему различному восприятию весны в зрелые годы. *[Мы использовали эту историю в более ранней работе (Combs & Freedman, 1994a), чтобы проиллюстрировать, как знание учреждается через язык.]
Возвращаясь к терминологии Бергера и Лакманна, мы могли бы сказать, что лингвистические типизации и установления семей, в которых мы родились, даже теперь склоняются к конкретизации различных мировоззрений. Они (Berger & Luckmann, 1966, стр. 37-39) пишут:
Повседневная жизнь — это прежде всего жизнь посредством языка, который я разделяю с другими. Следовательно, понимание языка существенно для любого рода понимания повседневной жизни... Язык может стать объективным хранилищем огромных накоплений смысла и опыта, которые он может сохранять и передавать следующим поколениям... Обладая способностью выходить за пределы “здесь и сейчас”, язык сопрягает различные зоны внутри реальности повседневной жизни и интегрирует их в значимое целое... Язык может обеспечить “присутствие” объектов, которые пространственно, временно или социально отсутствуют в “здесь и сейчас.”... Через язык весь мир может быть актуализирован в любой момент.
В контексте модернистского мировоззрения, знаки языка *[Когда мы говорим “язык”, мы понимаем под этим не только слова, но также и интонации голоса, жесты, почерк, многозначительное молчание — все знаки, которые мы используем в коммуникации.] соответствуют объектам и событиям “реального мира”, как один-к-одному. В рамках модернистской системы убеждений, можно провести ясное различение между объективным (реальным) и субъективным (ментальным) миром, а язык рассматривается как надежное и точное связующее звено между объективным и субъективным миром. Реальный мир существует “где-то там”, и мы можем познать его через язык. Мы можем недвусмысленно использовать язык, чтобы выразить внешнюю реальность, а наши внутренние образы — это точные отражения внешней реальности.
Постмодернисты мыслят по-другому. Мы фокусируем свое внимание на том, как используемый нами язык учреждает наш мир и наши убеждения. Именно в языке сообщества конструируют свое видение мира. По мнению постмодернистов, единственные слова, которые люди могут знать, это слова, которые мы разделяем в языке, а язык — это интерактивный процесс, а не пассивное получение непреходящих истин. Как формулирует это Ричард Рорти (1989, стр. 5-6):
Истина не может пребывать где-то там — не может существовать независимо от человеческого разума — поскольку фразы не могут так существовать, или пребывать где-то там. Мир — где-то там, но не описания мира... Мир не разговаривает. Только мы. Мир может, если мы запрограммировали себя языком, побудить нас придерживаться убеждений. Но он не может предложить нам язык, на котором нам говорить. Лишь другие человеческие существа могут сделать это.
Соглашаясь со смыслом слова или жеста, мы соглашаемся с описанием и с тем, что описание формирует последующие описания, которые направляют наше восприятие к созданию одних описаний и отрешению от других. Наш язык говорит нам, как видеть мир и что в нем видеть. Как формулируют это Харлен Андерсон и Гарри Гуллишиан (1988, стр. 378), “Язык не отражает природу; язык создает известные нам природы.”
Процесс разговора не нейтрален или пассивен. Каждый раз, когда мы говорим, мы создаем реальность. Каждый раз, когда мы делимся словами, мы легитимируем различения, которые порождают эти слова. Говорить о расе — значит легитимировать понятие расы. Такая легитимация склонна к конретизации расы или любых других понятий, которые мы обсуждаем, и мы можем легко забыть, что другие понятия равно возможны и равно обоснованы. “Логика” языка поставляет воздух логики для наших восприятий и описаний социального мира. Мы были социализированы так, чтобы смешивать “логическое” с “реальным”.
Согласно Гергену (1985, стр. 270), социально-конструктивистское движение “начинается всерьез, когда бросается вызов концепции знания как ментального образа.” Знание можно рассматривать как “нечто, что представлено в лингвистических построениях” и, следовательно, “не как что-то, что люди содержат в своей голове, а как нечто, что люди создают совместно. Языки, по сути, это взаимодействия.” С этой точки зрения, изучение знания превращается в изучение “исполнительного применения языка в человеческих делах.”
Для психотерапевта здесь важно то, что изменение, будь то изменение убеждения, взаимоотношений, чувства или самосознания, включает изменение в языке. К счастью (по крайней мере, в контексте постмодернистского мировоззрения), язык постоянно меняется. Смыслы — это всегда нечто неопределенное и, следовательно, изменчивое. Жак Деррида (1988 и в других работах) дал множество примеров этому. Смысл несет не само слово, но слово в связи со своим контекстом. Не может быть двух совершенно одинаковых контекстов. Итак, точный смысл любого слова — это всегда нечто неопределенное и потенциально другое; это всегда нечто, о чем надлежит вести переговоры между двумя или более собеседниками или между текстом и читателем.
Мы рассматриваем эту неизбежную изменчивость языка как полезное явление. Оно наделяет наши беседы с людьми, с которыми мы работаем, возможностями для развития нового языка, а значит, для обсуждения новых смыслов проблемных убеждений, чувств и форм поведения — новых смыслов, которые могут придать законность альтернативным видениям реальности. В этой книге мы опишем различные способы побуждения людей к описанию их опыта на новом языке, что создает новый мир возможностей.
Реальности организуются и поддерживаются через истории
Если реальности, в которых мы обитаем, созданы в используемом нами языке, они живут и передаются дальше в историях, которыми мы живем и которые мы рассказываем. Центральную роль нарратива в организации, поддержании и распространении знания о нас и наших мирах подчеркивали многие постмодернистские авторы. Вот постмодернистская подборка цитат:
... откуда бы вы ни получали печатную продукцию — от деконструктивистского критика, университетского писателя романиста, из последнего бестселлера из книжной лавки при аэропорте или из ежедневных выпусков новостей — вы, вероятнее всего, получите примерно одинаковый контекст о человеческом состоянии. Это сообщение о том, что жизнь — это предмет рассказывания себе историй о жизни и увлекательных историй о жизни, рассказываемых другими, а также проживания нашей жизни в соответствии с такими историями и создания вечно-новых и более сложных историй об историях. Это создание историй не просто касается жизни, это и есть человеческая жизнь. (W. Anderson, 1990, стр. 102)
... мы организуем свой опыт и свою память человеческих событий, главным образом, в форме нарратива — историй, извинений, мифов, причин делать или не делать что-то и т.д. (J. Bruner, 1991, стр. 4)
... нарратив может стать особо богатым источником знания о той значимости, которую люди находят в своей повседневной жизни. Такие нарративы часто больше говорят о том, как сделать жизнь достойной, чем о том, как бездарно она проживается. (Rosaldo, 1986, стр. 98)
Поскольку постмодернистские и пост-структуралистские идеи вышли из круга семиотики и литературной критики, при обсуждении социальных сфер исследований все чаще используются аналогии нарратива или текста. (Hoffmann, 1991, стр. 4)
Системы, с которыми мы, терапевты, работаем — это нарративы, которые развертываются через терапевтическую беседу. (Anderson & Goolihian, 1988, стр. 379)
Беседы, которые ведутся между терапевтами и клиентами, можно рассматривать как истории, как нарративы. Как любая история, каждый случай или сеанс каждого случая имеет начало, середину и окончание или, по крайней мере, ощущение окончания. Как любая история, беседа связана воедино вовлеченными в нее паттернами, сюжетом. Как многие истории, терапевтические беседы имеют дело с человеческими затруднениями, бедами, решениями или попытками найти решения. (de Shazer, 1991, стр. 92)
В своем стремлении осмыслить жизнь люди встают перед задачей выстроить свой опыт событий во временную последовательность таким образом, чтобы сформировался последовательный отчет о них самих и окружающем их мире... Этот отчет можно считать историей или само-нарративом. Успех такой “историзации” опыта наделяет людей ощущением непрерывности и смысла в их жизни. Они полагаются на него при упорядочении повседневной жизни и интерпретации дальнейшего опыта. (White & Epston, 1990, стр. 10)
Согласно Алану Пэрри (1991, стр. 37), особенность модернистского подхода к историям состоит в том, чтобы объяснять их через лежащие в их основе структуры и архетипы, а не позволять им “рассказываться самим”. С этой точки зрения, “только специалист (не столько по историям, сколько по структурам или мифам) [может] правильно понять историю, даже правильнее, чем сам рассказчик, который служит лишь инструментом структуры.” Ренато Росальдо (1986, стр. 103) иллюстрирует, как этот поиск общих паттернов или тем, лежащих в основе индивидуальных историй, может лишить “прожитый опыт... его жизненной значимости”, приводя следующий пример:
Представьте себе... этнограф возвращается с последней игры Мировой Серии и рассказывает о замечательных открытиях: три удара выполняются в аут, три аута уходят по всей стороне и т. д. Стремясь узнать о каждом движении в ключевых играх, страстный болельщик может лишь (наверняка) сказать, что этнограф не соврал, но ухитрился упустить всю суть игры.
Когда терапевты слушают истории людей, настраиваясь на то, чтобы “оценивать”, “понять историю болезни” или “предложить интерпретацию”, они подходят к историям людей с модернистских, “структуралистских” позиций. В контексте понимания особого состояния индивида или проникновения в его мировоззрение, этот подход рискует упустить все самое важное. Линн Хоффман (1991, стр. 12, 13) делится подобным наблюдением, когда, ссылаясь на работу Гергена (1991а), она пишет:
... традиционные терапевты полагают, что в человеческом опыте присутствуют “сущности”, которые должны быть уловлены в некоем нарративе и предложены клиенту вместо его старых, иллюзорных нарративов. Входя в кабинет, терапевт уже имеет некоторое представление о том, в чем состоят эти “сущности”. Постмодернистские терапевты не верят в “сущности”. Знание, будучи социально обретенным, меняется и обновляется в каждый момент взаимодействия. В историях и текстах не скрываются более важные смыслы. Терапевт с таким видением будет ожидать, что в ходе беседы на поверхности появится новый и, возможно, более полезный нарратив, но будет рассматривать его скорее как спонтанный, нежели запланированный. Его автор — беседа, а не терапевт.
В контексте социально-конструктивистского мировоззрения, важно уделять внимание культурным и контекстуальным историям, равно как и историям индивидов.
Согласно Мэйру (1988, стр. 127),
Истории одушевляют жизнь. Они сплачивают и разъединяют нас. Мы обитаем в великих историях нашей культуры. Мы проживаем истории. Нас проживают истории нашей расы и местности.
Уайт (1991) пишет, что культурные истории определяют форму наших индивидуальных жизненных нарративов. Люди осмысливают свою жизнь через истории как через культурные, врожденные нарративы, так и через личные нарративы, которые они конструируют относительно культурных нарративов. В любой культуре определенные нарративы со временем будут доминировать над остальными. Эти доминирующие нарративы будут определять предпочтительные и привычные формы убеждений и поведения внутри определенной культуры. Некоторые культуры колонизировали и подавили другие. В результате этого, нарративы доминирующей культуры навязываются людям вытесненных культур.
Команда “Справедливой терапии” (Tamasese & Waldegrave, 1993; Waldegrave, 1990) напомнила нам, что важно уважать и пытаться понять культурные традиции всех людей, с которыми мы работаем, в особенности, тех людей, чьи культуры были вытеснены на обочину. Они также утверждают, что, когда мы пытаемся объяснить смысл своей работы членам других культур, это вдохновляет нас самих на полезное осмысливание. Чарльз Уолдгрейв (1990, стр. 20) пишет:
... почеркивание культурного смысла и культурного различия... вдохновляет на размышления о западной системе смыслов... Оно предполагает критическую систему противоположностей для оценки следующих важных вопросов: сотрудничество как противоположность индивидуалистической конкуренции, самоопределение; тонкие косвенные и круговые процессы опроса как противоположность прямым и линейным; традиционные духовные и экологические реакции как противоположность дуалистическому мировоззрению с его разделением ценностей на физические и духовные; и т.д.
Какой бы культуре мы ни принадлежали, ее нарративы влияют на нас, побуждая приписывать определенные значения определенным жизненным событиям и относится к другим, как к относительно незначительным. Каждое запомнившееся событие составляет историю, которая вместе с другими историями составляет жизненный нарратив. В эмпирическом смысле, наш жизненный нарратив — это наша жизнь.
Ключ к этой терапии лежит в том, что в любой жизни всегда больше событий, которые не удостаиваются истории, чем тех, которым повезло. Даже в самых длинных и развернутых автобиографиях, за их пределами остается больше, чем в них включено. Это означает, что, когда жизненные нарративы несут болезненные смыслы или предлагают, как кажется, неблагоприятный выбор, они могут быть изменены посредством выявления других, ранее не помещенных в историю, событий или извлечения нового смысла из уже получивших свою историю событий, что позволяет конструировать новые нарративы. Или, когда доминирующие культуры несут деспотические истории, люди могут противостоять их диктату и найти поддержку в субкультурах, которые живут другими историями.
Итак, нарративная терапия касается перессказывания и переживания историй. Когда люди перессказывают свои истории в ходе терапии, они часто “замечают, что у них уже есть опыт участия в альтернативной истории” (Zimmerman & Dickerson, 1994а, стр. 235). Эдвард Брунер (1986а, стр. 17) пишет:
... вся культура связана с перессказыванием. Очередной перессказ снова активизирует предыдущий опыт, который затем пере-обнаруживается и пере-живается по мере того, как история пере-сказывается в новой ситуации. У историй могут быть окончания, но истории никогда не заканчиваются.
Однако недостаточно лишь изложить новую историю. Чтобы проявить свое отличие, новые истории должны быть прочувствованы и пережиты вне четырех стен терапевтического кабинета. Брунер (1986а, стр. 22-25) продолжает:
... мы имеем дело с культурой не как с текстом, а скорее с культурой как с представлением текста — и, я бы добавил, с пере-представлением и перессказом... Истории могут быть преображены лишь в процессе их представления.
Таким образом, когда мы используем нарративную метафору для ориентации своей терапевтической работы, мы необычайно чутки к “локальному знанию” каждого нового человека, которого мы встречаем. Мы хотим развить понимание влияния на определенных людей доминирующих историй их культуры, в то же время, лелея знание того, что истории всех людей отличаются друг от друга. Мы работаем с людьми так, чтобы побудить их ценить свои различия и развивать и представлять нарративы, которые они предпочитают в связи с особенностями своей жизни.
Нет неотъемлемых истин
В контексте описанного нами нарративного/социально-конструктивистского мировоззрения, так как мы не можем объективно познать реальность, нам остается лишь интерпретировать опыт. Существует множество возможностей для интерпретации любого данного опыта, но ни одна интерпретация не будет “действительно” истинной. Там, где модернистское мировоззрение предлагает нам отказаться от выбора и методично определять интерпретацию всеобщего применения, мы позволяем себе порадоваться разнообразию. В этом отношении, мы рекомендуем вам роман Мэдисона Смарта Белла The Year of Silence (Год тишины) (1987). Все главы рассказываются от имени разных персонажей. Когда одни и те же “факты” перессказываются с различных точек зрения, они приобретают совершенно различные смыслы.
Милан Кундера пишет о “невыносимой легкости бытия”. Это название его самого известного романа стало ключевой фразой среди постмодернистов, многие из которых полагают, что нам полезно с “легкостью” придерживаться своего видения реальности. Будучи окруженными многочисленными историями и многочисленными возможностями постмодернистской “мультивселенной”, мы верим, что “неотъемлемых” истин нет.
Давайте рассмотрим, как Клиффорд Геертц (1983, стр. 62) описывает свое пребывание на Бали:
... там, на Бали, наблюдается настойчивое и систематическое устремление стилизовать все аспекты личного самовыражения до такой степени, что все особое, характерное ... заглушается в пользу предназначенного [человеку] места в непрерывном и, как полагается, неизменном карнавальном шествии, что и есть сама жизнь на Бали. Именно драматические персонажи, а не актеры, продолжают существовать. Действительно, драматические персонажи, не актеры, по сути реально существуют... маски, которые носят [люди], сцена, на которой они располагаются, роли, которые они играют, и, что наиболее важно, спектакль, который они ставят — все это остается и составляет не фасад, но сущность вещей и, не в последнюю очередь, человеческой самости.
Балийская концепция самости как персонажа в бесконечной, неизменной драме весьма отличается от индивидуализированной, обтянутой кожей “истинной самости” или “глубинной самости”, которую обсуждают многие западные психотерапевты. Контраст различных ипостасей самости возвращает нас к представлению о том, что идеи о самости, как и другие конструкции, формируются через социальное взаимодействие в особых культурных контекстах. Мы, следовательно, приходим к заключению, что такой вещи как “неотъемлемая” самость не существует.
“Самости” социально конструируются через язык и поддерживаются в нарративе. Мы представляем самость не как нечто, помещенное вовнутрь индивида, но как процесс или деятельность, которая происходит в пространстве между людьми. Стейнер Квале (1992, стр. 15) пишет:
В современном понимании человеческого существа происходит сдвиг от внутренней природы индивидуальной психеи к бытию-в-мире с другими человеческими существами. Фокус интереса смещается от внутреннего содержимого психического вместилища к внешней природе человеческого мира.
Джон Нил (в печати) отмечает подтекст этого пере-определения самости:
Объяснение поведения, основанное на психологии индивида, вытесняет влияние практик доминирующей культуры из кругозора терапевта. Конституционалистская перспектива противопоставляет это влияние взгляду на людей и проблем, который помещает проблемы в сферу действия силы и смысла через заявления, практики и структуры институтов/установлений, которые разделяют и увековечивают привычное мировоззрение.
Различные самости порождаются в различных контекстах, и ни одна из самостей не является более истинной, чем любая другая. Мы думаем, что люди постоянно учреждают “самости” друг друга, и что существует множество возможных историй обо мне, о тебе и других людях.
Тогда как ни одна самость не может быть более “истинной”, нежели другая, истинно то, что определенные представления самости являются более предпочтительными для определенных людей в рамках определенных культур. Однако “предпочтительная самость” отличается от неотъемлемой или “истинной” самости. Вместо того, чтобы искать неотъемлемую самость, мы работаем с людьми с тем, чтобы породить различные опыты самости и определить, которые из этих самостей они предпочитают и в каких контекстах. Затем наша работа направляется на то, чтобы поддержать их в проживании нарративов, которые поощряют рост и развитие этих “предпочтительных самостей.”
ПОСТМОДЕРНИЗМ И МОРАЛЬНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ
Когда мы говорим, что существует множество возможных историй о себе (или о других аспектах реальности), мы отнюдь не имеем в виду, что “в дело все пойдет”. Наоборот, мы считаем необходимым исследовать свои конструкции и истории — откуда они взялись, и каковы их последствия для нас самих и других.
Как писал Джером Брунер (1990, стр. 27):
Постановка прагматического вопроса — как это видение влияет на мое видение мира или мои обязательства перед ним? — несомненно, не приводит к позиции “в дело все пойдет”. Она может привести к раскрытию предубеждений, и лучшему пониманию своих обязательств.
Ричард Рорти (1991b, стр. 132) формулирует это так:
Отказ от традиционного логоцентрического образа человеческого существа как Знающего приводит, как нам кажется, к тому, что мы оказываемся не перед пучиной, а просто перед диапазоном выбора.
Эти авторы, похоже, говорят, что постмодернистское мировоззрение повышает необходимость исследовать наши конструкции и осторожно решать, как влиять на них, не менее того. Вопросы принятия решений, выбора и исследования последствий нашего выбора — центральные в той форме терапии, которую мы практикуем. Мы не только внимательно исследуем убеждения и ценности, которые мы выбираем, но и побуждаем к этому людей, которые к нам приходят.
С этой целью, мы поставляем зерно убеждений и ценностей на терапевтическую мельницу. Мы пытаемся понять убеждения, которые поддерживают проблемы людей. Мы пытаемся узнать, откуда исходят эти убеждения, и какие процессы социальной конструкции укрепили людей в этих убеждениях. Мы пытаемся быть “прозрачными” (White, 1991) в отношении своих собственных убеждений, достаточно полно разъясняя нашу ситуацию и наш жизненный опыт, чтобы люди могли понять нас как людей, а не как “экспертов” или хранителей профессионального знания.
Если бы даже мы хотели выпестовать нейтральную к ценностям реальность, где “в дело все пойдет”, у нас бы это не получилось. Невозможно создать и заселить совершенно новую социальную реальность за одну ночь. Если вы вернетесь к мысленному эксперименту, описанному нами как “Реальности социально конструируются” (стр. ** - **), вы вспомните, что убеждениям, практикам и институтам нашего едва оперившегося общества понадобилось несколько поколений, чтобы набрать вес реальности.
Хотя, как пишут Бергер и Лакманн (1966, стр. 86), “в любом развитом обществе существует множество смысловых подвселенных”, эти подвселенные не бесконечны в своем количестве. Конкретизирующие и легитимирующие влияния наших культурных институтов весьма эффективно сдерживают нас, побуждая нас видеть определенные возможности как желательные, и полностью закрывая от нас другие возможности. Как говорит об этом Джоан Лэйрд (1989, стр. 430),
... социокультурные нарративы... конструируют контекстуальные миры возможностей, из которых индивиды и семьи могут выбрать составляющие и формы для своих собственных нарративов.
Однако некоторые люди в большей степени готовы приблизиться к более широкому спектру социокультурных нарративов, чем другие. Кроме того, некоторые нарративы доминируют, тогда как другие вытеснены на обочину. Лэйрд (стр. 431) напоминает нам об этом, когда пишет о
... политике создания историй или мифов. Очевидно, что существуют как явные, так и тонкие различия в той силе, которой обладают индивиды и определенные группы интереса, и которая способна гарантировать, что определенные нарративы будут преобладать в семье, группе и национальной жизни. Не все истории равны.
Социальные реальности могут не быть “существенно истинными”, но это не препятствует им в оказании реального влияния. История о том, что “благоденствующие матери” заняты на мини-производстве, где они становятся все богаче и богаче, изготовляя все больше и больше детей, имела реальное влияние на подчиненных ей женщин и детей. Она обеспечила рациональное основание, которое позволило власть предержащим еще больше урезать финансирование. История о том, что женщина не может быть слишком худой (очевидно, здесь опечатка thin — thick, не худой, а полной. От переводчика — редактору.) перессказывается каждый раз, когда вы включаете телевизор или стоите в очереди в кассу супермаркета в окружении журналов. Она породила настоящую эпидемию добровольного голодания. История о том, что мужчины из гетто заинтересованы лишь в наркотиках, сексе и в том, чтобы убивать друг друга, привела к порочному акценту на определенных форм женоненавистничества и насилия в средствах массовой информации. В то же время, она послужила рациональным оправданием для отказа от проведения социальной политики, которая могла бы предложить мужчинам из гетто реальный шанс для другого самоопределения в этом мире.
ПОЛИТИКА ВЛАСТИ
Одной из последовательно привлекательных для нас особенностей голоса Уайта является его отношение к политике власти. Он (1991, 1993, 1995; White & Epston, 1990) отстаивает “конституалистскую перспективу”, которая предполагает, что, поскольку человеческим существам не дано познать неотъемлемых истин, то эмпирические истины нашей повседневной жизни учреждаются посредством историй, которыми мы живем. Он (White, 1993, стр. 125) пишет:
Конституционалистская перспектива, которую я отстаиваю, опровергает фундаментаменталистские положения об объективности, эссенциализм и репрезентационализм. Она утверждает... что эссенциалистские положения парадоксальны в том, что они предлагают определения, точно анализирующие жизнь, и что эти положения затемняют действия власти. А конституционалистская перспектива утверждает, что наши описания жизни не есть отражения проживаемой жизни; они непосредственно учреждают жизнь; что эти описания ... реально влияют на формирование жизни.
Чтобы понять, как Уайт подходит к различиям во власти, необходимо ознакомиться с работами Мишеля Фуко (1965, 1975, 1980, 1985). Фуко был французским интеллектуалом, который, помимо прочего, изучал те различные способы, посредством которых люди в западном мире классифицируются как “нормальные” и “ненормальные” (аномальные). Он исследует сумасшествие (Foucault, 1965), заболевание (1975), преступность (1977) и сексуальность (1985) как понятия, в сфере которых определенных людей относят к безумным, больным, преступникам или извращенцам. Он описывает различные способы, с помощью которых их отделяют, изолируют и угнетают на основе этой классификации.
Согласно Фуко, язык — это инструмент власти, и люди обладают властью в обществе прямо пропорционально своей способности участвовать в разнообразных дискурсах *[Тогда как Словарь американского наследства, Третье издание, в качестве первого определения “дискурса”, дает просто “вербальное выражение в речи или тексте”, ученые, подобные Фуко, склонны использовать это слово для обозначения текущих исторических бесед в рамках общества, которые учреждают наши представления о “сумасшествии”, “нормальной сексуальности” и т.д. См. Главу 3, стр. **-**, где дается более подробное толкование важности этого термина в постмодернистской мысли.], которые формируют общество. Люди, чьи голоса доминировали в обсуждении того, что составляет сумасшествие, к примеру, могли изолировать людей, в которых они видели сумасшедших, от “благовоспитанного общества”, заключая их в сумасшедшие дома, где их голоса были отрезаны от благовоспитанного дискурса. Он утверждает, что существует неразрывная связь между знанием и властью: дискурсы общества определяют, какое знание следует считать истинным, верным или надлежащим в этом обществе. Итак, те, кто контролируют дискурс, контролируют знание. В то же время, доминирующее знание данной среды определяет, кто сможет занять в ней властные позиции. Согласно Фуко, власть — это знание, а знание — власть.
В контексте нарративной метафоры, дискурсы власти, которые изучал Фуко, можно рассматривать как исторические, культурные мета-нарративы — как истории, которые сформировали (и сами были им сформированы) распределение власти в обществе.
Как пишет Эдвард Брунер (1986а, стр. 19),
... доминирующие нарративы — это единицы власти, равно как и смысла. Способность рассказывать свою историю содержит политический компонент. Действительно, одним из показателей доминирования нарратива служит то место, какое ему отводится в дискурсе. Альтернативные, конкурирующие истории, как правило, не размещаются в пространстве каналов истэблишмента и вынуждены искать выражения в подпольных средствах информации и в группировках диссидентов.
Три важных области дискурса, которые Фуко не обсуждал (и мы не имеем в виду, что это лишь единственные три, которых он не касался), относятся к расам, социальным классам и половой принадлежности. Доминирующие нарративы нашего общества лишают власти огромные количества людей, лишая их значительного голоса в этих особых областях дискурса. Например, в своей монографии Playing in the Dark (Игры во тьме) Тони Моррисон (1992, стр. 4, 5) обсуждает, как “знание” американских литературных историков и критиков
... держится на том убеждении, что каноническая американская литература однородна, свободна и не формировалась под влиянием четырехсотлетнего присутствия сначала африканцев, а потом — афро-американцев в Соединенных Штатах. То есть предполагается, что это присутствие — которое сформировало основу политики, Конституцию и всю историю культуры — не имело значительного места или влияния на зарождение и развитие литературы этой культуры... Похоже, что среди исследователей литературы принято в той или иной степени подразумеваемое соглашение, что, поскольку американская литература всегда была явным заповедником взглядов, гениев и власти белых мужчин, эти взгляды, гении и власть никак не связаны и отчуждены от несметного присутствия черных людей в Соединенных Штатах.
Уайт, следуя за Фуко, пишет, что мы склонны интернализировать *[См. Adams-Westcott, Dafforn и Sterne (1993), где приведено блестящее обсуждение того, как доминирующие истории о насилии и его смысле могут быть интернализированы. Обсуждаются последствия такой интернализации.] “доминирующие нарративы” нашей культуры, легко веря в то, что они изрекают истину нашей идентичности. Используя терминологию Фуко, мы можем сказать, что люди склонны становиться “послушными телами” под [интернализованным] “взглядом” тех, кто контролирует дискурсы власти в нашей культуре. Таким образом, доминирующие нарративы склонны скрывать от нас возможности, которые другие нарративы могли бы нам предложить.
Уайт (1991, стр. 14) утверждает, что люди приходят на терапию, либо когда доминирующие нарративы не позволяют им прожить свои собственные предпочтительные нарративы, или когда
... человек активно участвует в представлении историй, которые он находит бесполезными, неудовлетворительными и бесперспективными. Эти истории в незначительной мере охватывают прожитый опыт человека, или они значительно противоречат важным аспектам прожитого опыта человека.
Фуко в особенности интересовался тем, как “истинные утверждения”, содержащиеся в “великих абстракциях” модернистской науки учреждают дискурс, который дегуманизирует и объективирует множество людей. Он был заинтересован в том, чтобы найти и распространить вытесненные дискурсы, которые могли бы подорвать власть дискурса модернистской науки. Он (1980, стр. 80-84) писал о “поразительной действенности прерывистой, специфической и локальной критики” в осуществлении “возврата знания” или “восстания порабощенных знаний”. “Мы заинтересованы, — говорит он,
в восстании знаний, которым противостоят ... влиянию централизованных сил, связанных с институтами и функционированием организованного научного дискурса внутри такого общества, как наше.
Майкл Уайт утверждает, что даже в большинстве маргинальных и лишенных возможностей жизни всегда существует “жизненный опыт”, который лежит вне области доминирующих историй, которые вытеснили и лишили возможностей эти жизни. Он и Дэвид Эпстон, а также многие другие, разработали способы мышления и работы, которые основаны на создании “прерывистых, специфических и локальных” историй индивидов и групп и наделении этих историй таким смыслом, который позволяет им стать частью эффективного “восстания порабощенных знаний”, восстания, которое побуждает людей заселить и заявить права на многие возможности в своей жизни, которые лежат за пределами доминирующих нарративов. Остальная часть этой книги — это попытка распространить историю работы, основы которой заложили Уайт и Эпстон.
ЭЛЕМЕНТЫ НАРРАТИВНОЙ/СОЦИАЛЬНО-КОНСТРУКТИВИСТСКОЙ ПОЗИЦИИ
Мы разработали набор вопросов, помогающих нам поддерживать нарративную/социально-конструктивистскую позицию. Работая с людьми, мы время от времени мы задаем себе эти вопросы и побуждаем обучающихся с нами терапевтов задавать эти вопросы себе. Вопросы продолжают развиваться, поэтому мы определенно не уверены, что, к тому времени, когда вы прочтете это, наш личный список будет в точности соответствовать предложенному здесь.
На самом деле, то, что сейчас представляет собой список вопросов, начиналось как список “направляющих принципов”, которые были сформулированы как рекомендательные, но в достаточной мере предписательные высказывания. Формулировка их в форме вопросов делает их менее предписательными. Понимаете ли вы, почему меньшая степень предписательности более соответствует нашему постмодернистскому мировоззрению?
Вот эти вопросы:
1. Требуется ли мне описание более чем одной реальности?
2. Слушаю ли я так, чтобы понять, как эмпирическая реальность этого человека была социально сконструирована?
3. Чей язык здесь находится в привилегированном положении? Пытаюсь ли я принять и понять лингвистические описания этого человека? Если я предлагаю распознавание или типизацию на моем языке, то почему я делаю это? Каковы эффекты разнообразных лингвистических распознаваний, которые возникают в ходе терапевтической беседы?
4. Что за истории поддерживают проблемы этого человека? Есть ли такие доминирующие истории, которые подавляют или ограничивают жизнь этого человека? Что вытеснило на обочину те истории, которые я выслушиваю? Есть ли ключи к вытесненным историям, которые еще не были проговорены? Как я могу побудить этого человека участвовать в “восстании знаний” вокруг этих вытесненных историй?
5. Фокусируюсь ли я на смысле, а не на “фактах”?
6. Оцениваю ли я этого человека или предлагаю ему оценить широкий диапазон вещей (напр., как проходит терапия, предпочтительные направления в жизни)?
7. Помещаю ли я свои мнения в обстоятельства своего личного опыта? Достаточно ли я прозрачен в отношении моего контекста, моих ценностей и намерений, чтобы этот человек мог оценить влияние моих пристрастий?
8. Не скатываюсь ли я в патологизирование или нормативное мышление? Проявляем ли мы дух сотрудничества при определении проблем, основываясь на том, что проблематично в опыте этого человека? Держусь ли я в стороне от гипотез и теорий “эксперта”?
3 ОТКРЫВАЯ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОВЫХ ИСТОРИЙ
Сегодня у психологов есть любимое слово, и это слово — неприспособленный. Сегодня я говорю вам, что горжусь своей неприспособленностью к некоторым вещам, которые присутствуют в нашей социальной системе. Я никогда не приспособлюсь к своре линчевателей, сегрегации, экономическому неравенству и физическому насилию, работающему на самопоражение. Спасение миру принесут неприспособленные.
— Мартин Лютер Кинг, Мл.
... я должен предостеречь вас — если к экстернализации подходят как к чистой технике, она, вероятнее всего, не даст глубоких результатов. Если вы до глубины души не верите в то, что люди не есть их проблемы, и что их затруднения — это социальные и личные конструкции, тогда вы не увидите эти трансформации. Когда работают Эпстон или Уайт, вы можете сказать, что они абсолютно убеждены, люди не есть их проблемы. Их голоса, их позы, все их существо излучают возможность и надежду. Они определенно находятся под влиянием Оптимизма.
— Билл О’Хэнлон, 1994, стр. 28
Люди рождаются в историях; их социальный и исторический контекст постоянно побуждает их рассказывать и помнить истории определенных событий, а другие события оставлять без историй. Ряд авторов (Foucault, 1980; Hare-Mustin, 1994; Lowe, 1991; Madigan & Law, 1992; Weingarten, 1991) предполагают, что “дискурс” — полезное понятие для понимания того, как это происходит. Рейчел Хэйр-Мастин (1994, стр. 19) определяет дискурс как “систему утверждений, практик и установленных структур, которые разделяют общие ценности”. Она (стр. 20) полагает, что дискурсы поддерживают определенные мировоззрения, отмечая, что “То, как большинство людей придерживаются общепринятой точки зрения, говорят о ней и действуют в соответствии с ней — все это часть и поддержка преобладающих дискурсов”. Стивен Мэдиган и Йэн Ло (1992, стр. 33) добавляют, что “дискурс можно рассматривать как отражение преобладающей структуры социальных и властных взаимоотношений”.
Дискурсы властно формируют выбор человека относительно того, какие события жизни следует превращать в истории, и как это надлежит делать. Это верно как для терапевтов, так и для людей, которые приходят к ним на консультацию.
Наши истории о терапии были сформированы разнообразными дискурсами. Вот лишь некоторые из наиболее распространенных: дискурсы о патологии, о нормативных стандартах и о профессионалах как экспертах. Эти дискурсы распространяются через содержание профессионального обучения, равно как и через структуру наших образовательных институтов и процессы профессиональной социализации. Другими словами, большинству терапевтов, включая и нас самих, внушали, что слушать надо диагностическим, патологизирующим ухом. Медицинская модель, с ее акцентом на выслушивание признаков и симптомов болезни, оказывает настолько всепроникающее влияние, что не многим из нас удается избежать ее требований. Наша образовательная система, с ее сильным акцентом на знание верного ответа, приучила нас прислушиваться к фактам того рода, что могут появиться в выборочных тестах, но не к тому, чтобы слушать так, дабы понимать разочарования, дилеммы и устремления рассказывающего.
Эти дискурсы также формируют и содержатся в практиках вне нашей области: например, в требованиях к оплате третьей стороной — постановки диагноза и поддержание картотеки определенных записей — в книгах по самопомощи, в изображении терапевтов в средствах массовой информации и в ожиданиях тех людей, которые приходят к нам на консультацию. Фрейдистские “археологические” метафоры о “глубинной, бессознательной истине” настолько глубоко пропитали нашу культуру, что порой мы не замечаем их влияния. Эти метафоры побуждают нас прислушиваться не к смыслу человека, а к смыслу знатока, спрятанного за ним.
ВЫСЛУШИВАНИЕ
На примере наших историй о терапии, которые были сформированы в контексте этих превалирующих дискурсов, можно сказать, что большинству терапевтов трудно научиться выслушивать истории людей как истории. Наши истории о терапии тайно побуждают нас держать ухо востро, а рот в ожидании момента для реплики “Ага!”, когда мы распознаем “клинически значимый момент” — когда мы знаем, что с этим делать.
Тем не менее, как замечает Вайнгартен (1991), дискурсы могут меняться и эволюционировать, когда беседы между людьми затрагивают культурно доступные нарративы. Другими словами, знание на локальном уровне и исходящее от подсообществ может влиять на более крупные дискурсы. Как бы просто это ни показалось, перед лицом превалирующих дискурсов и доминирующих знаний, простое выслушивание рассказываемой кем-то истории представляет собой революционный акт.
Когда мы впервые встречаем людей, мы хотим понять, какой смысл несут их истории для них самих. Это означает наш отказ от “экспертных фильтров”: не вслушиваться в основные жалобы; не “собирать” подходящие-для-нас-как-для- экспертов кусочки диагностической информации, рассеянные по их историям; не слушать их рассказы так, как если бы они служили матрицами, внутри которых кроются ресурсы; не вслушиваться в поверхностные намеки на то, что “на самом деле” является основной проблемой; и не сравнивать те самости, которые они изображают в своих историях, с нормативными стандартами.
Вместо этого, мы пытаемся влезть в кожу тех людей, с которыми работаем, и понять с их точки зрения, на их языке, что побудило их искать у нас поддержки. Лишь тогда мы сможем признать альтернативные истории. Устанавливая связь с опытом людей с их точки зрения, ориентирует нас на специфические реальности, которые формируют (и ими формируются) их личные нарративы. Понимание такого рода требует, чтобы мы слушали с обостренным вниманием, терпением и любознательностью, одновременно выстраивая взаимоотношения, основанные на обоюдном уважении и доверии.
Несмотря на полученное нами образование, которое говорит нам о том, что мы действительно знаем, мы пытаемся прислушиваться к тому, чего мы не знаем.
Не-знание
Андерсон и Гулишиан (1988, 1990а, 1992; см. также Anderson, 1990; Goolishian, 1990; Goolishian & Anderson, 1990; Hoffman, 1991) страстно и убедительно писали о важности для терапевта позиции “не-знания”. Они рассматривают терапию как процесс, в котором “мы все время движемся в сторону того, что еще не познано” (1990а, стр. 159). Это предполагает, что вопросы не следует задавать с позиции предварительного знания (Andersen, 1991b; Weingarten, 1992), и что не следует задавать вопросы, на которые мы хотим получить определенные ответы.
Тем не менее, позиция не-знания отнюдь не совпадает с позицией “Я ничего не знаю”. Наша задача состоит в познании процесса терапии, а не содержания и смысла человеческой жизни. Мы надеемся, что терапия — это процесс, в котором люди испытывают ощущение выбора, а не чувство “непоколебимой уверенности” (J. Bruner, 1986) по отношению к тем реальностям, которые они населяют. Как пишут Андерсон и Гулишиан (1988, стр. 381):
Цель терапии состоит в том, чтобы принимать участие в беседе, которая постепенно смягчается и раскрывается, а не сжимается и закрывается. Через терапевтическую беседу, неизменные смыслы и формы поведения... получают пространство, расширяются, смещаются и изменяются.
Мы достигаем наибольших успехов в достижении позиции не-знания, когда концентрируемся на выслушивании, и когда наша речь направляется нашим слухом и вторична по отношению к нему. По мере того, как мы слушаем, мы замечаем и подвергаем сомнению те предположения, которые мы делаем. Мы спрашиваем себя: “Понимаю ли я, каково быть этим человеком в этой ситуации, или я начинаю заполнять пробелы в его истории необоснованными предположениями? Что еще я должен сделать, чтобы почувствовать себя на его месте?” Если наша внутренняя беседа говорит нам, что дополнительная информация в определенной области поможет нам глубже проникнуть в реальность этого человека, мы просим его рассказать что-то еще. Такое постоянное сомнение в своих предположениях побуждает людей подвергать сомнению собственные предположения.
Не-знание поощряет установку на любознательность (Cecchin, 1987; Rambo, Heath, & Chenail, 1993). Нам любопытны уникальные ответы людей и мы воодушевляем их на то, чтобы они развивали их более полно. Когда ответ уводит беседу в неожиданное направление, мы задаем даже больше вопросов, следуя в этом новом направлении, если оно кажется подходящим.
Просто выслушивание и постановка побуждающих и проясняющих вопросов с позиции любознательности само по себе может иметь терапевтический характер. Иногда люди получают все, что они хотят от терапии, единственно через этот процесс. Терапия такого рода, как указывают Андерсон и Гулишиан (1988, стр. 380), представляет собой
... процесс расширения и проговаривания “невысказанного” — развитие через диалог, новых тем, нарративов и, безусловно, создание новых историй.
Интерпретация
Постмодернисты до мозга костей, Андерсон и Гулишиан дают понять, что они не верят, что “невысказанное” — это нечто, что уже существует. Оно не лежит, прячась в бессознательном, или ждет, полностью сформированное, пока его заметят и опишут в контексте кибернетических структур семейных взаимодействий. Наоборот, оно возникает и принимает форму по мере того, как мы беседуем друг с другом. Следовательно, огромное значение имеет то, чему придают внимание слушающие терапевты. Другими словами, выслушивание — это не пассивная деятельность. Когда мы слушаем, мы интерпретируем, хотим мы этого или нет.
Это может звучать как противоречие нашему более раннему заявлению — “Мы хотим понять, какой смысл несут их истории для них. Это означает наш отказ от “экспертных” фильтров”. То, что здесь важно, это слово “экспертный”. Тогда как невозможно избежать интерпретации, мы пытаемся избежать убеждения, что о прожитом опыте человека, мы знаем больше, чем он сам. Люди, с которыми мы работаем являются первичными интерпретаторами своего собственного опыта.
В ходе своих терапевтических бесед мы “собираем” смыслы во взаимодействии с другими, а не открываем истины. Неизбежно, что мы выберем определенные вещи как стоящие и значимые, и проигнорируем другие. Наш разум — это не пустая грифельная доска (и никогда не может стать таковым), на которой люди могут писать свои истории. Если мы считаем себя экспертами по патологии, мы будем замечать, запоминать и далее исследовать те вещи, произносимые людьми, в которых нам слышится патология. Если наш слух направляется теорией, которая говорит, что люди должны “прочувствовать свою боль”, дабы обрести целостность, мы будем формировать болезненные истории. Если у нас есть специальный интерес к теме обделенности властью, мы будем побуждать людей рассказывать нам истории о том, как они были лишены власти. Все может закончиться тем, что те самые вещи, которых люди пытались избежать, прийдя на терапию, станут более реальными, более живучими и более гнетущими.
Декоструктивное выслушивание
Мы называем этот особый род выслушивания, необходимый для принятия и понимания историй людей без конкретизации и усиления беспомощных, болезненных и патологических аспектов этих историй *[Это не означает, что мы побуждаем людей игнорировать несправедливость или смиряться с ней. На самом деле, это означает, что мы более внимательны к событиям, которые могут быть пересказаны как история “борьбы против несправедливости”, нежели к тем, которые рассказываются как истории о “человеке как жертве”. Таким образом, мы помогаем себе и людям, с которыми работаем, сыграть свои роли в деконструкции патологизирующих историй.] деконструктивным выслушиванием. Путем такого выслушивания мы пытаемся открыть пространство для тех аспектов жизненных нарративов людей, которые еще не обрели свою историю. Наша склонность к социальному конструктивизму приводит к тому, что мы взаимодействуем с людьми, побуждая их относится к своим жизненным нарративам не как к пассивно получаемым фактам, но как к активно конструируемым историям. Мы надеемся, что они переживут свои истории как нечто, к формированию чего они приложили руку, а не как что-то, что уже сформировало их. Мы верим, что эта установка помогает деконструировать “фактичность” нарративов людей, и что такая деконструкция ослабляет хватку ограничивающих историй.
В академических кругах слово ”деконструкция” немедленно приводит на ум работу Жака Деррида (напр., 1988), в которой исследуется, помимо прочего, ускользающая природа смысла. Деррида исследует и иллюстрирует, как смысл любого символа, слова или текста безвозвратно увязает в своем контексте. Деррида и другие конструктивисты полагают, что бесполезно искать один единственный “реальный” или “истинный” смысл любого текста, поскольку все нарративы полны пробелов и двусмысленностей. Ученые-деконструктивисты концентрируют свое внимание именно на этих пробелах и двусмысленностях, чтобы показать, что официально санкционированный или общепринятый смысл данного текста есть ни что иное, как лишь один из огромного числа возможных смыслов.
Итак, когда мы слушаем истории людей “деконструктивно”, наш слух направляется убеждением, что эти истории обладают множеством возможных смыслов. Чаще, чем можно было бы предполагать, смысл, который улавливает слушатель, отличается от смысла, который предполагал донести говорящий. Мы пытаемся извлечь из этого выгоду, выискивая пробелы в нашем понимании и прося людей вставить пропущенные детали, или вслушиваясь в двусмысленности смысла и затем спрашивая людей, как они разрешают или имеют дело с этими двусмысленностями.
Когда люди рассказывают нам истории, мы временами прерываем их, чтобы суммировать наши ощущения от их рассказа. Это позволяет им пояснить нам, совпадает ли тот смысл, который мы уловили, с тем, который они пытались донести. Хотя наша цель состоит в том, чтобы “действительно” понять реальности людей, эти реальности неизбежно начинают изменяться в процессе. Обдумывая наши вопросы и комментарии, люди не могут не рассматривать свои истории с новых сторон. Одно наше присутствие превращает их в мир в новую, другую реальность.
В ходе процесса возникают новые смыслы и новые конструкции. Многие из пробелов, которые мы замечаем, еще не заполнены; людям приходится исследовать свой опыт, чтобы найти детали, которые заполнят пробелы. По мере того, как добавляются детали, меняется форма нарратива. Кроме того, когда люди слышат, что мы улавливаем смысл, отличный от их смысла, они могут пересмотреть свои собственные смыслы и модифицировать их. В течение всего этого процесса мы слушаем очень внимательно, чтобы понять, вокруг чего возникают новые конструкции. Полезны ли они и желательны? Если человек не выражает свое предпочтение новой конструкции, мы ей не следуем.
Восприятие проблем отдельно от людей
Уайт выдвинул идею о том (1987, 1988/9, 1989; см. также Epston, 1993a, и Tomm, 1989), что человек не есть проблема, но проблема есть проблема. Экстернализация — это практика, в основе которой лежит убеждение, что проблема — это нечто, что управляет жизнью человека, влияет на нее и пронизывает ее, нечто отдельное и отличающееся от самого человека.
Выслушивая истории людей, мы задаем себе вопросы вроде “Что здесь проблемного? Какова природа этой проблемы? Как она себя проявляет? Каково этому человеку жить с этой проблемой? Что влияет на этого человека, побуждая его думать/чувствовать/действовать именно так? Что мешает этому человеку принять тот опыт, который он предпочел бы?” Задавая себе эти вопросы, мы делаем первые шаги в восприятии проблем отдельно от людей.
Экстернализация более важна как установка, нежели как техника (Roth & Epston, в печати). Мы убеждены в том (и наши убеждения основаны на опыте использования нарративных идей в терапии и в супервизорстве других, кто пытается применить нарративные идеи в своей работе), что, когда люди подходят к экстернализации как к технике или лингвистическому ухищрению, она может оказаться поверхностной, принудительной и не особо полезной.
Интернализующие дискурсы
Адамс-Уэсткотт, Дэффорн и Стерн (1993) подробно писали о том, как люди, подвергающиеся насилию, оскорблениям, склонны интернализовать травматизирующие события, которые они пережили, в форме внутренних диалогов, и как эти диалоги окрашивают интерпретацию последующих событий. Они пишут (стр. 262):
Проблемы развиваются тогда, когда люди интернализуют беседы, что ограничивает их узким описанием себя. Эти истории переживаются как гнетущие, поскольку они ограничивают восприятие доступного выбора.
Дэвид Эпстон (1993а) выяснил, что этот процесс интернализации происходит не только в случае локального и специфического опыта травмы и насилия, но и в случае более обширного культурного опыта. Он отмечает описание Фуко, касающееся того, как смерть и болезнь (ранее воспринимаемые так, как если бы они пребывали, в первую очередь, в социальном или духовном мире) стали помещать в специфические места в пределах специфических человеческих тел. Эпстон (стр. 171) пишет:
... анатомическое пространство стало каузальным пространством, обиталищем смерти и болезни. За этим последовало то, что тело стали считать вместилищем человеческих качеств. Считалось, что разум, интеллект, безумие и мириады человеческих качеств пребывают в живых телах.
В Средние Века, если человек был “болен”, “безумен” или “преступен”, причину и средство исцеления, как правило, помещали в социальное или духовное пространство — его правитель не правил должным образом, или он сам был отрешен от надлежащего духовного сообщества. В нынешние времена акцент в большей степени делается на личную ответственность за поддержание нашего разума и тела в надлежащем порядке. Если у человека случается сердечный приступ, это объясняется тем, что он придерживался неправильного режима питания и распорядка дня. Если человек впадает в депрессию, это объясняется химической неустойчивостью определенных циклов в его мозге, и здесь требуются химические средства лечения. Согласно Фуко, наиболее политически могущественные дискурсы в современном обществе отделяют нас друг от друга и побуждают нас относится к себе и своим телам как к проблемным объектам. Эпстон назвал доминирующие дискурсы такого рода, которые поддерживают этот процесс, “интернализующими дискурсами”.
Экстернализующая установка может противостоять “объективирующим” влияниям интернализующих дискурсов посредством объективации и разделения того, что было интернализовано. Однако, чтобы принять экстернализующее мировоззрение, мы должны переориентировать свое восприятие и объектировать проблемы, а не людей.
Упражнение
Точкой поворота в моем (Дж. Ф) научении объективировать и экстернализовать проблемы стала моя экстернализованная беседа с самой собой. Было время, когда я считала себя застенчивой. Однажды, когда я была охвачена ужасом в свете грядущего социального события, я решила поговорить с собой о влиянии застенчивости на мою жизнь. Было весьма замечательно обнаружить, что, поскольку я переживаю сдвиг восприятия застенчивости, проявляющейся в социальных ситуациях, а не свое пребывание в состоянии застенчивости, мне было гораздо легче поддерживать сдвиг восприятия такого рода с другими. Это открытие побудило нас разработать это упражнение. Вы можете выполнить его как “мысленный эксперимент”.
Выберите черту характера, качество или чувство, которых, как вам кажется, у вас в избытке, или которые порой вызывают у других неприятие в отношении вас. Пусть описание этого качества будет иметь форму прилагательного, например, “злой”, “завистливый” или “виновный”. В следующем наборе вопросов, замените Х этим прилагательным. Читая эти вопросы и заменяя Х чертой характера или чувством, отвечайте на них для себя.
1. Как вы стали Х?
2. В отношении чего вы более всего Х?
3. Какие события, как правило, приводят к тому, что вы становитесь Х?
4. Когда вы Х, что вы делаете из того, что бы вы не сделали, если бы не были Х?
5. Каковы последствия того, что вы Х, для вашей жизни и взаимоотношений с другими?
6. Какие из ваших текущих затруднений вызваны тем, что вы Х?
7. Как меняется ваше представление о себе, когда вы Х?
8. Если бы вдруг, каким-то чудом, вы проснулись в одно прекрасное утро и больше никогда не были бы Х, как бы, в частности, изменилась ваша жизнь?
Отметьте общий эффект от ответов на эти вопросы. Каково вам? Что представляется возможным в отношении этой черты или чувства? Что представляется невозможным? Как вам видится будущее в отношении этого?
А теперь давайте отойдем от того, что вы только что делали. Возьмите то же качество или черту характера и превратите ее в существительное. Например, если “Х” означало “завистливый”, теперь это станет “завистью”; “злой” превратится в “злобу”. В следующих предлагаемых вам вопросах, вставьте свое существительное на место Y. Ответьте для себя на эти вопросы.
1. Что сделало вас уязвимым для Y в такой степени, что оно может доминировать в вашей жизни?
2. В каких контекстах Y с наибольшей вероятностью проявляется?
3. Какие события, как правило, приводят к проявлению Y?
4. Что Y побуждало вас делать помимо ваших лучших намерений?
5. Как Y влияет на вашу жизнь и ваши взаимоотношения?
6. Каким образом Y привело вас к тем трудностям, которые вы сейчас испытываете?
7. Закрывает ли Y от вас ваши ресурсы, или вы способны видеть их сквозь это?
8. Бывали ли времена, когда вы могли наилучшим образом воспользоваться Y? Времена, когда Y могло проявиться, но вы не выпустили его на сцену?
Отметьте общий эффект от ответов на эти вопросы. Каково вам? Что представляется возможным в отношении Y? Что представляется невозможным? Как вам видится будущее в отношении Y?
Вспомните свои опыты с “Х”. Чем ваш опыт с “Y” отличается от опыта с “Х”? Превращая качество или чувство в существительное, начали ли вы относится к нему как к объекту, а отвечая на вопросы, экстернализовали ли вы этот объект? Насколько это было полезно при обращении с качеством или чувством?
Вхождение в экстернализующее мировоззрение требует от нас отделения восприятия проблем от восприятия людей. По мере того, как мы учимся рассматривать проблемы отдельно от людей, мы начинаем видеть людей как субъектов. *[Здесь мы используем “субъект” в смысле “субъект глагола; тот, кто действует”.] Дэвид Эпстон (1993а, стр. 172) формулирует это так:
Если люди исчезают или поглощаются в... интернализующем дискурсе, то в экстернализующем дискурсе они как бы возникают и возвращаются к жизни как главные герои в своих жизненных историях, которые теперь могут допустить жизни, направленные в будущее, а не путаться в различных версиях отсчета времени.
Мы полагаем, что выслушивание с экстернализующей установкой оказывает мощный деконструктивный эффект. Оно побуждает нас взаимодействовать с людьми не так, как если бы видели их изначально отягощенными проблемами. Это создает совершенно другой “принимающий контекст” для историй людей, в котором мы можем работать с ними и понимать их проблемы, не относясь к ним как к проблем ным или патологическим личностям. В контексте такого рода, содержание и смысл людских историй почти всегда становятся менее сдерживающими.
Пример деконструктивного выслушивания
Следующая стенографическая запись иллюстрирует деконструктивное выслушивание. Здесь я (Дж. К) руководствуюсь как позицией не-знания, так и установкой на восприятие людей отдельно от проблем.
Беседа проводится с Нэн, которая переехала со своей семьей в Чикаго примерно за шесть месяцев до этой беседы. Начиная с того времени, я принимал Нэн примерно раз в три недели. Она пришла ко мне на прием, поскольку не могла продолжать курс терапии у терапевта из другого города.
Значимые вещи, которыми Нэн делилась в своей истории, заключались в том, что в детстве она подвергалась страшным унижениям — физическим, сексуальным и словесным. Возвращающееся переживание унижения сформировало в Нэн веру в то, что единственный способ выживания для нее состоит в том, чтобы принять “гипертрадиционные” формы женского раболепства, концентрируясь на предвидении и удовлетворении малейших желаний окружающих ее людей. Когда ей было 18 лет, она вышла замуж за Барта. Для нее, в первую очередь, это был повод покинуть дом, в котором она выросла. Она думала, что сделала хороший выбор. Барт вежливо разговаривал с Нэн и обеспечил ей дом, в управлении которым она обладала правом голоса. Она говорит, что в первое десятилетие (или больше) брака она успешно выполняла свои обязанности гипертрадиционной жены и матери. Тем не менее, дискурс “женского раболепства” все еще управлял ее жизнью.
Тогда как Барт был хозяином в своем доме, он испытывал постоянные трудности в мире бизнеса. Со временем, Барта все больше начал запутываться в иерархических структурах мира бизнеса. Он не любил “получать приказы” от кого бы то ни было. Однако, конечно, каждый раз когда он брался за новую работу, в независимости от высоты своего положения в организации, над ним стоял кто-то более высокий по положению, кто “отдавал ему приказы”. Он переживал это как оскорбление. Он, бывало, разражался бранью, восприняв оскорбление, и увольнялся, или его увольняли. Тем не менее, со временем он пришел к убеждению, что оскорбительные, унижающие практики полезны и временами необходимы.
По мере того, как оскорбление играло все большую и большую роль в мировоззрении Барта на работе, он стал допускать оскорбительные выражения в адрес Нэн. На четырнадцатом году их брака он стал бить ее. В течение этих 14 лет семья 12 раз переезжала в города трех разных штатов. Это объяснялось тем, что Барт искал работу, где, по его словам, он не будет “работать на идиотов”. После того как Барт стал бить Нэн, она начала испытывать припадки паники и крайнюю депрессию. “Отзвуки прошлого”, в которых она живо переживала сцены унижения из своего детства, стали ее ежедневными посетителями. Эти проблемы привели к госпитализации. Позже, когда она пребывала в больнице, Нэн подверглась сексуальному насилию со стороны терапевта, который, как предполагалось, должен был ей помогать.
В те времена, когда имело место это интервью, три с половиной года спустя после травмирующей госпитализации, Нэн все еще боролась со страхами и депрессией. Хотя Барт прекратил физические оскорбления, по мнению Нэн, он все еще был погружен в установки, которые их поощряли. Нэн не чувствовала ни близости к Барту, ни безопасности в его присутствии. Самокритика, вызванная пребыванием в оскорбительном браке, подпитывала депрессию и страхи, которые уже разрушали ее.
Зная о переживаниях Нэн и реальных последствиях этих переживаний, во время нашей беседы я держал в уме некоторые вещи. Я уверен, что, будучи мужчиной, который живет в этой патриархальной культуре, я не свободен от патриархальных установок, что облегчает мне возможность оскорбительно обращаться с женщиной. Я особенно хочу уберечься от невольного дублирования тех травматических переживаний, которые были причинены Нэн доминирующей культурой. Например, навязывание своих идей вместо выслушивания ее собственных могло бы стать копией определенных нежелательных аспектов ее детства и женитьбы. Я пытаюсь уберечься от этого несколькими способами. Я обсуждал с Нэн свою дилемму, предполагая, что она, возможно, предпочла бы работать с женщиной. Когда она решила продолжать работать со мной, я договорился, с ее согласия, о своем текущем взаимодействии с Джилл. Таким образом, в этой работе я нес ответственность перед женщинами. С тем, чтобы не воспроизводить оскорбляющие ее ощущения, связанные с принуждением, я с особым вниманием следую за Нэн. В этом отношении, деконструктивное выслушивание, вероятно, является самой важной практикой.
В тот момент, когда мы с вами начинаем прислушиваться к этой конкретной беседе, Нэн рассказывает о страхе и о том, как он временами сковывает ее.
НЭН Я никогда не была пугливой. Я рисковала. Но теперь все действительно, действительно становится ужасно, я полагаю, в травмирующие моменты, например, когда мне угрожает Барт. Вроде этого... И подходит момент, когда тебя почти сковывает. Чтобы что-то контролировало тебя так...
ДЖИН Вы говорите, что страх сковывает вас?
НЭН Это как если ты сдвинешься вот с этой одной точки, он навалится. Он не дает тебе ответов. Он просто дает тебе ощущения, вот и все. Физические ощущения. Физически пугающие ощущения.
ДЖИН Итак, он здесь прямо сейчас?
НЭН Нет, в большой степени, нет.
ДЖИН Откуда вам это известно? Я имею в виду, что...
НЭН Ну, он работает сам по себе. Он контролирует, когда хочет контролировать. Это вроде, как я сказала, отдельной вещи. Вот что вызывает беспокойство. И это как, понимаете, это как будто какие-то глупости, которые пытаешься выговорить, и это как будто просыпаешься среди ночи, выглядываешь в окно, и это все просто пугает. И ты думаешь: “Какая глупость”. Кажется, что у него есть свое собственное место в тебе, которое ты не контролируешь. Ты не можешь выговориться или сделать что-то, чтобы прогнать его. Он просто будет там.
ДЖИН Похоже, у вас нет никакой прямой власти над ним, он приходит и уходит, как ему заблагорассудится?
НЭН Гм-м... но я могу действовать и вопреки ему, иногда, когда все не так плохо. Я могу заехать за Мэри Пэт в школу. Все же некоторое время ты можешь функционировать.
ДЖИН И когда вы идете напролом и функционируете вопреки ему, как это выглядит?
(До этого момента я “просто слушал”. Я представлял страх как экстернализованную сущность, и она говорила о нем в том же духе. Я лишь задавал вспомогательные, проясняющие вопросы, выраженные экстернализованным языком, чтобы заполнить пробелы. Задав этот вопрос, я выбрал как бы довольно бесцеремонный путь. Вместо того, чтобы побуждать ее к продолжению истории о страхе, я спросил, что происходит, когда она функционирует вопреки страху. И все же, в первую очередь, моя роль сводится к выслушиванию и пониманию ее истории, как она ее рассказывает.)
НЭН Мне нравится ощущать, как я контролирую его своими действиями, когда он приходит. (Пауза) Но я знаю, что это не так. Он вроде как отпускает меня.
ДЖИН Он играет с вами?
НЭН Это просто... “О’кей, давай ломись, ты делаешь то, что положено, но я все равно буду поблизости”. Понимаете? “Я намерен тебя достать. Я достану тебя позже”. Понимаете? Это что-то вроде психоза или еще что-то? Я становлюсь невероятной? Не знаю.
ДЖИН Хорошо, меня больше заинтересовало это замечание, что вы несколько раз испытывали чувство, что можете иметь на него некоторое влияние. Что вы можете ослабить его хватку. Что даже если он присутствует, вы можете действовать вопреки ему.
(Здесь я отмечаю, что мой интерес относится к особой части ее истории. Мне интересно знать, как она может ослабить хватку страха, но я не пытаюсь научить ее чему-то или убедить в чем-то, просто выяснить, что ей известно об ослаблении хватки страха. Я также надеюсь, что она смогла бы сконструировать нечто новое, ломая голову над тем, как ей удается ослабить хватку страха.)
НЭН Не всегда.
ДЖИН Я понимаю.
(Я полагаю, что “не всегда” означает, что история о тех моментах, когда страх действительно охватывает ее, более уместна для нее сейчас. Я следую за ней и слушаю.)
НЭН Как в прошлую пятницу, когда мне надо было идти к ортопеду, чтобы мне сняли гипс.
ДЖИН У-гу.
НЭН Я не могла выйти из дома. Пути не было.
ДЖИН И что было такого в этой конкретной ситуации? Что такое делал страх, что оказывалось таким эффективным?
(Я поддерживаю использование экстернализованного языка, но, с другой стороны, просто предлагаю ей рассказать больше о страхе и о том, насколько он эффективен.)
НЭН Это было вроде... это было все мое тело, внутри, как будто мне приходилось быть в настоящем, тесном клубке и не двигаться.
ДЖИН Что делал страх, чтобы удержать вас в этом тесном клубке?
НЭН Чувства. Заставляя меня чувствовать чувства.
ДЖИН А что это за чувства? Что это были за чувства тогда?
НЭН Что я распадусь на множество кусочков, если я просто не останусь свернутой в маленьком пространстве. У меня такое бывало, когда отзвуки прошлого были действительно ужасны. Отзвуки прошлого.
ДЖИН У-гу. У-гу.
НЭН Это... тогда это казалось более контролируемым. Потому что, я догадываюсь, знаю, в чем тут дело. Знаете, я могла... я могла сказать о’кэй, вот что случилось, и вот почему ты так себя чувствуешь. Так было лучше. Но эти просто приходят ниоткуда.
ДЖИН Хорошо, если вы взглянете на ситуацию сейчас, сейчас, когда вы не пребываете в ее центре, можете вы увидеть какую-то разницу в чувствах?
(Здесь я аккуратно подвожу ее к другой точке зрения, но я не предполагаю, что она ею воспользуется. Я просто слушаю ее описание в ее собственных словах.)
НЭН Ну, я думаю, это страх перед полной потерей контроля. Это единственная вещь... я имею в виду, я на самом деле не уверена, что это так. Понимаете, что я имею в виду? Но это только мысль.
ДЖИН Как долго, в общей сложности, ему приходилось... он мог держать вас свернутой в клубок?
НЭН Несколько часов. Два-три часа. Звонил телефон, а я не могла ответить, понимаете? Ох, бывают дни, когда я не могу говорить по телефону. Или ответить на звонок в дверь или... (пауза) может, может, потому что я просто... в то время, просто не хотела выходить. (Пауза) А я знала, что выходить надо, и это было вроде полу-существования, понимаете, что я говорю? Это как, я должна быть там, но в действительности меня там нет.
ДЖИН Я думаю, для меня это имеет определенный смысл. Это как если бы вам хотелось просто пропасть на время. Но вы знаете, что Мэри Пэт вернется домой из школы или что... не знаю, какие еще могут быть причины. Какие еще причины, ради которых вам приходится существовать?
(Я осознаю, что не знаю, почему ей “приходится существовать”, и поэтому прошу заполнить мои пробелы.)
НЭН Я несу ответственность перед собой за свое существование.
ДЖИН Хорошо, расскажите побольше об этом. Я имею в виду, мне интересно это, эта ответственность перед собой за свое существование. В чем вы убеждены или знаете относительного этого?
НЭН Хорошо, я испробовала неподходящие методы. Я поняла, что они не работают, и я действительно не хочу, чтобы они работали. Я знаю, что мне нужно жить. И, ах, я не знаю. Это просто... как я сказала, это как будто на самом деле я не хочу быть здесь, но ты знаешь, что тебе нужно быть здесь. И это не всегда... это не всегда...
ДЖИН Не всегда будет так?
(Это смысл, который я подразумеваю. Я произношу это громко с восходящей интонацией с тем, чтобы она могла скорректировать меня, если я не понимаю ее смысл.)
НЭН Ну, это не всегда так.
ДЖИН Это уже не всегда так?
НЭН Верно.
ДЖИН Хорошо, вы сказали: “Я знаю, мне нужно жить”. Вы также сказали: “Я знаю, что мне не нужны эти неподходящие методы, я знаю, я действительно не хочу, чтобы они работали”. Оба эти высказывания мне интересны. Почему бы нет? Возможно, с моей стороны это прозвучит глупо, но вам действительно нужно жить? Почему вы действительно не хотите, чтобы эти методы работали?
(Я не знаю, почему ей “нужно жить”, и мне действительно интересно узнать, почему.)
НЭН Потому что я знаю, что иногда хочу [жить]. Я просто чувствую, что вся моя жизнь была так чертовски трудна. И я больше не хочу отключать свои чувства, как делала это раньше. Я имею в виду, я все еще переживаю самоубийство своего брата и смерть матери четыре года тому назад, понимаете? Почему это должно быть настолько болезненным, физически болезненным сейчас?... Но я не хочу умирать.
В ходе оставшейся части сеанса мы с Нэн говорим о похоронах ее матери. Она рассказывает мне о семейной традиции скрывать свои чувства, и как это не позволяло ей плакать или говорить о своей скорби. Раньше она могла полностью скрывать свои чувства, и это помогло ей прорваться сквозь некоторые мучительные переживания. Теперь она становится чувствующей личностью. Хотя она думает, что в общем это хорошо, но это делает ее более уязвимой для приступов паники и депрессии. К концу сеанса она размышляет над своей решимостью жить и чувствовать — стоять лицом к лицу перед страхом и депрессией и строить значимую для себя жизнь вопреки им.
На тот момент, когда я пишу это, Нэн все еще живет в том же доме, что и Барт, но они разводятся и скоро будут жить отдельно. Они будут продолжать совместно воспитывать свою дочь. Вокруг Нэн растет круг друзей, которые ее поддерживают. Она вернулась в школу, чтобы получить степень магистра образования. Паника и депрессия не исчезли из ее жизни, но она встречает их с большей уверенностью, и лишь очень редко и на очень краткое время они способны сковать ее.
ДЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА ВОПРОСОВ
До сих пор мы обсуждали деконструкцию как нечто, что является естественным и неизбежным побочным продуктом наших усилий понять жизненные истории людей через нарративный/экстернализующий фильтр. Наши изначальные намерения состояли в том, чтобы выслушивать нарративы людей и понимать их, не изменяя их каким-либо решительным образом. По мере того, как мы слушаем таким образом, что осознаем, что нарративы строятся на пробелах и двусмысленностях в историях людей, для рассказываемых историй открывается пространство для смещения.
В свете сказанного, мы часто ощущаем, что важно занимать более активную роль. Мы согласны с Карлом Томмом (1993, стр. 66), который пишет:
Герменевтического выслушивания, кругового опроса, эмпатического отражения и системного понимания не достаточно, к особенности, когда затрагиваются проблемные паттерны несправедливости.
В некоторый момент, обычно когда достигнута определенная степень доверия и взаимопонимания, мы начинаем задавать вопросы, в которых в большей мере присутствует намеренный элемент вмешательства. То есть, мы переходим от деконструктивного выслушивания к деструктивной постановке вопросов.
Деконструктивный опрос побуждает людей увидеть их истории с разных точек зрения, заметить, как они сконструированы (или что они сконструированы), отметить их ограничения и обнаружить, что существуют другие возможные нарративы (Combs & Freedman, 1994b). Иначе этот процесс называют “распаковкой”. По мере того, как люди начинают задумываться над тем, как были сконструированы нарративы, которые они проживают, они видят, что эти нарративы не неизбежны, что они не олицетворяют неотъемлемую истину. Напротив, они являются конструкциями, которые могли быть сконструированы по-другому. Намерение такого рода деконструкции состоит не в том, чтобы бросить вызов нарративу (Griffith & Griffith, 1994), а распаковать его или предложить возможность рассмотреть его под другим углом. Когда это случается, люди могут опротестовать его.
Политика деконструктивной постановки вопросов
Майкл Уайт определяет деконструкцию более активно, придавая ей политический характер. Он (1991, стр. 27) говорит:
Согласно моему не слишком глубокому определению, деконструкция имеет дело с процедурами, которые ниспровергают общепринятые реальности и практики: эти так называемые “истины”, которые отчуждены от условий и контекста их создания; эти бестелесные формы речи, которые скрывают их склонности и предубеждения; и эти привычные практики самости и взаимоотношений, которые порабощают человеческие жизни.
Следуя за Уайтом (и Фуко), мы полагаем, что доминирующие истории могут “порабощать человеческие жизни”. В Главе 1 мы уже обсуждали, как медицинская модель может привести к тому, что люди ощущают себя “послушными телами”, подвластными знанию и процедурам, в которых у них нет активного голоса. Есть также порабощающие истории о поле, расе, классе, возрасте, сексуальной ориентации и религии (это лишь немногие из них), которые в такой степени превалируют и укоренены в нашей культуре, что мы можем попасться на них, не замечая этого.
Деконструкция по Уайту может помочь нам разоблачить “так называемые истины”, которые “скрывают свои склонности и предубеждения” за “бестелесными формами речи”, что создает атмосферу законности ограничивающим и порабощающим доминирующим историям. Принимая и защищая деконструкцию такого рода, мы встаем на политическую позицию против определенных практик власти в нашем обществе.
Когда мы говорим о принятии позиции, мы не имеем в виду чтение лекций людям, с которыми мы работаем. В контексте терапии, хотим мы этого или нет (хотя мы предпринимаем шаги, чтобы свести это к минимуму), слова терапевта обладают привилегиями. Навязывание наших убеждений людям, с которыми мы работаем, копировало бы влияние привилегированных знаний и практик доминирующей культуры на тех, кто находится в порабощенном положении.
Тем не менее, отказ от принятия позиции поддерживает статус кво. В этом смысле, нельзя не принять политической позиции. В расистском обществе, к примеру, игнорировать расизм (“не принимать его позицию”) значит поддерживать его существование. Мы убеждены, что наша ответственность как терапевтов состоит в том, чтобы развивать понимание доминирующих (или потенциально доминирующих) историй в нашем обществе и разрабатывать способы совместного исследования влияния этих историй, когда мы ощущаем их воздействие на жизнь и взаимоотношения людей, которые приходят к нам на консультацию.
Рейчел Хэйр-Мастин (1994, стр. 22) использовала метафору “зеркальной комнаты”, говоря о том, что единственные идеи, которые могут появиться в терапии, это идеи, которые вовлеченные люди приносят в комнату для терапии:
Комната для терапии подобна комнате, уставленной зеркалами. Она отражает лишь то, что произносится в ее пределах... Если терапевт и семья не знакомы с маргинальными дискурсами, связанными, к примеру, с членами подчиненного пола, расы и классовой группы, эти дискурсы остаются за стенами зеркальной комнаты.
Это замечание предполагает, что терапевты должны постоянно размышлять над дискурсами, которые формируют наше восприятие возможного, как для нас, так и для людей, с которыми мы работаем. Хотя мы никогда не сможем получить отстраненное или объективное видение, мы можем раскрыть, но не закрыть разнообразие возможностей, доступных в зеркальной комнате для терапии. Мы можем размышлять над мощными взаимоотношениями, заложенными в каждом возможном дискурсе. Мы можем искать новые возможности через самообразование и через постоянную, регулярную деконструкцию наших убеждений и практик. Мы следуем деконструкции такого рода, обдумывая со своими коллегами и людьми, с которыми мы работаем, влияние историй и дискурсов, которые направляют наши убеждения и практики.
Экстернализация и деконструктивная постановка вопросов
Мы убеждены, что людям наиболее просто исследовать влияние проблемно-насыщенных историй на их жизнь, когда они делают это в контексте экстернализующей беседы. Мы уже познакомили вас с тем, как мы слушаем, используя экстернализующую установку. Теперь мы хотим обсудить, как мы задаем вопросы, которые побуждают не только терапевтов, но и людей с которыми они работают, переживать проблемы в экстернализованной форме. Первый шаг в этом процессе состоит просто в том, чтобы язык, используемый человеком для описания проблемы, преобразовать так, чтобы проблема была объектирована, и задавать человеку вопросы о ней.
Например, в северо-американской культуре, людей, вовлеченных в полный диапазон переживаний, называют “со-зависимыми”. Существуют направления, например, 12-шаговые группы, которые конкретизируют этот ярлык. “Со-зависимость” становится интернализованным дискурсом, и люди ощущают ее частью своей личности. Когда дискурс со-зависимости набирает силу, они теряют контакт с многочисленными аспектами пережитого опыта, которые лежат за его пределами. Люди объективируются как со-зависимые, и другие, некогда трепетные аспекты их опыта уже не принимаются во внимание. Чтобы вовлечь в экстернализующую беседу человека, который был участником этого процесса, мы можем начать с того, чтобы спросить, как со-зависимость повлияла на его жизнь. Если он присоединяется к нашей беседе, мы вместе начинаем бить интернализующий дискурс его же оружием, выводя со-зависимость за пределы личности. Поскольку он больше не определяется как “со-зависимый”, он волен восстанавливать другие аспекты себя и своего опыта. Теперь он может решать, что делать с со-зависимостью. Он может решить выбросить ее из своей жизни или переименовать ее — возможно, в “заботливое отношение”.
Следующие стенограммы, выбранные из двух последовательных встреч, иллюстрируют то воздействие, которое беседа такого рода оказала на одного человека, с которым я (Дж. Ф) работала.
ЛАВЕРН Итак, это большая, это правда большая проблема для меня... потому что такого никогда не было. И все становится, и все становится все хуже и хуже. Луше не становится.
ДЖИЛЛ Откуда вам известно, что становится хуже?
ЛАВЕРН Ну, я чувствую, что становится хуже, потому что я все больше боюсь. Понимаете, что я имею в виду? Я никогда не чувствовала себя так прежде. То есть, я чувствовала себя так прежде, когда они говорили примерно: “ЛаВерн Сколник, пожалуйста, выйдите вперед и прочитайте нам ваше двадцатистраничное что-то там такое”.
ДЖИЛЛ Гм-м.
ЛАВЕРН Знаете. Это не так, это не так сильно, как это. Но что-то начинает шевелиться. Понимаете? И я стала просто как...
ДЖИЛЛ Итак, я прошу вас помедленнее, действительно помедленнее.
ЛАВЕРН Хорошо.
ДЖИЛЛ И слушайте, что это такое.
ЛАВЕРН Хорошо.
ДЖИЛЛ Итак, когда вы говорите, что-то начинает шевелиться. Что вы имеете в виду?
ЛАВЕРН Хорошо. У меня появляется это ужасное ощущение тошноты. Нет, меня не рвет.
ДЖИЛЛ Гм-м.
ЛАВЕРН Мое сердце начинает бешено колотиться. Я чувствую, что мне надо в ванную. Г-м. Я имею в виду, что начинаю потеть.
ДЖИЛЛ Г-м.
ЛАВЕРН А потом я начинаю делать что-то вроде, о, мы, пожалуй, присядем здесь. Кажется, все смотрят на меня. Нет, не совсем так, я собираюсь сказать какую-нибудь глупость. Это просто потому, что я не имею, что сказать. Что, в свою очередь, заставляет меня абсолютно ничего не говорить, потому что я собираюсь начать все анализировать.
ДЖИЛЛ Хорошо. Г-м. Откуда страху известно, когда он может достать вас? Когда он может прийти и начать создавать эту ужасную тошноту? И...
ЛАВЕРН Хорошо, это интересная манера ставить вопрос. Откуда страху известно, когда он может прийти и достать вас? Ух, это страшно интересно.
ДЖИЛЛ Почему? Почему это интересно?
ЛАВЕРН Я не знаю. Это просто так, как вы сказали. Как если бы страх, как будто бы страх не был частью меня, понимаете, что я имею в виду? Страх был чем-то, что где-то там, как противоположность тому, чтобы быть во мне.
ДЖИЛЛ Именно так я думаю о нем.
ЛАВЕРН Вы так думаете о нем? Да, я думаю, я знала это. Это страшно интересный способ спрашивать об этом. Мне это нравится. Сейчас вы дали мне другое видение его. Это страшно интересно.
ДЖИЛЛ Г-м.
ЛАВЕРН Мне можно сказать вам нечто, что прозвучит весьма странно?
ДЖИЛЛ Что это?
ЛАВЕРН Как бы то ни было, я чувствую себя странно. Ух. Я имею в виду. когда вы только сказали это и я сказала, я подумала, ох, что это интересная манера говорить об этом. А потом я была, ох, как будто где-то там. Я почти так себя чувствовала. Я усекла это, понимаете, что я имею в виду? Как будто какая-то часть этого дерьма вытеснилась наружу.
ДЖИЛЛ Это здорово.
ЛАВЕРН Отчасти. Да, это хорошо. Меня раздражает, что я это чувствую.
ДЖИЛЛ Хорошо, я могу понять, как бы вы себя чувствовали. Это из-за того, как люди обсуждают свои проблемы. Поэтому я понимаю, на что это похоже, понимаете, некое облегчение.
ЛАВЕРН Да. Я бы буквально сказала, несмотря ни на что.
ДЖИЛЛ Да. Да. И позвольте мне спросить, как вы думаете, с этим, то, что как бы отдельно от вас, вы лучше осознаете какие-то свои силы?
ЛАВЕРН Да. Я не знаю, сможет ли это, смогу ли я контролировать это чувство, потому что я просто получила некий намек на него. Как только, как я сказала, я получила облегчение?
ДЖИЛЛ Г-м.
ЛАВЕРН Я сказала так. И это как будто было прямо здесь. Вроде того, вроде, ох. Я имею в виду, это было не какое-то облегчающее чувство.
ДЖИЛЛ Г-м.
ЛАВЕРН Вроде что-то волнующее, но прямо здесь. Я думаю, что могу, я имею в виду, когда я начну чувствовать это, я смогу, понимаете, я смогу сказать: “Убирайся отсюда, мужик.” Понимаете, что я имею в виду? Но сказать как бы себе, конечно.
ДЖИЛЛ Да. Хорошо, разрешите мне вернуться к вопросу, который я задавала. Как вы думаете, как страх узнает, когда он может внедриться? И попытаться утвердиться?
ЛАВЕРН Г-м. Я имею в виду. Если вы думаете, что это происходит буквально, то это не так. Я вроде как приглашаю его войти. Потому что, как он сам может, если думать реалистично. Если мы действительно думаем, что он где-то там. Мне пришлось бы его впустить. Он не мог бы просто войти.
ДЖИЛЛ Хорошо, я полагаю, что может статься, есть какие-то определенные вещи, с которыми он объединяется, что делает вас уязвимой к нему.
ЛАВЕРН Ох.
ДЖИЛЛ Вроде сомнения в себе. И я думаю, если были бы определенные вещи, если бы мы могли начать определять их. Ну, к примеру...
ЛАВЕРН Верно, я понимаю вас. Я понимаю, что вы имеете в виду.
ДЖИЛЛ Полезно было бы узнать об этом?
ЛАВЕРН Верно.
(Следующий отрывок взят из нашей следующей встречи две недели спустя)
ЛАВЕРН Я думала о страхе, который вне меня. Я думала об этом целую неделю. Или, скорее, все две недели.
ДЖИЛЛ Действительно?
ЛАВЕРН Да, исключительно.
ДЖИЛЛ И что вы думаете?
ЛАВЕРН Просто я все время об этом думала, а потом мне пришлось... Этот парень, Крэйг, хотел, чтобы я встретилась с ним в доме его друга. И вот я поехала на выходные к этому парню, который мне нравится. В общем, мы вошли в связь.
ДЖИЛЛ Г-м.
ЛАВЕРН Но я стала, я начала слегка дурачиться. Итак, я ехала туда, и этот страх вроде как был со мной. Я выключила радио. И начала, в общем, начала громко с ним беседовать. Вроде как была, нет. Я была с ним, я полностью контролировала его, даже если не желала этого, понимаете. Я была, понимаете. Делая это, я постукивала пальцем по рулю, потому что кругом была куча народа. Понимаете. Итак, я притворялась, что я вроде бы пою.
ДЖИЛЛ (Смеясь) Действительно?
ЛАВЕРН Знаете, похоже так.
ДЖИЛЛ Итак, вы как бы возражали страху? Это вы делали?
ЛАВЕРН Я просто, в основном, говорила, что не намерена позволять ему входить в мое тело. Как если бы он сидел рядом со мной.
ДЖИЛЛ Ух, ты.
ЛАВЕРН Но похоже, похоже, что это хороший способ думать о множестве вещей, знаете, не только об этом.
ДЖИЛЛ Г-м. Почему вы думаете, что это хороший способ думать о множестве вещей?
ЛАВЕРН Ну, потому что это очень, я думаю, это может дать тебе хорошую возможность проверить реальность.
ДЖИЛЛ Г-м.
ЛАВЕРН Понимаете, о чем я говорю? Это выстраивает вещи в некую перспективу, вроде того.
ДЖИЛЛ Г-м.
ЛАВЕРН Да, мне нравится это.
Один из аспектов критики, которую мы слышим в адрес экстернализующих бесед, состоит в том, что они могут побудить людей уйти от ответственности за свое поведение. Мы обнаружили прямо противоположное. Экстернализующие беседы позволяют многим людям впервые пережить выбор возможности. Когда проблема определяет кого-то, этот человек мало что может сделать с этим. Она может. Когда проблема занимает внешнюю по отношению к человеку позицию, он может взять на себя ответственность за взаимодействие с ней. Лаверн почти мгновенно стала ставить страх на положенное ему место.
В Главе 5 мы дадим примеры специфических вопросов, которые могут быть использованы при деконструктивном опросе. А сейчас давайте рассмотрим несколько концепций, которые кажутся нам полезными в практике деконструктивной постановки вопросов.
Поименование сюжета
Поименование сюжета (или проблемной истории) — это полезное дополнение к экстернализации проблемы. Часто одно и то же название годится как для проблемы, так и для связанного с ней нарратива. (“Вранье” может быть как проблемой, так и сюжетом.) Но иногда для них лучше срабатывают разные названия. (Проблему можно назвать “Гнев”, а сюжет — “вынудили выйти из себя”.)
В отношении поименования сюжета, Томм (1993, стр. 69) пишет:
Такое поименование, как процесс наклеивания ярлыка, патологизирует сам патологизирующий паттерн, а не людей, которые его осуществляют. Любые практики исключения, которые могут быть мобилизованы негативным наклеиванием ярлыков подобного рода, затем вынужденно используются в качестве ресурсов, поскольку они автоматически направлены на проблемный паттерн, а не на соответствующего человека.
В следующей стенограмме Гектор обсуждает со мной (Дж. К) преимущества, которые он обнаруживает, давая названия различным аспектам сюжета и проблемы. Он рассказывал о своей борьбе с депрессией и как раз перед тем, как мы начали беседу, он упомянул, что уже больше “не выскребает днище бочки”.
ГЕКТОР Что-то позволяет мне, ну, (длинная пауза) видеть вещи в перспективе. Поэтому мне... гораздо легче сейчас, чем раньше, выйти за пределы депрессивных ощущений и попытаться увидеть, что они собой представляют, а не принимать их близко к сердцу и барахтаться в них.
ДЖИН Что-то... Не могли бы вы охарактеризовать это “что-то”, что облегчает?
ГЕКТОР Г-м. Я думаю, где-то это может быть осознание. (Длинная пауза)
ДЖИН Осознание чего?
ГЕКТОР Ну, осознание симптомов, во-первых. Так... это было в прошлом, в один прекрасный день я просыпаюсь и внезапно понимаю: “Эй, а я ведь глупец”. Понимаете. Депрессия. Тогда как сейчас я могу видеть вещи так, как они происходят, или, знаете, когда начинают приходить ощущения, я могу их распознать.
ДЖИН Г-м.
ГЕКТОР Что не облегчает обращения с ними. Г-м. За исключением того, что я однажды дал этому название. Это легче... я бы не сказал классифицировать это, но... может быть... может быть, с этим легче обращаться. (Джин и Гектор смеются.)
ГЕКТОР Да.
ДЖИН Да. Хорошо, это именно это? Я имею в виду, другие люди тоже говорят об этом. Что, как только они дают имя чему-то... г-м, как только это уже не просто бесформенный тип опыта, который вдруг случается, и они пробуждаются в середине дня, и он уже очень интенсивен...
ГЕКТОР Г-м.
ДЖИН ... ух, в том, чтобы назвать его, есть что-то, что дает больше... больше возможностей справляться с ним, бороться с ним. Делать что-то. Однако, послушайте, вы не могли бы рассказать чуть побольше о том, как это работает в вашем случае? Об этом присвоении ему имени, которое делает его...
ГЕКТОР Хорошо, я думаю, что вообще у человеческих существ есть потребность классифицировать.
ДЖИН Г-м.
ГЕКТОР И я знаю, что у меня тоже. И неизвестное порождает гораздо больше страха, чем известное. Поэтому, если появляется смутное облачко чувства, которое я могу потрогать пальцем, я... я позволяю себе больше раскрыться. Раскрыться для боли, причиняемой им.
ДЖИН Г-м.
ГЕКТОР Принимая во внимание, что я могу зацепиться за него. Ну, это как... Что могло бы стать хорошей аналогией? Разница между... вы можете представить себе шар из воды и шар изо льда? Хорошо? (Смех)
ДЖИН Хорошо.
ГЕКТОР Вода, вода это... когда за нее нельзя держаться, она в высокой степени бесформенна.
ДЖИН Г-м.
ГЕКТОР Однако лед... ты можешь, по крайней мере, почувствовать его и что-то сделать с ним. За него можно зацепиться. Понимаете?
ДЖИН Знаете, ох, я не уверен, что знаю, на каком уровне вы здесь говорите. Итак, если вы говорите: “Ох, вот. Это летаргия. Ох, это когда утром с трудом вылезаешь из постели.”
ГЕКТОР Г-м.
ДЖИН Ну, о поименование такого рода вы говорите? Или вы просто говорите о том, чтобы называть депрессию депрессией? Это первое или второе?
ГЕКТОР Нет, это гораздо более специфично. Да. Прежде всего, осознавать общую ситуацию...
ДЖИН Г-м.
ГЕКТОР ... это помогает.
ДЖИН Г-м.
ГЕКТОР Ну, потому что затем это позволяет мне войти в жизнь и воспринять индивидуальные вещи. А потом, если мне хватит жизненных сил, я могу действительно попытаться что-то сделать с этим. Но, понимаете, если я просто хандрю, понимаете, и мне ничем не интересно заниматься, и внезапно я осознаю: “Эй, то же самое я замечал за собой в прошлом!” Тогда я неоднократно могу заставить себя выйти из дома или сделать что-то. Все что угодно. Пойти поиграть на пианино или еще что-то, понимаете? Просто развеяться.
ДЖИН Итак, я просто хочу убедиться, что я следую за этим и не приписываю этому те смыслы, которых вам бы не хотелось. Г-м... итак, поименование этого “летаргией” или, г-м, “некоторым затруднением в контроле над собой” и определение этого как первых шагов к настроению такого рода, мотивирует вас что-то сделать с этим. Вы это имели в виду?
ГЕКТОР Хорошо, настроение — это сама депрессия.
ДЖИН О’кэй.
ГЕКТОР А поименование этих других вещей позволяет мне справиться с ней.
ДЖИН Верно
ГЕКТОР Да.
Как вы можете видеть, поименование сюжета или проблемы позволяет выяснить тактику и средства функционирования, которые использует проблема. Это знание помогает людям понять, как реагировать. В ходе процесса терапии поименование и переименование сюжета может продолжаться по мере развития историй людей.
Постановка вопросов в режиме относительного влияния
Майкл Уайт (1986а, 1986b, 1988a, 1988/9) вводит “постановку вопросов относительного влияния” как способ структурировать экстернализующие беседы. При таком методе опроса людей сначала просят обозначить влияние проблемы на их жизнь и взаимоотношения, а затем обозначить свое влияние на жизнь проблемы.
На основе двух этих наборов вопросов устанавливается, что человек не есть проблема, но он находится во взаимоотношениях с проблемой. Каждый из участвующих в беседе имеет возможность описать эти взаимоотношения множеством способов. Одно из последствий этих вопросов состоит в том, что становится ясно, что каждый — не только “порождающий проблему” — находится во взаимоотношениях с проблемой.
Например, сегодня днем нам в офис позвонила Лэшон, поскольку у ее семилетней дочки Линетт возник ряд проблем в школе. Из нашего телефонного разговора, я (Дж. К) вынес ощущение, что в жизни Линетт появилось несчастье, ввергая ее в образ жизни, связанный с ложью и воровством. Разговаривая с Лэшон, я обнаружил, что проблема затронула ее так же, как и Линетт. Раньше Лэшон была всегда близка к своей дочери, но теперь, похоже, это несчастье отстранило ее от Линетт. Несчастье проходит между Лэшон и Линетт. Лэшон сказала, что в своих попытках “докопаться до сути” она несколько раз разговаривала с людьми в школе. Так много раз, сказала она, что там с ней больше никто не хочет разговаривать.
“Итак, это несчастье нанесло урон вашей репутации в школе Линетт?” — спросил я. Лэшон согласилась с этим, добавив, что это может стать проблемой также и для ее других двоих детей, поскольку никто в школе больше не желает ее слушать. Раньше она проявляла активность в родительском комитете, однако сейчас это несчастье занимает так много времени и требует столько энергии, что она больше не хочет появляться в школе.
Дальнейшие вопросы несомненно установили бы, что проблема повлияла на жизнь и взаимоотношения членов семьи.
Распространение влияния проблемы на нескольких человек имеет ряд преимуществ. Во-первых, это помогает сохранять идентичность проблемы отдельно от каждого человека. Во-вторых, это создает более широкий ландшафт для постановки вопросов второго набора (влияние, которое люди оказывают на проблему). В-третьих, это мобилизует людей на сплочение в работе по противостоянию последствиям проблемы. Это особенно полезно в тех ситуациях, когда проблема отчуждает людей друг от друга.
Например, тогда как несчастье вклинилось между Лэшон и Линетт, уводя Лэшон со сцены, мы можем предполагать, что в результате опроса в режиме относительного влияния они могли бы решить создать единую рабочую команду, которая смогла бы убрать со сцены несчастье.
Поскольку мы получили некоторое понимание того, как проблема влияет на жизнь членов семьи и их взаимоотношения, мы спрашиваем, какое влияние оказали члены семьи на жизнь проблемы. В Главе 5 мы приведем примеры вопросов, которые мы используем с этой целью. Мы называем их “вопросами, открывающими пространство” и используем их, чтобы создать “уникальные эпизоды” (White, 1988a). Уникальные эпизоды — это те формы опыта, которые не могут быть предсказаны сюжетом проблемно-насыщенного нарратива. Поскольку ландшафт проблемы был расширен обозначением ее влияния на жизнь и взаимоотношения участвующих людей, здесь быть много начал для историй, которые могут привести к уникальным эпизодам. Сюда можно включить переживания, которые служат исключениями для проблемы, к примеру, времена, когда Линетт была счастлива, но они не ограничиваются этими исключениями (White, 1995).
Например, наша обучающая команда в настоящее время работает с семьей, которой потребовалась терапия, потому что старший сын, старшекурсник, прогуливает занятия. Учебная администрация уведомила, что, если это будет продолжаться, Хуан не сможет стать выпускником вместе со своим классом. Когда Дайна Шульмен, терапевт, работающий с семьей, задавала вопросы, Хуан и его семья обозначили проблемы как “прогулы занятий” и “беззаботное отношение”, которое привело к этим прогулам. По мере того, как Дайна задавала деконструктивные вопросы, члены семьи говорили о влиянии проблемы на них как на семью — включая неприятные разбирательства в школе, недоверие, злоба и разочарование — что начало окрашивать различные аспекты семейной жизни.
Уникальный эпизод, обусловленный вопросами Дайны, выразился в том, что старшая дочь, Роза, избежав хватки злобы и разочарования, перестала читать Хуану нотации по поводу того, что ему следует делать. Она начала уделять больше времени своим собственным интересам и меньше — злобе и разочарованию. Хотя новое поведение Розы не служит исключением из проблемы прогуливания занятий, оно наверняка не могло быть предсказано сюжетом проблемной истории. Ее действия представляют собой уникальный эпизод или начало истории, которое может быть расширено с целью развития направления в семейном нарративе, в котором проблема доминировала бы в меньшей степени. *[В Главе 8 помещено письмо, которое обучающая группа написала этой семье. В него включено обсуждение этого уникального эпизода.]
Итак, когда мы задаем вопросы о влиянии людей на жизнь проблемы, мы начинаем видеть, что в жизни людей гораздо больше историй, чем это предполагается проблемой. Уникальные эпизоды или начала историй — это двери в альтернативные истории.
Выявление роли подчиняющих доминирующих дискурсов
Мы можем выявить подчиняющие доминирующие дискурсы, задавая вопросы о контекстуальных влияниях на проблему. Что “подпитывает” проблему? Что заставляет ее “голодать”? Кому это выгодно? В какой обстановке проблемная установка может быть полезной? Какие люди будут честно защищать проблему? Какие группы людей будут определенно противостоять ей и ее намерениям? Вопросы подобного рода побуждают людей задуматься над тем, как общий контекст их жизни воздействует на проблему, и наоборот.
Деконструкция такого рода часто разоблачает политически деспотичные истории. Как указывает Дэвид Райсс (1985, стр. 257), семейное конструирование реальности требует некоторой поддержки извне. “Действительно, семья поддерживается (и вносит свой вклад в них) конструкциями сообщества, в котором она живет”. Большая часть неустойчивости в сфере власти в семье вызвана и поддерживается неустойчивостью власти в более обширной культуре. Эти более общие аспекты неустойчивости поддерживаются доминирующими историями о классе, сексуальной ориентации, расе, поле и пр. Когда люди, через “разоблачающий” процесс сопряжения проблем с общественными дискурсами, видят в своих локальных проблемах особые случаи политических проблем в более обширном обществе, это может побудить их относиться к ним по-другому. Когда люди перестают жить под диктатом политической проблемы на локальном уровне, они помогают деконструировать проблему на общественном уровне.
Работая с Рут Энн, мне (Дж. Ф) не пришлось задавать много вопросов о контекстуальных влияниях, чтобы разоблачить дискурс, который поддерживал депрессию в ее жизни. Спустя год после того, как она консультировалась со мной, Рут Энн позвонила мне и сообщила, что продвинулась с иском о расовой дискриминации, которому она дала ход. В связи с этим иском, она попросила меня написать краткое резюме нашей совместной работы. Вот это резюме, которое я написала:
Я встречалась с Рут Энн Уилсон в течение трех терапевтических сеансов в апреле 1993 и последующего приема в январе 1994.
Стремление мисс Уилсон к терапии объяснялось депрессией и раздражительностью. У нее не было работы, и поиски работы были затруднительными для нее, что объяснялось депрессией и сомнением в собственных силах. Эти затруднения перед лицом поиска работы привели к крайнему стрессу, поскольку на мисс Уилсон лежала ответственность за своих детей. Раздражительность, в особенности вызываемая нежелательными и назойливыми воспоминаниями об особых случаях, когда ее унижали как сотрудницу _______________, и сопутствующие ей ощущения разочарования и безнадежности, казалось, стали доминирующими в ее жизни.
В эти времена чувства облегчения и умиротворенности исходили для мисс Уилсон исключительно от ее церкви и друзей, которые ее поддерживали.
В курсе терапии стало очевидно, что депрессия и чувства раздражения, разочарования и безнадежности были вызваны дурным обращением со стороны ее бывшего работодателя в течение всей последовательности событий, приведших (и включая) ее увольнение. Вполне реальные последствия потери этой работы включали финансовую угрозу, потерю дома и проблемы с обучением и безопасностью для детей мисс Уилсон. Кроме того, переживания, перенесенные мисс Уилсон, вызвали у нее утерю доверия и чувства безопасности, что чрезвычайно осложняло собеседования при приеме на работу и социальные связи.
Расизм и расовая дискриминация практически разрушили жизнь Рут Энн Уилсон. Тем не менее, ее личная сила, ресурсы и связи в сообществе, в особенности, осуществляемые через церковь, позволили ей проявить упорство в возвращении к жизни.
Терапия служила тому, чтобы поддержать ее возвращение к жизни, несмотря на весьма неблагоприятные условия.
Получив этот отчет, Рут Энн прислала мне записку. Эти размышления о нашей совместной работе были весьма важны для меня.
Дорогая Джилл!
Ваш отчет напомнил мне о том, что это была за терапия. Не знаю, говорила ли вам, что я не хотела приходить. Навалились все старые несчастья, я знала это, но я ненавидела саму мысль об обращении к профессионалу за помощью, когда я знала (я надеялась), что со мной все в порядке. Это была огромная дилемма: я знала, что страдаю от депрессии и нуждаюсь в помощи, но я все время думала, что моя потребность в помощи несправедлива. Я думала, что помощь отвлечет мое внимание от того, что было действительно не в порядке — от того, как со мной обращались в ______________. Но, как бы то ни было, мучения усилились настолько, что я решилась встретиться с вами.
Я никогда не могла представить, что в данных обстоятельствах мы могли бы назвать проблему расизмом. Если бы я не полагалась на ЕАР (?), я бы никогда не встретилась с белым терапевтом и, по правде сказать, я не ожидала, что белый терапевт может меня понять. Вы сказали, что, возможно, не поймете, и потом пошли дальше и действительно поняли (по крайней мере, большую часть проблемы!). Я не могла себе представить, что могла бы знать, что это расизм, и все же держаться за свою депрессию. По сути дела, поименование этого расизмом здорово помогло. Депрессия была реальной, и она действительно имела отношение к расизму.
Я не знаю, подала бы я иск о расовой дискриминации без терапии. Я весьма рада, что подала его, и надеюсь, что эта организация больше никогда не сможет сотворить подобное с кем-то еще!
Терапия действительно помогла.
Спасибо Вам,
Рут Энн
Мы также можем вскрыть доминирующие дискурсы, спрашивая людей об истории их взаимоотношений с проблемой. Особенно полезно в этом отношении спрашивать, как люди были втянуты в то, чтобы действовать или веровать согласно диктату проблемы: “Где вы обучились этому способу мышления о взаимоотношениях?” “Какие модели были характерны для установок такого типа?” “Каким образом страх так легко заставляет вас поверить в это?” Такой метод опроса часто побуждает людей задуматься над дискурсами власти, которые формируют идеи и действия.
Эти вопросы не имеют ничего общего с поучением или навязыванием мнений. По мере того, как люди начинают размышлять над влиянием политики на их собственную жизнь, они почти неизменно хотят продолжать беседу. *[См. Freedman & Combs (в печати), где содержится отчет о такой работе с патриархальными историями.]
Например, Райан пришел ко мне (Дж. Ф) один, спустя несколько лет после того, как я работала с ним и Дарлен в терапии для пар. Он рассказал мне, что в течение последней пары лет случались периоды времени, когда Дарлен его не привлекала. Они могли длиться дни, недели и даже месяцы. Его объяснение отсутствия влечения состояло в том, Дарлен набрала значительный вес. Его дилемма заключалась в том, как подойти к Дарлен с этим вопросом. До сих пор его попытки заканчивались тем, что Дарлен давала понять, что ему “не позволено говорить об этом”. Хотя в других отношениях их взаимоотношения были весьма удовлетворительными, эта проблема беспокоила Райана все больше и больше.
После того, как мы с Райаном отметили некоторые аспекты влияния отсутствия влечения на него, на Дарлен и на их взаимоотношения, я спросила о той тактике, при помощи которой отсутствие влечения вклинивалось между Дарлен и Райаном. Поразмышляв немного, он сказал, что время от времени его разум посещают “совершенные образы женщины”.
После этого я начала задавать вопросы о том, как образы такого рода так сильно захватили его разум — “Откуда они приходят? Кто запускает их в обращение?”
“Ох, — сказал он, — я не имею об этом ни малейшего понятия”. Далее он продолжал беседу, рассказывая, как в детстве он подрабатывал в аптеке. В магазине продавалось несколько порнографических журналов, которые он внимательно изучал, когда предоставлялась такая возможность. Повзрослев, он стал покупать журналы такого рода. “Что же, выходит, все дело в порнографии?” — спросил он меня.
“Хорошо, как вы думаете, какое влияние имела порнография на вашу жизнь?” — спросила я.
Райан начал с того, что сказал, что он слишком часто откладывал в сторону порнографические журналы. Поэтому он думает, что она не имела на него никакого влияния.
Затем я поинтересовалась насчет образов. Когда он снова поразмышлял над образами, он заключил: “Я думаю, что влияние порнографии затмило мой разум. Эти совершенные образы определенно затмевают мой разум.”
Когда мы разговорились, Райан сказал, что порнография видит женщину по-другому. Он охарактеризовал этот другой способ видения как “не людей”. Когда он понял, что влияние порнографии и связанные с ней понятия, определяющие женщин как не-людей, закрепились в его взаимоотношениях с Дарлен, он со всей ясностью заявил, что намерен противостоять этому положению дел. Когда я спросила о том, как эти идеи могут повлиять на его дочерей, он выразил еще большую приверженность к противостоянию порнографии и ее эффектам.
Он сказал, что осознал две вещи. Одна состояла в том, что он способен отстранить идею о женщинах как “не-людях или менее людях” от своей жизни в других контекстах. Теперь он, однако, увидел, что порнография приводила его в замешательство в сексуальной сфере. Его второй вывод состоял в том, что он позволил физической внешности диктовать условия его чувствам. Это не соответствовало тому, как он хотел действовать. В ходе разговора об этом Райан решил, что он может охранять себя от фокусирования на физической внешности, навязываемого порнографией, говоря себе: “Это не касается секса. Это касается любви. Я хочу, чтобы секс касался любви, и я люблю Дарлен”.
“Знаете, что? — спросил Райан. — Я думаю, что порнография сыграла главную роль в кончине моего первого брака, и я не позволю, чтобы это случилось опять”.
В ходе дальнейшей беседы стало ясно, что Райан ушел от фактического рассмотрения порнографии в процессе восстановления своей жизни после развода. Он со страхом обнаружил, что некоторые идеи, связанные с порнографией, постоянно обнаруживаются вокруг.
Из терапии для пар, которую я проводила с Райаном и Дарлен, я знала, что для него весьма важна религия. Воодушевленная работой Мелиссы и Джеймса Гриффитов (Griffith, J.L., 1986; Griffith, M.E., 1995), я спросила Райана, интересно ли ему было побеседовать об этом с Богом. Он сказал, что сделал бы это по собственной инициативе. В нашей беседе он сказал, что он чувствует, что Бог уже направил его к тому, чтобы убрать эти образы и идеи о женщинах из своей жизни. Он верил, что через молитву он обретет силу для борьбы с любыми проявлениями этих идей. Однако он также сказал, что вполне уверен, что эти образы и идеи больше не будут для него проблемой. На самом деле, он не верил в них. Он просто не знал, что они там присутствовали. Теперь, когда он проявлял бдительность по отношению к ним, он полагал, что сможет уберечься от их влияния.
Мы договорились встретится снова с Дарлен, чтобы убедиться в том, что идеи о женщинах как не-людях не проникли в их взаимоотношения какими-то другими путями.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА
Мы заканчиваем эту главу терапевтической беседой, которая иллюстрирует многие из тех идей, о которых мы писали.
Беседа происходит с Фрэн, которая пришла ко мне (Дж. Ф), побуждаемая своей борьбой с тем, что она называет депрессией. В нашей совместной работе мы решили, что будет полезно поименовать ряд проблем, которые составляют депрессию. Этот отрывок касается “голоса неуверенности”. Мои вопросы — не единственные, которые могли быть заданы; вы можете продумать другие.
ФРЭН За тот месяц, что я вас не видела, я совершенно ошалела, просто впала в мрачные настроения... Не знаю, может быть, это все из-за Натана. Я даже не знаю, говорила ли я вам, что обнаружила, что Натан последние шесть месяцев с кем-то встречается с серьезными намерениями. Я не знаю, идет ли дело к помолвке, или что. Лоретта говорила со мной на прошлой неделе. Она сказала, что это не исключено.
ДЖИЛЛ О, да.
ФРЭН Вы знаете, я встречалась с этим парнем, Крисом, и он меня просто раздражает. Он, похоже, совсем не хочет проводить время в одиночку. Для меня, именно этого касаются взаимоотношения. Я хочу узнать другого человека. Но его действительно трудно познать. В субботу вечером он сказал мне: “Давай в воскресенье как следует выспимся и поедем завтракать”. Я так никогда не делаю. Я люблю встать пораньше, сходить в спортзал и позаниматься там, а потом уже начинать свой день. Но я согласилась. Мы встали где-то около полудня. Он принял душ и так небрежно бросил, что он встречается с приятелями, чтобы сыграть на бильярде и выпить пива. Я просто ошалела. Он мог бы что-то сказать. Итак, он сказал: “Хорошо, мы можем остановиться, перехватить какой-нибудь еды, и я просто немного задержусь”. Я сказала ему: “Нет. Ты сказал, что будешь там. Ты должен держать свое слово”. Потом он сказал, что мы могли бы поужинать вечером, но я просто сказала: “Нет”. Потом он сказал: “Ты — крутой цыпленочек”. Я могу сказать, что он вряд ли сможет примириться с этим. С тех пор я просто не выхожу из этого ужасного настроения. Я не знаю, готова ли я встретиться...
ДЖИЛЛ А какую роль играет настроение?
ФРЭН Я не знаю. Может, мне следует быть поспокойнее, не лезть со своей заботой. Я имею в виду, что встречаюсь с ним всего лишь месяц и уже заявила ему, что я просто не хочу проводить время с большими группами людей. Я хочу узнать его. В смысле, я не хочу просто развлекаться.
ДЖИЛЛ Хорошо. Я немного смущена. Как забота может быть проблемой?
ФРЭН Хорошо. После того, как я уехала в воскресенье, я думала: “Что со мной не так? Почему он не хочет проводить со мной время? И Натан не сдержит обязательств по отношению ко мне. А каково будет, когда он находится с кем-то еще”.
ДЖИЛЛ Итак, этот голос во многом связан с ...
ФРЭН Я просто совсем растеряна.
ДЖИЛЛ Я думаю, не создает ли этот голос неуверенности некое пространство для таких настроений?
ФРЭН Я просто желаю не быть такой растерянной.
ДЖИЛЛ Знаете, я просто не понимаю, как свести все это вместе. Вы рассказали Крису о том, чтобы вам хотелось видеть в ваших взаимоотношениях. Я полагаю, вы действительно чувствовали уверенность, делая это. Или я что-то упустила?
ФРЭН ... я не смотрела на это с этой стороны... думаю, это так. Я изменилась. Год назад я сказала бы: “Ах, ты пошел напролом. Прекрасно. Увидимся вечером.
ДЖИЛЛ Что вы сделали вместо этого?
ФРЭН Я защищала себя, но потом я стала задумываться: “Что с тобой происходит? Почему с тобой никто не хочет быть?”
ДЖИЛЛ Итак, хотя уверенность действительно проявляется в вашем поведении, с вами разговаривает голос растерянности?
ФРЭН О, да.
ДЖИЛЛ Это звучит примерно так: когда он говорит с вами, он не позволяет вам замечать, что вы способны постоять за себя. Верно?
ФРЭН Да.
ДЖИЛЛ Как еще он воздействует на вас?
ФРЭН Как еще... ?
ДЖИЛЛ Хорошо, разрешите я сначала спрошу вас кое о чем. Как вы думаете, какие идеи создают пространство для голоса растерянности?
ФРЭН Я не понимаю, что вы имеете в виду.
ДЖИЛЛ Хорошо, я думала, что вы говорите о дилемме, связанной к приспособлению к мужчине. И я думала, что множество женщин говорят об этом — и так мало мужчин.
ФРЭН Это верно. Все оканчивалось тем, что я все планировала по Натану, но он никогда не планировал в соответствии со мной. Даже когда я готовила для него ужин, он мог позвать меня и сказать: “Не могли бы мы заняться этим в 18:30, чтобы я сначала мог сходить в спортзал?”
ДЖИЛЛ Откуда это исходит, как вы думаете?
ФРЭН Г-м. Моя мама все делала, согласуясь с рабочим распорядком отца, и казалось, что так следует делать всем.
ДЖИЛЛ Да. Как вы думаете, что подтолкнуло ваших родителей к такой модели?
ФРЭН Г-м. Точно так все происходит вокруг тебя — телевидение, твои соседи, церковь.
ДЖИЛЛ Итак, вы выросли с этими идеями, которые как бы направляли ваше будущее?
ФРЭН Да, и я не думаю, что реально что-то изменилось. Теперь женщины работают, но все еще предполагается, что они должны готовить ужин, убирать дом и подстраиваться под режим мужа.
ДЖИЛЛ Вы думаете, это справедливо?
ФРЭН Нет.
ДЖИЛЛ А что вам представляется справедливым?
ФРЭН Я думаю, что оба человека должны уделять внимание распорядку и желаниям друг друга.
ДЖИЛЛ Хорошо. Итак, похоже, вы предпринимаете некоторые шаги, чтобы изменить паттерн, который был присущ вам долгое, долгое время.
ФРЭН Да, но вчера вечером он хотел, чтобы мы встретились, и я сказала “нет”, потому что сегодня на работе у меня должна быть важная встреча, но все кончилось тем, что я встретилась с ним. Но я хотела видеть его. Ох, я не знаю, что со мной происходит.
ДЖИЛЛ Это говорите вы или голос растерянности?
ФРЭН Я полагаю, это голос растерянности.
ДЖИЛЛ Да, похоже, он мешает вам замечать, что вы защищаете себя, и, кажется, что он как бы выстилает путь для настроений, которые портят вам жизнь. Вы согласны?
ФРЭН Да. Он заставляет меня сбиться с дороги, на которой я так изменилась.
ДЖИЛЛ Что он еще делает?
ФРЭН Я думаю, он заставляет меня желать изоляции, не связываться с кем-то, чтобы не испытать боль.
ДЖИЛЛ Каким образом он влияет на ваших друзей и семью?
ФРЭН Я полагаю, он здорово отстраняет меня от них.
ДЖИЛЛ А могли бы вы сказать, что культурный паттерн, который мы обсуждаем, как бы подготавливает сцену для голоса растерянности?
ФРЭН Да, потому что практически весь мир движется в другом направлении. Ну, может быть, не все молодые люди, но это буквально все окружающие.
ДЖИЛЛ Хотя это все, кто вас окружает, бывали ли времена, когда вы были способны не слушать этот голос?
ФРЭН Да! В воскресенье, после того, как Крис бросил меня, я позвонила некоторым из моих друзей, потому что я хотела быть с кем-то. Как правило, я остаюсь дома в одиночестве и плачу, но в воскресенье я позвонила подругам. Ко мне зашла Пэтти, и мы собрались пойти в кино, но все закончилось тем, что мы достали видео и остались дома. Я рассказала ей о том, что произошло, и еще одной подруге я рассказала об этом. И обе они сказали: “Фрэн. Мы так гордимся тобой. Это его счастье, что он может быть с тобой. Не принимай это близко к сердцу”.
ДЖИЛЛ Как вы думаете, если бы мне удалось поговорить с вашими подругами о том, что вы сделали, как, по вашему мнению, они бы вас описали? Я имею в виду, какие характеристики они бы вам приписали?
ФРЭН Они бы сказали, что мои дела улучшаются, однако они знают, что я думала про все эти негативные вещи про себя.
ДЖИЛЛ Это тот голос растерянности, о котором мы говорили?
ФРЭН Да.
ДЖИЛЛ Могу я просто задать вам вопрос об этом? Если бы голос соответствовал тому, что вы делаете во внешнем мире, что бы он вам сказал?
ФРЭН Он бы сказал: “Ты готова для настоящих взаимоотношений с тем, кто хочет тебя по-настоящему узнать. Ты этого заслуживаешь. Тебе приятно видеть, если именно это происходит, и не время говорить: “Знаешь, не похоже, что это решит проблему”. Это не несет тебе ничего плохого”.
ДЖИЛЛ Ух, ты.
ФРЭН Да, сейчас он говорит: “Что с тобой? У него есть право побыть со своими друзьями. Ты устраиваешь с ним эти разборки. Вероятно, он не намерен с этим мириться, потому что, похоже, его уже от этого тошнит...”
ДЖИЛЛ Итак, разница будет заключаться в том, что голос говорил бы о том, что вы хотите, а не о том, что он хочет?
ФРЭН Да.
ДЖИЛЛ Случалось ли такое когда-нибудь?
ФРЭН Да! В воскресенье. Вот почему все кончилось тем, что я не ушла в изоляцию, а позвонила друзьям.
ДЖИЛЛ Итак, вы были способны поговорить с собой вместо того, чтобы позволить растерянности взять верх?
ФРЭН Да.
ДЖИЛЛ Какого рода подготовка предшествовала этому?
ФРЭН (Смеясь) Годы терапии! Нет, конечно, но, на самом деле, это связано с терапией.
ДЖИЛЛ Однако терапия не происходила, когда вы это сделали? Как вы это сделали?
ФРЭН Я сделала это, напомнив себе, что я представляюсь важной. Чему я научилась в терапии, это проговаривать то, что у меня на уме, поскольку, другие не узнают, если я им не скажу, а замалчивание ужасно.
ДЖИЛЛ Что для вас значит этот опыт?
ФРЭН То, что я могу добиться уверенности, если поработаю над этим.
ДЖИЛЛ Итак, вы назвали бы проект, над которым работаете, “уверенностью”, или как-то по-другому?
ФРЭН Уверенность.
4 РАЗВИТИЕ ИСТОРИЙ
... нарративная метафора предполагает, что люди проживают свою жизнь через истории — истории, формирующие их жизнь и оказывающие реальные, не воображаемые эффекты — и что эти истории обеспечивают структуру жизни.
— Майкл Уайт, 1991, стр. 28
Наши преобладающие нарративы обеспечивают набор понятий, который устанавливает наши реальности. Наши судьбы открыты или закрыты в контексте историй, которые мы конструируем с целью понимания своего опыта.
— Гарри Гулишиан
Всегда существуют “яркие события” (White, 1991), которые противоречат проблемно-насыщенным историям. В этой главе мы рассмотрим, как мы можем побудить людей взять эти события и преобразовать их в истории, которыми они смогут жить — и в этой жизни познать себя с предпочтительных, удовлетворительных сторон.
Мы хотим подчеркнуть, что нарративы, о которых мы говорим, это истории, которыми люди живут. Они — не “о” жизни; они есть сама жизнь как мы ее знаем, жизнь как мы ее переживаем. Поскольку, что касается смысла, надежды, страха, понимания, побуждений, планов и пр., наши жизненные нарративы — это наша жизнь, все в мире зависит от того, какого рода нарратив доступен человеку. Чтобы проиллюстрировать это положение, разрешите рассказать вам одну историю.
ИСТОРИЯ ДЖЕССИКИ
Вот история Джессики *[Мы рассказывали эту историю раньше (Combs & Freedman), однако мы думаем, что ее стоит рассказать еще раз.], и мы думаем, что вы согласитесь с тем, что изменения, которые произошли в ее жизни действительно эффектны. Тогда как наш опыт общения с людьми чаще менее драматичен, мы выбрали эту историю, потому что, помимо своей драматичности, она очень ясна, непосредственна и незатейлива. Помните, тем не менее, что то, что вы читаете, это во многом упрощенный и “вычищенный” отчет. Он отредактирован с тем, чтобы подчеркнуть, как использование нарратива в качестве ведущей метафоры способствовало удовлетворительному исходу для Джессики.
К тому времени, когда я (Дж. Ф) * [Мы будем неоднократно ссылаться на эту историю во всей главе, используя ее для иллюстрации наших идей на практике. Для удобства чтения, когда мы ссылаемся на историю Джессики, предполагается, что комментарии писала я (Дж. Ф), то есть тот, кто проводил терапию с Джессикой. Я должна отметить, что в этих комментариях идеи Джина играли никак не меньшую роль, чем мои.] встретила Джессику, она только что завершила многолетний курс терапии. Она чувствовала, что ее терапевт * [Я чувствовала, что во многом эта терапия была действительно ко-терапией. Джессика посещала другого терапевта как до, так и после нашей совместной работы. Большая часть нашей работы была построена на ее предыдущей работе с другим терапевтом, а позже поддерживала последующую работу.] помогал и поддерживал ее, однако Джессика не ощутила прогресса в течение нескольких месяцев до прекращения терапии. Она пришла к убеждению, “что все зашло слишком далеко”. На конференции, которую она посетила в Чикаго, услышала мою беседу по поводу сексуального насилия, и это дало ей надежду, что она сможет продвинуться в решении своей проблемы. Она позвонила мне, чтобы записаться на прием, поясняя, что надеется на встречу со мной, несмотря на то, что она жила в трех часах езды от меня и не знала, как часто она сможет приходить ко мне. *[Один из способов нашего преодоления расстояния состоял в том, что допускались телефонные звонки в перерывах между встречами.]
Первая встреча
Джессика работала медсестрой в отделении скорой помощи единственной больницы в сельскохозяйственной коммуне на юге Иллинойса. Она жила в одиночестве в сельском домике на окраине городка, имела вполне обширный круг подруг и любила заниматься спортом.
Во время первой встречи она рассказала мне, что ей 35, и у нее до сих пор не было ни одного романа. Она описала, как росла в семье, где с женщинами обращались как с собственностью мужчин. Ее отец и дядя лапали ее, ее мать и ее сестру, как хотели и когда хотели. Эти прикосновения часто были грубыми и имели сексуальный характер. Например, ее могли схватить за грудь или промежность, когда она помогала в работе по кухне, или один мужчина мог принуждать ее к сексуальному контакту, когда как другой наблюдал за этим.
Я спросила Джессику, как повлияли на нее эти оскорбления как в прошлом, когда она была ребенком, так и сейчас, как на взрослого человека. Она сказала, что когда была ребенком, насилие порождало чувства страха, неуверенности, смущения, беспомощности и одиночества. Она подробно останавливалась на случаях, которые детально иллюстрировали эти темы. Влияние насилия на Джессику как взрослого человека сказывалось по-разному. Она переживала неспособность вступить в романтические взаимоотношения, затруднения в дружбе и чувство никчемности. И снова она привела примеры того, какую роль в ее жизни играли эти проблемы.
Я заинтересовалась и спросила, каким образом она переместилась из своего детства, где ей приходилось сражаться с почти невыносимыми проблемами, в ту эмоциональное состояние, где она теперь пребывала. Джессика не знала, как это случилось, но она действительно помогла мне понять, что, тогда как настоящие эффекты были пережитками прошлых сложностей, ощущение никчемности были теперь ограничены социальными ситуациями. Фактически, оказалось, что все эффекты насилия были контекстуализированы и более не довлели над ее жизнью, как в детстве.
У Джессики была степень магистра, и она с удовольствием описывала работу медсестры, которой она работала несколько лет. Я спросила ее, как бы это повлияло на ее страх, неуверенность, смущение, беспомощность и одиночество ее детства, если бы она тогда смогла провидеть будущее. Она сказала, что поняла бы, что страх и связанные с ним ощущения не были для нее врожденными истинами. Если бы это было так, она бы не могла так успешно реализовать себя в профессиональной области. Мне было очень интересно узнать, как ей годами удавалось противиться последствиям насилия и устроить собственную карьеру. Я надеялась, что нам удастся поговорить об этом больше.
Джессика пояснила, что ее достижения, когда она сейчас думает о них, кажутся ей действительно замечательными, в особенности по тому, что никто из ее семьи никогда не учился в колледже и не стал профессионалом.
Вторая встреча
На второй встрече, шестью неделями позже, Джессика сказала, что теперь она поняла, что она уже больше не ребенок, каким была некогда. Ее жизнь самостоятельного взрослого разительно отличалась от той жизни, что она вела как зависисмый ребенок. Теперь она чувствовала, что готова выйти замуж и создать семью. Она хотела, чтобы в ходе нашей встречи мы поработали над улыбкой, потому что люди постоянно упрекают ее в том, что она не улыбается.
Я была застигнута врасплох скоростью ее продвижения вперед и попросила ее, если это возможно, слегка сбавить темп, чтобы я могла угнаться за ней. Когда она ответила согласием, я спросила ее, как она пришла к пониманию, что она больше не ребенок, каким некогда была. Она ответила примерно теми же доводами, что и на первой встрече, на этот раз более подробно описывая разницу между ее прошлым и настоящим опытом. На этот раз у нее было больше идей по поводу тех вещей, что она сделала, чтобы создать свою идентичность самой, а не отдавать ее формирование на откуп последствиям насилия. Опыт пребывания в школе — месте, где она преуспевала, получала позитивные отзывы и справедливое отношение — оказался весьма важным источником самопознания, которое она использовала для создания своей идентичности. Она сказала мне, что овладение мастерством и ощущение, что к ней относятся как к человеку, а не как к собственности, вскормили в ней некую скрытую составляющую. Через некоторое время она была способна развить эту составляющую, и та позволила ей противостоять последствиям насилия и ограничить сферу их влияния.
Я спросила ее, какое значение имело для нее то, что она достигла столь многого вопреки насилию. С некоторой долей колебания, отводя от меня взгляд, она сказала, что это означало, что она находчива и упорна. Я сказала, что понимаю, что ситуация в ее доме держалась в секрете, и поинтересовалась, знали ли о ней другие люди, которые, возможно, предсказали, что она сможет так успешно противостоять последствиям насилия. Она сказала, что учителя и дети в школе знали, что она находчива и упорна. Знай они о ситуации в ее доме, они, вероятно, предсказали бы, что она найдет способ противостоять насилию и вернуть свою жизнь себе. Ее предыдущий терапевт также признавал, что она упорна и сообразительна.
Затем я поинтересовалась вслух: “Если мы оглянемся на те годы, когда вы использовали свою силу и интеллект, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь — вы получили образование, стали медсестрой, которая действует в ситуациях жизни и смерти, нашли способы ограничить последствия насилия — не служит ли ваша готовность выйти замуж следующим шагом? Она подумала, что, возможно, это так. Когда мы начали обсуждать, что это означало, Джессика заметила, что для нее было внове думать о себе как о ком-то, кто может вести интимную жизнь с другим человеком. Теперь она была не только смышленой и упорной, но уже могла представить себе, что сможет проявлять теплые и нежные чувства и соединиться с чем-то особым. Фактически, во время ее предыдущей терапии она почувствовала связь со своим терапевтом и ощутила разнообразие приятных чувств, направленных к ней. Теперь она могла рассматривать взаимоотношения как подготовку к другим взаимоотношениям. В своей дружбе с женщинами она также испытала некоторые позитивные чувства и ощущение связи, хотя эти взаимоотношения часто были неустойчивыми.
Говоря далее о возможности перехода в царство романтических взаимоотношений, мы обнаружили, что просто представление себя тем, кто может жить в этом царстве, может стать для нее важным шагом в отвоевывании своей жизни у последствий насилия. Так как последствия насилия держали ее в заложниках социальной жизни, то, возможно, существует ряд важных аспектов социального опыта, которыми она до сих пор была обделена. Например, Джессика, на самом деле, не думала о мужчинах как о людях, *[Некоторые мужчины, которые были вовлечены в агрессивное поведение в отношении женщин, рассказывали нам, что одна из вещей, допускающих такое поведение, состоит в установке, что женщины, на самом деле, не люди. Один из приемов, с помощью которого Джессика строила историю о насилии, заключался в инверсии, то есть, на самом деле, мужчины — это не люди. Ее план подружиться с мужчиной показывал, что она начала деконструкцию этой истории.] поэтому дружба с мужчиной могла стать важным шагом. И теперь она знала, что ее интеллект может помочь ей подобрать надежного мужчину для ее проекта.
Третья встреча
Во время третьей встречи, месяц спустя, Джессика пребывала в беспокойстве по поводу событий, связанных с одной из ее подруг. По ее оценке, близкая подруга часто плохо обращалась с ней — критиковала ее, отказывалась разговаривать с ней — однако Джессика пока решила продолжать дружбу. Именно очередной из этих инцидентов причинял ей страдание. Убеждение в том, что другие их знакомые встали на сторону ее подруги, еще больше усугубляли это страдание.
Я спросила Джессику, не является ли ее подразумеваемое желание как то изменить дружеские отношения частью ее проекта вызволения своей социальной жизни из-под диктата последствий насилия. Когда она рассмотрела это в этом свете, она подумала, что, хотя последствия насилия до сих пор влияли на ее взаимоотношения, сейчас она находится в точке поворота. Я напомнила ей о ее личных качествах, которые все более становились присущими ей — силе, интеллекте, способности испытывать теплые и нежные чувства, способность устанавливать связи — и поинтересовалась, какую пользу они могли бы принести в проблемных взаимоотношениях.
Она решила возложить на свою профессиональную самость — ту часть себя, которая преуспевала в школе и на работе, и чьему интеллекту и силе она доверяла — ответственность за установление ограничений и принятие решений, связанных с тем, что ей следует делать, чтобы обезопасить себя в этих взаимоотношениях. Я спросила, думает ли она, что это побудит ее к тому, чтобы быть защищенной в других взаимоотношениях. Она полагала, что это так.
Четвертая встреча
Джессика пришла на четвертую встречу (снова месяц спустя), охваченная отчаянием и смущением по поводу той самой дружеской связи, которую мы обсуждали на прошлой встрече. Она последовательно использовала свой интеллект и силу в установке ограничений и принятии решений, касающихся взаимоотношений. Ее подруга ответила критикой и переходом на личности, что привело Джессику в состояние сомнения в своих силах. В особенности, она начала ощущать сомнение в том, способна ли она вообще быть здоровой, нормальной или жизнерадостной.
Я поинтересовалась, бывали ли времена, когда она была уверена в своей способности быть “здоровой”, “нормальной” и “жизнерадостной”, хотя бы на мгновение. С некоторым воодушевлением Джессика припомнила, как она разучивала песню в школе. Ее бабушка, которая жила за городом, в те дни гостила у них, и когда Джессика вернулась из школы в тот день, дома была лишь бабушка. Джессика вспоминала, как сидела на коленях у бабушки, и учила ее песне, как они пели вместе с бабушкой, которая смотрела ей в глаза, улыбалась и пела с Джессикой, явно наслаждаясь ее компанией.
Я спросила, что ее бабушка признавала и больше всего ценила в ней. Она сказала, “что я привлекательна”, и объяснила, что быть привлекательной означает множество вещей. Она перечислила много вещей: она была хорошим человеком; она была сердечной; она была забавной; она была нормальной; она была здоровой; она была жизнерадостной; она была восприимчивой; она видела хорошее в других.
Потом она долго говорила о том, как могла бы измениться ее жизнь, если бы она жила со своей бабушкой. Мы развили историю этих различий во времени, начиная с тех времен, когда она была совсем маленькой. На протяжении всей истории она каждый раз возвращалась к тому, как бы все складывалось для нее сейчас, если бы она росла рядом со своей бабушкой.
Я попросила ее снова перечислить то, что ее бабушка знала о ней. Я спросила, какова была бы ее жизнь, если бы она владела качествами из этого списка в качестве истин о себе. Она была более задумчива, нежели разговорчива, отвечая на этот последний вопрос.
Первый телефонный звонок
Джессика позвонила мне пять дней спустя после четвертой встречи. Она начала беседу спросив: “Вы можете себе представить, что значит носить новые туфли, новое платье, новый макияж и новые накладки на груди — и все это одновременно?” Мне пришлось признать, что эта особая комбинация событий полностью находилась вне пределах моего опыта, и попросила ее пояснить. Она рассказала мне, на следующее утро после нашей встречи она заехала в Макдональдс по дороге на работу, как она делала каждое утро, чтобы выпить чашечку кофе. Ей передали кофе через окошко машины, как это было каждое утро, спросили не требуется ли ей сахар или сливки, как это было каждое утро, и она автоматически ответила: “Нет, спасибо” (а не просто “Нет”, как это было каждое утро)! Это показалось ей совершенно потрясающим и абсолютно нормальным одновременно.
Она сказала, что теперь она поняла, кто она есть, она знала, что она именно тот человек, который сказал бы “спасибо”, и так она и сделала. Услышать “спасибо”, вылетевшее из собственных уст, был потрясающе. Это стало явным подтверждением ее новой идентичности. Она не могла вспомнить, чтобы прежде чувствовала себя такой сильной в течение нескольких дней. Она заметила, что она стала более внимательна к другим людям и более углублена в себя одновременно. Это также и пугало своей необычностью. Она постоянно чувствовала свою силу, но боялась, что, должно быть, отрицает другие чувства, поскольку не могла поверить, что она так сильна. Она боялась, что эти перемены нереальны, и сказала, что, может быть, поэтому она использовала нереальный пример накладок на груди. Однако потом она заявила: “Но самое замечательное в этом то, что у меня есть нечто, что может меня направлять — мой новый имидж”.
После последнего сеанса она также бросила курить. Это произошло, потому что теперь она знала, что она не тот человек, которому стоит курить. Относительно прекращения курения она сказала две вещи, которые особо заинтересовали меня. Первая: “Сигареты забирают у меня энергию, а мне она нужна для другого”. Вторая заключалась в том, что в прошлом, когда она находилась в компании близких людей, если они курили, то курила и она. Она сказала, что сейчас ей важно держаться своего пути и позволить им следовать своим собственным.
Она окончила телефонный разговор, сказав: “Мой новый имидж оказал на меня такое воздействие, какое я никогда не могла даже вообразить. Мой автомобиль сломался, и я не встретила мужчину своей мечты, но все в порядке”.
Второй телефонный звонок
Джессика позвонила снова восемь дней спустя. Она прекратила дружеские отношения со своей подругой, поскольку более не могла терпеть ее упреки. Со всеми остальными, докладывала она, она пребывает в своей новой самости, и ей это нравится. Когда она проявила свою новую самость по отношению к своей подруге, показалось, что их отношения прекратятся, поэтому сначала она возвратилась в свою старую самость в этом контексте. Потом она решила, что больше не сможет поступать так, поэтому она рассталась с подругой. Она чувствовала себя сильной, но очень грустной. Она полагала, что оплакивала потерю не только своей подруги, но и своей старой самости.
Я поинтересовалась, не находилась ли ее новая самость с ней всегда, спрятанная под последствиями насилия. Это показалось Джессике не лишенным смысла, но она все еще пребывала в печали. Я сказала, что не собираюсь развеивать ее печаль. Мне тоже было печально от того, что, прорываясь сквозь все эти унижения, она была вынуждена скрываться.
Я спросила, что, помимо печали, отличает ее переживания. Она ответила, что ощущает себя в большей безопасности, более открытой и более понимающей. Она сказала, что этот процесс работал над тем, чтобы позволить существовать тем ее частям, которые уже изменились, и тем, которые были готовы и ждали перемены. Кроме того, он дал ей нечто, чем она могла жить ежедневно, ее новый имидж.
Пятая встреча
Вторая встреча произошла через месяц после четвертой. Весьма позитивный опыт Джессики в познании новых аспектов себя самой был прерван и позже разрушен наплывом зрительных образов воспоминаний о насилии, которому она подвергалась. Центральной была картина, когда ее дядя раз за разом вводил свой пенис ей в рот, тогда как ее отец наблюдал за этим. Когда она описывала это воспоминание, ее тихий голос дрожал. Она рассказала, что после этого она пошла в ванную, долго полоскала рот и потом уехала на велосипеде.
Я была крайне удручена, выслушав рассказ об этом событии. Я посмотрела прямо в глаза Джессики и сказала: “Я сожалею, что это произошло с вами”.
Затем, с ее согласия, я зачитала заметки о наших двух телефонных беседах, последовавших за нашей последней встречей. Похоже, она расслабилась и начала кивать головой, слушая мое чтение. Я сказала: “Вы говорили мне во время первой телефонной беседы, что знаете, что вы за личность. Если бы вы действительно обладали этим новым имиджем и оглянулись бы во времени, используя то знание и чувства, что присущи этому имиджу, что бы вы ценили в той себе, которая прошла через это унижение?”
“Ценила?” — спросила она.
“Да, что может быть ценного, и чему вы можете научиться у той себя, которая пережила насилие?”
Предавшись воспоминаниям, Джессика обнаружила, что она была сильной и жизнерадостной, и, по некоторому размышлении, она даже признала, что была творческой личностью. Она начала тихо всхлипывать. Она сказала, что в прошлом, когда на нее накатывали воспоминания такого рода, она чувствовала беспомощность, ужас, никчемность и стыд, но она была уверена, что сейчас она впервые ощутила скорбь о том, что она перенесла. Она сказала, что скорбь кажется ей хорошим, чистым чувством. Это говорило ей о том, что она заслуживает той печали, вызванной тем, что с ней произошло. Мы согласились, что это светлая скорбь.
Третий телефонный звонок
Три недели спустя Джессика позвонила мне и сказала, что она подумывает о том, чтобы отменить следующий сеанс. Ее жизнь не была совершенна, но она чувствовала себя свободной. Ее направлял новый имидж, и ее воспоминания утеряли свою власть над ней. Кроме того, ее машина сломалась, когда она возвращалась домой с последней встречи, и ей пришлось провести ночь в отеле. Когда все было действительно плохо, трехчасовая поездка в один конец, казалось, имела смысл. Однако теперь ее жизнь текла более гладко, и тратить шесть часов на поездку, похоже, не стоило. Она отказалась от сеанса, договорившись со мной встретиться через месяц.
Четвертый телефонный звонок
Джессика снова позвонила мне через месяц. Она сказала, что до встречи со мной она чувствовала, что просто увязла, но теперь она “преодолела хандру”. Она нравилась себе самой. Она подумывала о том, чтобы вернуться к своему предыдущему терапевту, чтобы получить некоторую поддержку в новом осмыслении себя и своей жизни.
Я спросила ее, что сыграло самую важную роль в преодолении ее хандры. Она сказала, что это воспоминание о пении вместе с бабушкой и осмысление того, что ее бабушка, должно быть, чувствовала по отношению к ней. Это полностью изменило ее самосознание. Я поздравила ее с обретением самосознания и сказала, что мне будет любопытно услышать, куда может привести ее новое знание. Она поблагодарила меня, и мы закончили терапию.
Шестая встреча
Четыре года спустя (день в день) после нашей последней встречи Джессика снова пришла ко мне. Первое, о чем она мне сообщила, это то, что она покупает новый дом. Я спросила ее, какое значение это имеет для нее. Она сказала, что это означает, что она стремится к тому, чего хочет, и ломает семейные традиции.
Она пришла ко мне на консультацию, потому что она впервые завела романтические отношения. Гэри, сказала она мне, совершенно отличается от ее семейного круга. Он жизнерадостный, путешественник. Он не разделял традиционных ценностей, касающихся взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Он был сексуален и игрив и не использовал секс во властных целях. “Если это сработает, — сказала Джессика, — я буду отличаться от женщин в моей семье”. Я поинтересовалась, есть ли уже тому подтверждения. Она согласилась, что это так. Однако она сказала, что ее беспокоит то, что, когда дело касается секса, она реагирует на Гэри так, как это делали бы ее сестра и мать. В своей семье она узнала, что не предполагается, что женщине может нравиться секс, и теперь она находит, что половой акт причиняет боль. Она сообщила мне, что была практична и умела, желая “войти, испытать оргазм и выйти”.
Когда я спросила ее, чем она отличалась от людей из ее семьи, она сказала, что была самой жизнерадостной, игривой личностью в своей семье. Она всегда веселилась в школе и на работе, но в последние годы она играла и в других ситуациях. Она занималась несколькими игровыми видами спорта и полагала, что веселья в ее жизни теперь больше, чем прежде. Кроме того, у нее было больше друзей.
Эти перемены привели к тому, что она начала видеть себя более активной, вовлеченной в жизнь и свободной. Она перечислила друзей, которые заметили эти перемены, и сказала, что некоторые из них предсказывали, что она заведет роман с мужчиной.
Наша беседа породила понимание того, что она подготовила себя к этим переменам через терапию и риск. Например, она стала часто заходить на беговую конюшню, где изначально она никого не знала, и вступила в клуб дартс, став единственной женщиной в его составе. Она обнаружила, что масса вещей, вовлеченных в игру, созвучно тому, что вдруг приходит тебе на ум. Сказав это, она поняла, что в юности у нее была предрасположенность к событиям такого рода. Ребенком она преуспела в том, чтобы сделать нечто из ничего, а еще она наслаждалась грезами наяву. В подростковом возрасте она любила рассказывать анекдоты.
Я подвела хронологический итог этих событий, и спросила, что могло бы последовать дальше. Джессика подумывала о том, чтобы стать более игривой в сексуальном смысле, а следующей будет игра без структуры. Однако на пути к следующему шагу стоял страх. Он также не позволял ей стать еще более близкой к Гэри.
Я спросила, не служит ли посещение конюшни, где она никого не знала, примером преодоления страха. Она с этим согласилась и добавила, что с мужчиной, которого она там встретила, они стали близкими друзьями. Другие предложенные ею примеры преодоления страха включали пребывание единственным членом женского пола в клубе дартс, а также посвящение Гэри в эпизоды насилия в прошлом и затруднения, с этим связанные.
Я спросил Джессику, как ей удалось преодолеть страх в этих случаях. Она сказала, что, в случае Гэри, когда она рассказывала ему о насилии, она знала, что в свете затруднений в интимной жизни, она потеряет его, если не сделает этого. Итак, она рискнула и воспротивилась внутреннему голосу, который призывал ее к молчанию. В более широком контексте, Джессика сказала, что масса того, что мы боимся в этом мире, не стоит этого. Она верит в свою Высшую Силу. Это знание и вера помогают ей преодолеть страх.
Я спросила, что эти примеры риска и преодоления страха говорят о ней самой. Джессика ответила, “что я могу сделать это, что некоторая часть внутри меня вынуждена это сделать. Я также полагаю, что обладаю упорством и верой в свой рост и развитие”.
Когда я спросила, что могло бы измениться, если бы она приняла эти описания себя близко к сердцу в контексте ее взаимоотношений с Гэри, она ответила, что благодаря им она могла бы измениться в сексуальном смысле. Она улыбнулась и сказала: “Это заставляет меня желать больше практики”. Она добавила, что пыталась доставить удовольствие Гэри, однако эта беседа заставила ее заинтересоваться практикой ради собственного удовольствия, как верховой ездой и дартс, для развлечения и возможности расслабиться. Она также сказала, что, думая об этом как о практике, заставило ее почувствовать, что она может взять на себя большую ответственность. Она намеревалась обсудить с Гэри эти идеи.
Когда беседа подходила к концу, я спросила ее, была ли она ей полезна. Она сказала: “Да. До теперешнего момента мне и в голову не приходило, как много я изменила и чего достигла”.
Пятый телефонный звонок
Джессика позвонила месяц спустя. После нашей встречи она поговорила с Гэри о своем желании практиковаться и взять на себя больше ответственности. Они прошли через “некоторое непонимание по поводу этого, но затем все встало на свои места”. Секс уже не причинял боли, и Джессика наслаждалась им все больше и больше. Она сказала, что он стал более игривым и чувственным. У нее с Гэри были другие проблемы, и она не знала, останутся ли они вместе, но она была весьма удовлетворена теми возможностями, которые она открывала для себя, как для сексуальной и игривой личности. Он надеялась, что они вдвоем решат свои проблемы, а если нет, то она понимала, что это случится не из-за того, что с ней что-то не то. Просто, они могут не подходить друг другу. Теперь она верила в то, что может иметь удовлетворительные интимные взаимоотношения.
ВАЖНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЙ
В этой главе мы еще будем возвращаться к истории Джессики, используя ее эпизоды для иллюстрации элементов процесса, через который мы побуждаем людей развивать яркие события в крепкие, живо переживаемые нарративы. Но прежде чем мы вернемся к Джессике, давайте рассмотрим пару других историй.
Преобразующие истории — это явленные истории
Однажды, в ходе терапии, Кристел рассказала мне(Дж. К) одну историю. Ее обширная семья собралась на выходные в доме ее матери. Она и ее сестра Кармен болтали на кухне, облокотясь на полку. На полке, как раз между ними, стоял открытый мешок с картофельными чипсами. Разговаривая, они хрустели чипсами. Через регулярные интервалы времени Кристел думала про себя: “Я намерена перестать есть их”, однако беседа продолжалась, и они с Кармен неустанно жевали картофельные чипсы. В конце концов, в определенный момент беседы, Кристел произнесла вслух: “Я намерена перестать есть их”. Кармен кивнула головой. Кристел закрыла мешок, убрала его в шкаф, и беседа продолжилась.
Кристел рассказала мне эту историю, потому что она напомнила ей о том, что происходит в терапии. “Все становится более реальным, когда ты проговариваешь это вслух”, — сказала она мне. “Может быть, мы говорим о том, о чем я не задумывалась годами, однако мы ведем всю эту беседу, и вы продолжаете спрашивать меня все больше и больше об этом. К тому времени, как я ухожу, это как будто только что произошло. Вы спрашиваете меня, что я собираюсь делать дальше, я проговариваю это вслух и потом делаю это. Совсем как с картофельными чипсами. Ты вроде бы думала о некоторых из этих вещей раньше, но они не попадали в то, что ты делала. Когда говоришь это вслух, это становится более реальным. И потом ты делаешь это”.
Милтон Эриксон, бывало, рассказывал историю о путешествии со своим другом. Сидя за рулем, Эриксон рассказал своему другу о другом путешествии, в которое он несколько лет назад отправился по этой же дороге. Рассказывая эту историю, он начал пытаться вручную переключить скорость. В его машине было автоматическое переключение скоростей, и он ездил на машине такого типа несколько лет, но история, которой он жил, произошла за двадцать лет до этого — когда он ездил на машине с ручным переключением скоростей — поэтому он автоматически двигал ногами и не мог переключить скорость, рассказывая историю.
Такое “представление” историй не происходит автоматически или каждый раз, когда кто-то рассказывает историю. Это действительно происходит, когда человек погружается в историю, и когда он переживает ее как значимую.
Иногда мы рассматриваем терапию как ритуал или церемонию, которая концентрируется вокруг “исполнения смысла” (E. Bruner, 1986a; Myerhoff, 1986; White, 1991; White & Epston, 1990) на “предпочтительных” историях людей (White, 1991) о них самих, их взаимоотношениях и их эмпирических реальностях. Вслед за Эдвардом Брунером (1986а, стр. 25), мы признаем, что “истории становятся преобразующими лишь в их исполнении”.
Наше намерение, в таком случае, состоит не в том, чтобы со-конструировать истории, которые представляют или описывают опыт, а в том, чтобы со-конструировать истории, которые люди могут переживать в предпочтительной манере (Anderson & Goolishian, 1992; White, 1991). Возвращаясь к истории Джессики, тем событием в ее жизни, на котором она исполнила смысл, был детский опыт сидения на коленях у бабушки и разучивания с ней песни. Джессика погрузилась в это воспоминание и увидела себя глазами своей бабушки. Затем она развила эту историю во времени, сочиняя и переживая умозрительную историю о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы она жила со своей бабушкой. После этой беседы Джессика обнаружила, что она делает полный диапазон необычных для нее вещей, от произнесения “спасибо” до отказа от курения. Она сказала, что через нашу работу она получила понимание того, кем она была, и что теперь она человек, который знает, что он собой представляет. Она начала жить другой историей, а не просто рассказывать ее. История была сформирована жизненными событиями и, в то же время, она формировала жизненные события и ее имидж.
Люди, с которыми мы работаем — это привилегированные авторы
Истории создаются авторами через беседу, и в терапии веществом, составляющим истории, служит опыт людей, с которыми мы работаем. Совершенно очевидно, что конструируемая история принадлежит человеку или семье, и что она глубоко лична.
Мы не можем знать, куда направятся истории людей. Мы лишь можем временами соавторствовать в некоторых их эпизодах. Каждая деталь опирается на предыдущую и может быть сконструирована, когда предыдущая начинает нащупывать форму и определение (Tomm, 1993; White, 1991). Это совершенно отличается от развития цели и отыскания опыта для ее поддержания (Chang & Phillips, 1993). Этот процесс вызывает любопытство и вовлеченность, которые направлены на каждый эпизод истории, как только он появляется. На каждый кусочек конструкции можно отреагировать бесконечным числом вопросов, каждый из которых может повести в своем направлении. Важной частью нашей работы в качестве со-конструкоров служит пристальное внимание к невербальной и вербальной коммуникации людей, с которыми мы работаем. Именно это позволяет нам распознать и задать вопросы о тех гранях опыта, которые кажутся наиболее значимыми для них (Andersen, 1991a, 1993).
Я (Дж.Ф) не знала об опыте Джессики, связанным с обучением ее бабушки песне, пока она не ввела его в беседу. Тем не менее, поскольку он был явно значим для нее, я задала ей множество вопросов об этом опыте.
Так как мы не знаем, куда направится история, и поскольку мы не являемся ее главными авторами, мы часто используем сослагательное наклонение. Дэвид Эпстон (1991), вслед за Джеромом Брунером, называет это “сослагательностью”, термином, который Брунер (1986, стр. 26) использует в связи с “регулированием движением в условиях человеческих возможностей, а не устойчивых фактов”. Согласно этой линии, мы используем “было бы” или “могло бы” вместо “будет” как способ предоставления возможностей, но не предписывания их.
Линн Хоффман делает подобное замечание о работе Тома Андерсена и его коллег. Она (Hoffman, 1992, стр. 18) пишет: “Они склонны начинать свои фразы с “Могло бы быть так?” или “Что если?”... и влияние этого состоит в побуждении клиентов к участию и изобретательности”.
НАЧАЛО ДЛЯ НОВЫХ ИСТОРИЙ
Выслушивая начала
Как мы обсуждали в Главе 3, мы в основном фокусируемся на деконструкции проблемно-насыщенных нарративов людей, прежде чем попытаться сформировать новые истории. Тем не менее, хотя мы, ради ясности, представляем эти процессы раздельно, конструирование предпочтительных историй почти всегда идет рука об руку с процессом деконструкции.
Мы открываем путь для побуждения людей стать авторами новых историй и жить ими через “уникальные эпизоды”, то есть, через нечто, что не могло быть предсказано в свете проблемно-насыщенной истории. Уникальные эпизоды составляют начала историй, которые, через вопросы и аналитическое обсуждение, могут быть развиты в новые истории.
Пути, которыми уникальные эпизоды или “яркие события” выходят на свет, различаются в огромной степени. Замечательным примером может служить телефонный Джессики, который начался с фразы: “Вы можете себе представить, что значит носить новые туфли, новое платье, новый макияж и новые накладки на груди — и все это одновременно?”, и продолжился описанием произнесения “спасибо” в Макдональдсе.
Я (Дж. Ф) в настоящий момент работаю с семьей, члены которой озабочены проблемами Алексис, 17-летней дочери. Они пришли ко мне в тот день, когда Алексис была вызвана в кабинет директора после ее вызывающего столкновения с преподавателем. У нас прошла экстернализирующая беседа, касающаяся влияния гнева на ее жизнь и жизнь других членов семьи. Я не была уверена, что эта беседа была значима для Алексис. Когда я задавала вопросы, ищущие уникального эпизода, типа “Бывали ли такие времена, когда вы были способны удержаться от того, чтобы гнев определял ваше поведение?” она отвечала пожатием плечей и фразой “Не знаю”.
На нашей второй встрече, две недели спустя, едва семья вошла в мой кабинет, Алексис, даже не присев, провозгласила: “Я совершила великую вещь! Я была великолепна! Вы когда-нибудь читали Падение Альбера Камю? Хорошо, у нас была по нему проверка, и сначала мы соревновались, а потом пошли цитаты. Это не то, когда вы угадываете цитаты, а когда вам дают цитаты, и вам нужно сказать, кто это сказал, что произошло непосредственно перед этим и после этого, что абсурдно в отношении Падения. Я имею в виду, что это экзистенциальный роман, где они ходят в это кафе в Амстердаме и целую ночь обсуждают свои мнения обо всем на свете. Поэтому, откуда знаешь, когда была сказана конкретная вещь? Но, как бы то ни было, там были короткие ответы, вроде вещей о символизме, а потом — сочинение. И на все это нам дали сорок минут. И я просто чувствовала, как меня все больше и больше охватывает гнев. И я просто сказала себе: “Если бы ты сейчас была в классе, где примерно тысяча студентов, и где учитель никогда не узнает тебя и все такое, и позволила бы этому гневу взорваться в тебе, ты просто никогда не закончила бы этот колледж”. Итак, я просто сказала “Нет!” гневу”. “А дома пару дней назад по вине моей матери села моя любимая рубашка, — драматически произнесла Алексис, уставившись на свою мать, — она всегда делает это, а я говорила ей не класть ее в сушилку. Но я просто сказала себе: “Гнев? Нет!” Говоря “Нет!” Алексис исполнила рукой жест, как бы отметая нечто прочь.
Иногда люди проявляют уникальные эпизоды в достаточно непосредственной манере, но с меньшей драматичностью, чем Алексис. Например, некто может описывать проблему, а потом сказать: “Это не всегда так”, и продолжить описывать уникальный эпизод.
Не так уж необычно наблюдать, как люди, вовлекаясь в пере-сотворение своих жизней, накапливают новые уникальные эпизоды, чтобы рассказать о них терапевту. В других случаях очень важно внимательно слушать, если мы не намерены пропустить упоминания об уникальных эпизодах, погребенные под описаниями проблемных историй людей (Lipchik, 1988). Например, если отец говорит: “Изредка мне удается пробиться к нему, но обычно...”, а затем продолжает описывать доминирующую историю, мы можем заинтересоваться частью “изредка”, как бы нас заинтересовали ответы на вопросы уникальных эпизодов.
Иногда мы можем наблюдать, что происходит нечто, что не может быть предсказано проблемной историей — люди, которые убеждены, что у них проблемы с общением, красноречиво описывают свою проблему; дети на сеансе ведут себя примерно, хотя их описывают, как записных хулиганов; или подросток проявляет большее соответствие процессу терапии, чем другие члены семьи, хотя его проблемная история касается безответственности.
На первой встрече с Джессикой, когда Джессика сравнила прошлое с настоящими последствиями насилия, мне показалось, что настоящие последствия были мягче и ограничивались более узким диапазоном контекстов. Эта разница поразила меня как возможный уникальный эпизод, потому что Джессика каким-то образом сузила последствия насилия. Именно поэтому я задавала вопросы о том, как она сделала это, побуждая ее превратить ее достижения в историю.
Приглашение к началу историй
Наиболее часто начала историй развиваются “спонтанно” в процессе деконструктивного выслушивания и опрашивания людей о влиянии проблем на их жизнь и взаимоотношения. Если эти начала не развиваются спонтанно, мы можем прямо осведомиться о их существовании. Как мы отметили при обсуждении постановки вопросов в режиме относительного влияния в Главе 3, когда мы работаем с экстернализованной проблемой, самый прямой путь к отысканию начал историй состоит в том, чтобы спросить о влиянии человека на жизнь проблемы. То есть, мы задаем вопросы типа: “Случались ли времена, когда проблема пыталась прижать вас к ногтю, но вы были способны противостоять ее влиянию?” или “Вам когда-нибудь удавалась сбежать от проблемы хотя бы на несколько минут?” или “Проблема всегда находится с вами?” Когда вопросы такого рода следуют за подробным опросом о влиянии проблемы на человека, люди, как правило, находят случаи, когда они способны избежать влияния проблемы. Каждый такой случай — это потенциальное начало для альтернативного жизненного нарратива.
Во время четвертой встречи с Джессикой мы работали с экстернализованной проблемой “сомнения в себе”. Посредством вопросов мы обнаружили, что один из эффектов неуверенности Джессики в себе заключался в том, что это ощущение побуждало ее спрашивать себя, сможет ли она когда-нибудь стать “здоровой”, “нормальной” или “игривой”. Затем я спросила, бывали ли времена, когда Джессика была уверена в своей способности быть здоровой, нормальной и игривой, хотя бы на мгновение. Этот опрос привел к опыту, который оказался главным началом истории для Джессики, он касался обучения ее бабушки песне.
Существуют другие типы вопросы, которые также могут привести к уникальным эпизодам. *[См. Главу 5, где приводится обсуждение вопросов о гипотетических эпизодах, вопросов с точки зрения других и вопросов о других контекстах и других временных рамках.] Здесь мы ограничимся лишь немногими примерами некоторых из этих вопросов в отношении истории Джессики.
Если бы Джессика не рассказала мне о разучивании песни, я могла бы сказать: “Я понимаю, что вы не видите себя здоровой, нормальной или игривой, но если бы мне пришлось опрашивать других людей, которые вас знают, кто бы из них мог сказать, что вы собой представляете? Что такого они заметили в вас, что позволяет им судить о вас?” Или я могла бы поставить вопрос гипотетического эпизода, к примеру: “Если бы вы выросли в другом доме, и не было бы никакого насилия и оскорблений, как вы думаете, сомнение в себе смогло бы завладеть вашей жизнью? Как вы думаете, вы могли бы сейчас быть более игривой? Чтобы могло, как вы думаете, развиться в вас в более благоприятных обстоятельствах?”
Убедиться в том, что начало истории представляет предпочтительный опыт
Если мы ощущаем, что присутствует потенциальный “яркий момент”, мы задаем вопросы типа: “Это вам интересно?”, “Это вас удивляет?”, “Вам хотелось бы, чтобы этого было больше в вашей жизни?” или “Как вы думаете, это хорошо или плохо?” Процессы подобного рода побуждают людей задуматься над тем, является ли нечто, что мы рассматриваем как возможное начало истории, действительно новым для них, и открывается ли оно в предпочтительном для них направлении, которое они предпочитают направлению проблемно-насыщенной истории.
Помимо постановки вопросов, мы обращаем внимание на невербальную коммуникацию. Когда я (Дж.Ф) вслух интересуюсь, как Джессика сместилась от одного набора эффектов к другому (стр. *), Джессика с готовностью начинает подробно описывать различия между прошлым и настоящим. Мы рассматриваем эту легкость и готовность как свидетельство того, что это начало истории уместно и значимо, поэтому мы спокойно продолжаем расспрашивать о дополнительных подробностях. Если кто-то не отвечает с такой готовностью, мы, как правило, прекращаем опрос в русле этих конкретных событий и возвращаемся к выслушиванию и постановке деструктивных вопросов.
Помните, в особенности в начале, что по мере того, как мы начинаем в культурном контексте вживаться в эмпирические миры людей, мы вслушиваемся в их существующие нарративы. Слушая, мы ориентируем себя на их ценности, привычки и предпочтительные способы установления связей. Интимные визуальные детали, на описание которых добровольно решилась Джессика, подтверждали, что между нами развивались взаимоотношения взаимного доверия и уважения. Лишь когда ощущается такое подтверждение, мы действительно можем спокойно перемещать свой фокус на конструирование новой истории. Что, в особенности, касается людей с историями о насилии, подобными истории Джессики, попытки продвигаться слишком быстро могут играть роль дополнительного насилия и ущемления прав со стороны более сильного другого. В то же время, важно проявлять осторожность с тем, чтобы не конкретизировать и не копировать насилие, втянувшись в “подглядывание” и вытягивая больше подробностей о проблемной истории, которую свободно и непринужденно рассказывает человек (Durrant & Kowalski, 1990).
РАЗВИВАЯ НАЧАЛО ИСТОРИИ
Если мы соглашаемся с предпочтительным началом истории, которое кажется уместным и интересным для людей, с которыми мы работаем, мы побуждаем их к развитию альтернативной истории. В случае Джессики, обучение ее бабушки песне было ярким моментом, который дал начало живой и побуждающей истории. Джессика не просто “припомнила” историю этого события, но она сочинила умозрительную историю и свое будущее, основанное на ней. Как мы видели, хотя будущее имело умозрительный характер, Джессика стала жить им.
У нас нет формулы, которой можно было бы руководствоваться в этом процессе, но мы действительно держим в уме, что истории включают события, которые постоянно происходят в особых контекстах, и что они, как правило, касаются более чем одного человека. Помните, что, по большей части, момент, позволяющий новым историям изменить жизнь людей, состоит в том, что пересказывание историй другим людям приводит к представлению смысла. Чтобы превратить терапевтическую беседу в “ритуальное пространство”, в котором может произойти представление смысла, мы стремимся к созданию атмосферы сфокусированного внимания и взаимного уважения, что позволяет людям легко и естественно эмпирически войти в те истории, которые они рассказывают. В идеале, люди должны переживать события по мере того, как они о них рассказывают.
Мыслите как романист или сценарист
Если вы заговорите со мной (Дж. К), когда я читаю, я, возможно, вам не отвечу. Это не означает, что я вас игнорирую. Просто меня может не быть здесь. Я могу находиться в другой стране или в другом времени. Я даже могу быть другим человеком.
Хорошие романы, пьесы и поэзия создают миры, в которые вступает читатель. Мы обнаружили, что полезно задумываться над тем, что делает истории настолько притягивающими, и каким образом они захватывают наши чувства и воображение (White, 1988/9).
Один из приемов, с помощью которого писатели, драматурги и другие искушенные рассказчики придают своим историям эмпирическую живость, состоит во включении деталей. Поразмышляйте над этим отрывком из Фрэнни и Зуи (Salinger, 1955/61, Penguin, стр. 12). В этом эпизоде Лэйн встречает поезд Фрэнни:
Фрэнни одна из первых вышла из дальнего вагона в северном конце платформы. Лэйн увидал ее сразу, и, что бы он ни старался сделать со своим лицом, его рука так вскинулась кверху, что сразу все стало ясно. И Фрэнни это поняла, и горячо замахала ему в ответ. На ней была шубка из стриженого енота, и Лэйн, идя к ней навстречу быстрым шагом, но с невозмутимым лицом, вдруг подумал, что на всем перроне только ему одному по-настоящему знакома шубка Фрэнни. Он вспомнил, как однажды, в чьей-то машине, целуясь с Фрэнни уже полчаса, он вдруг поцеловал отворот ее шубки, как будто это было вполне естественное, желанное продолжение ее самой.
— Лэйн! — Фрэнни поздоровалась с ним очень радостно: она была не из тех, кто скрывает радость.
Закинув руки ему на шею, она поцеловала его. Это был перонный поцелуй — сначала непринужденный, но сразу затормозившийся, словно они просто стукнулись лбами. *[Перевод Р. Райт-Ковалевой.]
Под другим пером, это содержание могло быть передано фразой “Лэйн встретил Фрэнни на железнодорожном вокзале”. Как вы можете видеть, этот эпизод создан деталями, которые затягивают нас в него.
Подобным же образом, когда люди отыскивают специфические детали, подробности в своих воспоминаниях, они эмпирически погружаются в них. (Отметьте, что случится, если к вам придет воспоминание давних лет, и вы начнете разбирать его детали: что носили вы и другие люди, кто и когда с кем разговаривал, какое это было время суток, насколько ярким или приглушенным был свет и т.д.)
Мы полагаем, что, противостоя эффектам проблемно-насыщенной истории, важно развивать максимально богатую, детализированную и значимую контр-историю. Во время нашей второй встречи Джессика и я (Дж. Ф) говорили о том, как ей удалось смягчить и изолировать последствия насилия в ее жизни. Хотя появившаяся на свет история была значительно сокращена здесь, она была прекрасна и богата подробностями. *[См. стенограмму в конце этой главы, где приведено еще несколько примеров роли детали в создании историй.] Эта история всегда могла стать частью жизненного нарратива Джессики, однако еще шесть недель назад события, из которых она была сконструирована валялись кругом разрозненные и покрытые пылью в редко посещаемых закоулках воспоминаний.
Один из верных способов побуждения людей к привнесению деталей в их истории состоит в том, чтобы расспрашивать их о многочисленных модальностях их опыта. В отрывке из Фрэнни и Зуи, Дж. Д. Сэлинджер описывает, о чем Лэйн думает, равно как и то, что он делает, и что он чувствует, равно как и то, о чем он думает.
Мы обнаружили, что люди гораздо глубже эмпирически погружаются в возникающие истории, если они включают в них более чем одну модальность опыта. В особенности, мы были поражены тем, как различные модальности вовлекали нас в историю, когда мы просматривали видеопленку с работой Дэвида Эпстона. Во время беседы, которую мы наблюдали, мальчик подросткового возраста рассказывал Дэвиду о беседе, которую он имел со своим дедушкой. “Каково было выражение его лица, когда ты сказал ему это?” — спросил Дэвид. “Как он тебя назвал? Когда он говорил тебе это, он обращался к тебе по особому имени?” И позже — “Ты планировал, что собираешься ему сказать?”
Очень полезно спрашивать людей, о чем они думают, равно как и о том, что они делают, что они чувствуют, равно как и о том, что они думают. Также мы нашли полезным спрашивать о том, что они видят, слышат и чувствуют.
Я (Дж. К) не знаю всех подробностей, пережитых Джессикой в процессе вспоминания того, как она обучала свою бабушку песне, но каждый раз, когда я слышу ее историю, она уводит меня в ощущение того, как я сижу на коленях своей бабушки. Мне, должно быть, было года четыре, и мы сидели на качелях, которые висели на веранде слева от парадной двери. День клонился к закату, и тигровые линии в живой изгороди отбрасывали длинные и очень четкие тени вдоль лужайки, покрытой клевером. На ней было ситцевое домашнее платье голубого цвета. Ее крупные, мягкие, теплые, бледные руки нежно, свободно убаюкивали меня, и мы медленно и почти незаметно раскачивались из стороны в сторону. Она поспорила со мной, что я не смогу сосчитать вслух до ста, а когда я дошел до сотни, она поспорила, что мне не сосчитать до двухсот. Я ощущал, как ее дыхание слегка шевелит волосы на моей макушке...
Персонажи и различные точки зрения
В большинстве историй присутствует несколько персонажей. Поскольку мы рассматриваем реальности как социально сконструированные, имеет смысл включать других в пере-сочинение историй. Главный путь к осуществлению этого лежит через вопросы о точках зрения других людей.
Для писателя заменителем особенностей внешней реальности служит отображение различных точек зрения, множественность описаний одних и тех же событий. Что писателю кажется особенно смешным, это попытка наделить привилегией одно из этих описаний, принося этим извинение за игнорирование всех других. Что он [sic] находит героическим, то это не способность непреклонно отвергать все описания, за исключением одного, а способность двигаться туда и сюда между ними.
(Rorty, 1991b, стр. 74)
Изменение точки зрения почти всегда привносит другие детали, другие эмоции или другие смыслы. Существует множество различных точек зрения, которые мы можем предложить: посмотреть глазами других людей (родственника, сотрудника, лучшего друга, мучителя), посмотреть своими глазами в другом возрасте, “отступить” и взглянуть с осмысливающей позиции, оглянуться назад из будущего, заглянуть вперед из прошлого и т.д.
Я (Дж. Ф) спросила Джессику, кто мог бы предсказать, что она сможет справиться с последствиями насилия, знай они об этом. Джессика сказала, что некоторые учителя и одноклассники могли бы это предсказать. Они знали, что она была упорна и сообразительна. Глазами своих учителей и одноклассников, учитывая убежденность в своем упорстве и сообразительности — Джессика пере-смотрела свое положение по-другому — через свою веру в то, что она может противостоять насилию.
Позже, когда я спросила, что ее бабушка увидела и более всего ценила в ней, я просила Джессику рассказать часть ее истории с точки зрения ее бабушки. С этой точки зрения, она признала, что она привлекательна (нечто, что она никогда не признавала со своей точки зрения). Это признание указала Джессике путь, как по-новому пережить “потерянные эпизоды” из своей жизни, которые были связаны с тем, чтобы быть хорошим человеком, быть здоровой, быть душевной, быть забавной, быть чувствительной и быть способной распознавать хорошее в других. Пока она рассказывает эти истории, а я слушаю, тщательно выпытывая детали, мы участвуем в церемонии; мы устраиваем представление смысла на этих историях, позволяя эмоциям, действиям и убеждениям, связанным с ними, стать частью официального жизнеописания Джессики.
Внимание к сцене или постановке истории — это еще один аспект превращения ее в эмпирически воодушевляющее повествование. В таком случае, может быть важным задавать такие вопросы, которые приносят знание о различных контекстах жизни человека. Что касается Джессики, ее проблемно-доминирующая история происходила, по большей части, в царстве дома ее детства с участием определенных членов семьи и в социальных ситуациях. Она также происходила в контексте патриархального уклада, где женщины рассматриваются как собственность мужчин. Альтернативная история, которую она сочинила, включала контексты школы, профессионального окружения и пребывания дома со своей бабушкой. Все это менее патриархальные контексты, чем тот, который поддерживал ее проблемно-насыщенную историю.
В других ситуациях вытягивание описаний из контекста ставит истории на их реальное место. Это может оказаться важным, когда нужно убедиться в том, что эти истории — проживаемые истории. Размещение их опыта по этим местам втягивает людей в представление историй.
Двойные ландшафты
Майкл Уайт (White & Epston, 1990), вслед за Джеромом Брунером (1986), говорит о “двойных ландшафтах” действия и сознания. Он убежден, что, поскольку истории, которые составляют жизнь людей, разворачиваются на этих двух ландшафтах, терапевтам следует получать информацию о них обоих. Давайте сначала рассмотрим ландшафт действия. Брунер (J. Bruner, 1986, стр. 14) пишет, что его “составляющими служат параметры движения: причина, намерение или цель, ситуация, инструмент, нечто, относящееся к “грамматике истории”. Это напоминает “кто, что, когда, где и как” журнализма. На ландшафте действия мы выстраиваем последовательности событий во времени.
Вы можете видеть, что многое из того, что мы уже обсуждали как “развитие начала истории” относится к ландшафту действия: детали в нескольких модальностях, включающие точки зрения различных персонажей в особой сцене или окружении. Теперь нам следует добавить само действие. Что произошло, в какой последовательности, какие персонажи участвовали?
Много раз мы с Джессикой вместе работали над тем, чтобы распространить ее предпочтительные истории на ландшафт действий. Она рассказала историю своих достижений в школе. Мы исследовали события из ее профессиональной жизни, где последствия насилия обладают меньшей властью, чем в ее социальной жизни. Она подробно рассказала мне, с двух выгодных точек зрения, историю обучения ее бабушки песне, описывая сопутствующие этому события и все подробнее разбирая их при каждом пересказе. Когда Джессика вернулась через четыре года, она рассказала мне историю о своих набегах в беговые конюшни и в клуб дартс, и я предложила ей расширить эти события.
На ландшафте действий мы заинтересованы в конструировании “посреднической самости” по отношению к людям. То есть, мы задаем вопросы, держа в уме расширение тех аспектов возникающей истории, которые поддерживают “личное посредничество” (Adams-Westcott, Dafforn & Sterne, 1993). Сам акт пере-сочинения требует личного посредничества и демонстрирует его, и большинство людей ощущают это в такой работе. Мы делаем шаг вперед в выявлении личного посредничества, спрашивая в различных режимах, как люди добились того, что они имеют. В случае Джессики, одним из примеров служит вопрос о том, что она сделала, чтобы создать идентичность для себя, вместо того, чтобы позволить последствиям насилия сделать это за нее.
Спрашивая “как”, или задавая вопросы, предполагающие “как”, мы весьма эффективно порождаем истории о личном посредничестве. Ответы на вопросы “как” могут также придать историям эмпирическую живость и развить последовательность событий во времени. Вопросы типа “Как вы сделали это?”, “Что вы такого сделали, что привело вас к ощущению этого нового чувства?” и “Как вы обнаружили этот новый способ восприятия ситуации?” — это примеры. Ответы на такие вопросы почти всегда приобретают форму историй. * [Вы можете попробовать это сами. Выберите форму поведения, восприятие или эмоцию из вашего недавнего опыта. Спросите себя, как возникла эта форма поведения, этот опыт или эмоция. Не будет ли ваш ответ служить историей особого сорта?]
Мы размышляем о форме истории по мере ее появления: Что предшествовало уникальному эпизоду? Насколько гладко разворачивались события? Происходили ли фальстарты? К чему привел этот конкретный эпизод? В этом отношении, нам особенно интересно узнать, имеется ли здесь точка поворота, место, где история поворачивается к хорошему. Хотя “точка поворота” не служит универсальной метафорой для каждого и для каждой ситуации, когда она есть, она становится значительным событием, которое мы можем построить во времени так, чтобы оно превратилось в историю. Если есть такая точка, она создает фокус, когда проблемная история превращается в предпочтительную. Мы убеждены, что как таковая, она заслуживает особой концентрации внимания на ней, сопровождаемой созданием новой формы, привлечением новых деталей и даже обращением с ней как с историей-в-истории.
Неважно насколько живой представляется история на ландшафте действия, если ей требуется обладать смыслом. Помимо этого, она должна быть развита на ландшафте сознания. Под “ландшафтом сознания” мы понимаем воображаемую территорию, на которую люди наносят смыслы, желания, намерения, убеждения, обязательства, мотивации, ценности и прочее — все, что связано с их опытом на ландшафте действия. Другими словами, на ландшафте сознания люди размышляют над значением опыта, хранимого на ландшафте действия. Таким образом, когда Джессика назвала новое представление о себе “мой новый имидж”, она находилась на ландшафте сознания.
Джером Брунер (1986) обсуждает, как взаимодействие между этими двумя двойными ландшафтами побуждает эмпатическое и эмпирическое вовлечение в жизнь и умы персонажей истории. Когда мы читаем роман, смотрим фильм или слушаем, как друг рассказывает забавный случай, мы действительно проявляем вовлеченность, размышляя над смыслом действий людей — почему они делают то, что делают; случится или нет то, на что они надеются; что их действия говорят об их характере и т.д. Ранее мы обсуждали, как опрашивать людей, выявляя, каким образом они сочиняют истории о посреднических самостях. Та последовательность событий, которую они излагают нам в ответ на вопросы “как” появляется лишь для того, чтобы воплотить личное посредничество, когда люди вступают на ландшафт сознания и придают им смысл.
С тем, чтобы исследовать ландшафт сознания, мы задаем вопросы, которые мы (Freelman & Combs) мы называем смысловыми вопросами. Это те вопросы, которые побуждают людей отстраниться от ландшафта действия и поразмышлять над желаниями, мотивациями, ценностями, убеждениями, научением, подтекстами и т.д. — над всем, что приводит к тем действиям, о которых они рассказывают, и вытекает из них.
Во время второй встречи с Джессикой я спросила, что для нее значит то, что она уже столь многого достигла вопреки насилию. Джессика, по некоторому размышлении, ответила, что это означает, что она сообразительна и упорна. Мы убеждены, что Джессика ранее не связывала свои персональные качества сообразительности и упорства напрямую с действиями — получением звания медсестры, преуспеванием на трудной работе и устройством прекрасного дома для себя — вопреки последствиям насилия. Даже если она и делала это когда-либо, как ландшафт действия, так и ландшафт сознания, стали для нее более реальными, более живыми и более запоминающимися по мере того, как она размышляла над сконструированной ею историей.
И снова, когда я спросила Джессику, что признавала и более всего ценила в ней ее бабушка, мы пробирались по ландшафту сознания. Смысловой вопрос, который я задала ей на этот раз, исходил из точки зрения ее бабушки. Джессика ответила, что ее бабушка признавала и ценила ее привлекательность. Далее она объяснила, что быть привлекательной означает множество вещей: это означает, что она — хороший человек; это означает, что она — сердечна; это означает, что она — забавна; это означает, что она — нормальна, здорова, жизнерадостна и восприимчива; это означает, что она видит хорошее в других. Во время терапевтической беседы, даже если они никогда не были связаны в ее опыте, этот богатый и замечательный комплекс смыслов соединился для Джессики в воспоминание о сидении на коленях у бабушки и разучивании с ней песни. И все вместе, смыслы и действия, породило наррратив, который был подробен, жизнеспособен и эмпирически вовлекающий.
В случае соавторства историй, мы движемся между ландшафтом действия и ландшафтом сознания, снова и снова сплетая их в разных направлениях.
Гипотетические или умозрительные формы опыта
Беллетристика научила нас тому, что истину можно найти в описании событий, которые никогда не происходили. В конце концов, как напоминает нам Эдвард Брунер (1986а, стр. 18):
... истории служат интерпретативными устройствами, порождающими смысл, которые обрамляют настоящее гипотетическим прошлым и предсказанным будущим.
Представьте умозрительную историю, которую развила Джессика — о том, как могла бы сложиться ее жизнь, “начиная с того времени, когда она была еще совсем маленькой, и постоянно дополняясь тем, как все могло бы измениться для нее сейчас, если бы она выросла, живя со своей бабушкой”. Что касается нас, похоже, что более приемлемо считать, что эта история говорит об идентичности Джессики. Она говорит о той идентичности, которую она предпочитает, и над конструированием которой она упорно работала годами. Она касается того, что пребывание в страхе в атмосфере общественных мест в ее доме, вызванное годами оскорбительного обращения, не когда не было ее предпочтительной идентичностью, это была “уловка”, устроенная насилием.
Изолированные яркие моменты могут быть легко утеряны. Если они появляются, то использование их в качестве основы для размышлений о том, что могло бы произойти или что произойдет — это еще один метод сохранять их живыми и оформленными в виде истории. Гипотетическая история может стать основой для реальных настоящих и будущих событий.
РАЗВИВАЯ “ИСТОРИЮ НАСТОЯЩЕГО”
Майкл Уайт (White & Epston, 1990, стр. 9) пишет:
Ученые-социологи заинтересовались аналогией с текстом, которая была вызвана наблюдениями над тем, что, хотя эпизод поведения происходит во времени таким образом, что он уже не существует в настоящем, когда на него обращают внимание, смысл, который приписывают этому поведению, выживает во времени... В своем стремлении осмыслить жизнь, люди сталкиваются с задачей выстраивания эпизодов своего опыта во временную последовательность таким образом, чтобы добиться связного представления о самих себе и мире вокруг них.
При воспроизведении таких представлений, если было определено предпочтительное событие, мы стремимся связать это событие с другими предпочтительными событиями во времени так, чтобы выжили их смыслы, и так, чтобы события и их смыслы могли уплотнить нарратив человека предпочтительным способом. Следовательно, если предпочтительное событие определено и превращено в историю, мы задаем вопросы, которые могут связать его с другими событиями прошлого и будущего.
До того, как мы приняли карту нарративов, мы работали с тем, чтобы помочь людям найти “ресурсы” в непроблемных жизненных контекстах и использовать эти ресурсы в проблемных контекстах. Для нас было вполне привычным искать эти ресурсы в прошлом опыте. Тем не менее, мы рассматривали ресурсы как состояния сознания и использовали прошлый опыт лишь как способ помочь людям достичь состояний, наполненными ресурсами. Мы мало внимания уделяли тому, чтобы связать эпизоды опыта и состояния в нарратив, который мог бы устойчиво существовать во времени. Теперь мы рассматриваем такие аспекты опыта как важные жизненные события, которые, через представление значения и связь с другими такими событиями, могут изменить проблемные нарративы в удовлетворительном смысле. Это подводит нас к тому, чтобы посвящать массу времени и энергии пересмотру, пере-живанию и сопряжению вместе факторов, предшествующих настоящим уникальным эпизодам. Майкл Уайт (1993) называет историю такого типа, которая служит результатом такого процесса, “историей настоящего”.
В работе с Джессикой, ее достижения вопреки насилию выступали в роли уникальных эпизодов. Спрашивая, кто бы мог предсказать, что она будет противостоять последствиям насилия (как показывают ее достижения), я побуждала Джессику со-конструировать историю настоящего вместе со мной. Эта история включала больше подробностей, чем мы зафиксировали в письменном нарративе. Она включала несколько людей, которые могли бы предвидеть способность Джессики противостоять насилию, и истории о некоторых событиях, свидетелями которых они становились в различные моменты ее жизни. Мы превратили каждое из этих событий в историю, предвестницу сопротивления насилию. Все вместе они представляли историю о ее настоящих достижениях.
РАСПРОСТРАНЯЯ ИСТОРИЮ НА БУДУЩЕЕ
Мы также можем спросить, как возникающая новая история влияет на мысли человека о будущем. По мере того, как люди все больше и больше высвобождают свое прошлое из хватки проблемно-доминирующих историй, они получаю возможность предвидеть, ожидать и планировать менее проблемное будущее. Во время нашей второй встречи с Джессикой, когда я спросила ее: “Если мы оглянемся на те годы, когда вы использовали свою силу и интеллект, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь — вы получили образование, стали медсестрой, которая действует в ситуациях жизни и смерти, нашли способы ограничить последствия насилия — не служит ли ваша готовность выйти замуж следующим шагом?,” — я пересказывала историю настоящего и просила ее распространить эту историю на будущее. Отвечая на мой вопрос, Джессика начала воображать, как у нее будут теплые и нежные чувства, и она будет связана с другим человеком. Теперь она действительно могла поверить, что она может перейти в царство романтических взаимоотношений, нечто что прежде казалось только фантазией.
Когда Джессика вернулась через четыре года, мы видели, что она начала понимать то будущее, которая она начала сочинять в нашей совместной работе.
ФОРМАТ ПРАКТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЙ
Мы предлагаем вам этот формат практики как инструмент обучения, но не как предписание или рецепт. Он намечает идеализированную форму для терапевтической беседы, которая сводит вместе многие из тех идей, которые мы здесь описывали. В нашей реальной работе вещи редко принимают форму, которую мы здесь описываем. Как и во всякой интересной беседе, случаются отклонения, повторения и изменение порядка.
1. Начинайте с уникального эпизода. Даже когда люди описывают проблемно-насыщенные истории, они часто упоминают или подразумевают переживания, которые не соответствуют этим историям. Спрашивайте о таких событиях.
Вы сказали, что, хотя настроения безнадежности часто наводят вас на мысль о самоубийстве, вы знаете, что, на самом деле, вы не хотите умирать. Когда в последний раз это знание помогло вам отбросить мысли о самоубийстве?
Вы сказали, что на прошлой неделе ваш сын будил вас ночью четыре раза. Что происходило в три остальные ночи?
Если такие вещи не упоминаются, спрашивайте о тех моментах и местах, когда и где они могли произойти.
Бывали ли времена, когда желание спорить могло возобладать, но ему это не удалось?
Когда в последний раз ваш сын сам пошел в школу?
2. Убедитесь, что уникальный эпизод представляет предпочтительный опыт. Попросите людей оценить уникальный эпизод.
Это был хороший опыт или плохой?
Вам хотелось бы больше взаимодействий такого типа в ваших отношениях?
3. Обозначьте историю на ландшафте действий.
Как вы готовили себя к тому, чтобы предпринять этот шаг?
Как вы думаете, в чем состояла точка поворота в ваших взаимоотношениях, которая привела к тому, что это стало возможным?
Что в точности вы сделали?
Направлял ли вас какой-то образ или что-то, что вы сказали себе?
У вас был план?
Было ли это ваше самостоятельное решение, или здесь играли роль другие люди?
Что в точности сказал ваш партнер, когда вы рассказали ему об этом? Каково было выражение его лица?
4. Обозначьте историю на ландшафте сознания.
Как то, что вы сделали, характеризует вас как личность?
О каких личных качествах это говорит?
Как вы рассматриваете ваши взаимоотношения, когда вы смотрите на это событие?
Научила ли эта беседа с вашей тетушкой чему-то, что могло бы быть важным в других областях вашей жизни?
Что заставило вас сделать это в этот момент вашей жизни?
Что это говорит о целях вашей жизни?
Заметьте, что вопросы позиций 3 и 4 можно использовать вместе в разных комбинациях: Как вы готовили себя к тому, чтобы предпринять этот шаг? Как то, что вы сделали, характеризует вас как личность? Направлял ли вас какой-то образ или что-то, что вы сказали себе? У вас был план? Что заставило вас сделать это в этот момент вашей жизни? Как вы думаете, в чем состояла точка поворота в ваших взаимоотношениях, которая привела к тому, что это стало возможным? Как вы рассматриваете ваши взаимоотношения, когда вы смотрите на это событие?
5. *[Шаги с 5-го по 8-й служат развитию истории настоящего. Они могут повторены для нескольких событий.] Спрашивайте об аспектах прошлого, в которых есть что-то общее с уникальным эпизодом или смыслом уникального эпизода.
Были ли времена, когда вам доводилось делать это раньше?
Какой пример вы обдумываете?
Кто мог бы предсказать это событие? Что они замечали за вами раньше такого, что привело их к убеждению, что вы смогли бы это сделать?
Теперь, когда вы признаете это качество за своим партнером, приходят ли вам на ум воспоминания о тех временах, когда вы и раньше чувствовали это качество в нем?
Какой период вашей жизни лучше всего иллюстрирует вашу настойчивость? Какое событие из этого периода вы могли бы выделить?
6. Обозначьте историю прошлого события на ландшафте действия (как в 3)
7. Обозначьте историю прошлого события на ландшафте сознания (как в 4)
8. Задавайте вопросы, связывающие прошлый эпизод с настоящим.
Теперь, когда я понимаю основы этого в вашем прошлом, видите ли вы, как это последнее событие в ваших взаимоотношениях наполняется для меня еще большим смыслом?
Если бы я мог спросить вас тогдашнюю, что она думает об этих последних событиях, чтобы она сказала?
Когда вы думаете о прошлых временах, бросают ли они другой свет на тот опыт, что вы испытали на прошлой неделе?
9. Задавайте вопросы, распространяющие историю на будущее
Если мы посмотрим на те события, которые мы обсуждали, как на тенденцию в вашей жизни, как вы ожидаете, каким будет следующий шаг?
Оказывает ли сегодняшний взгляд на эти события влияние на то, что вы видите в будущем?
Учитывая те переживания, которые мы обсуждали, каковы ваши предсказания на следующий школьный год?
СТЕНОГРАММА
Мы предлагаем вам следующую стенограмму с тем, чтобы вы могли получить ощущение того, как шаг за шагом мы приводим в действие идеи, которые мы изложили в этой главе.
Я (Дж. К) разговариваю с Эммой, которая впервые пришла ко мне, когда она была почти скована депрессией. Она потеряла свою работу менеджера по производству на большом заводе, когда в компании прошло сокращение. Когда ей не удалось найти работу, соответствующую ее старой, она пошла работать на своего младшего брата, который был записным дельцом. Он вскоре устроил ее на две работы: управлять вагоном-рестораном, который он выиграл в покер, и вести документацию для его компании недвижимости. За все это он платил ей жалование, которое составляло половину того, что она получала как менеджер по производству.
Как вы прочитаете, Эмма выросла со множеством обязанностей и минимумом поддержки. В тот момент, когда я встретил ее, страх того, что ее противостояние брату оттолкнет от нее других родственников, и вызовет скандал в семье, практически лишил ее сил. Это привело к тому, что она стала характеризовать себя как бесхребетное существо, не обладающее правом голоса.
Как раз перед встречей, предшествующей этой, Эмма “отделала своего братца”. Днем в пятницу он дал ей на выполнение “тонну бумажной работы”, ожидая, что она выполнит ее к концу дня. Она воспротивилась этому, вышла из себя и накричала на него. Мы провели большую часть предыдущей встречи, развивая историю этого происшествия.
В начале встречи, из которого была взята эта стенограмма, Эмма рассказала мне, что она впервые за последнее время действительно охотилась за работой, и что она наконец нашла ее! Она думала, что великолепно справилась с интервью для поступления на работу. Мы развили историю этого интервью. Затем я узнал, что у нее была еще одна стычка с ее братом, Рэем. На этот раз она держала себя в руках и вела себя с достоинством. Она сказала, что скоро она увольняется и ожидает, что он выплатит ей двухнедельное пособие, когда она уйдет!
ДЖИН Итак, вы сказали, что с Рэем разговаривал ваш большой страх.
ЭММА У-гу.
ДЖИН И, если я вас правильно понял, это отнюдь не отвратило вас от разговора с ним. Вы шли напролом и разговаривали с ним. А потом вы сделали некую вещь, которую вы... вы вроде бы надеялись, что вам не придется говорить эту вещь, но вы чувствовали, что придется это сделать.
ЭММА У-гу.
ДЖИН И вы сказали, что эту вещь вы должны были сказать спокойно и с силой...
ЭММА У-гу.
(В этих нескольких вопросах я определил уникальный эпизод, который вполне явно был предпочтительным для Эммы, и напомнил о некоторых событиях, которые были уже описаны на ландшафте действия.)
ДЖИН Хорошо, как это характеризует вас? Что за личность говорит вам, что вы есть на самом деле, что вы были способны совершить это сейчас?
(Теперь я осведомляюсь о ландшафте сознания, и Эмма вовлекается в весьма существенный ответ.)
ЭММА Г-м... хорошо... (шепотом, обращаясь к себе) что я за человек? (снова обращаясь к Джину) Хорошо, это заставило меня понять, что я получила преимущество, и это разозлило меня. Но я не знаю. Я полагаю, все возвращается к тому, что я сказала раньше, что я гораздо сильнее, чем думала.
Моя самоценность гораздо выше, чем я думала. Гораздо выше. Я нахожу, что я вполне хороший человек. Я начинаю терять эту неуверенность и это само... само... я не знаю. Здесь годится слово “унижение”?
Я не столько унижала себя вербально — я никогда не думала про себя вслух: “Ты глупая! Ты плохая!” — у меня просто было это чувство. Я была “адекватной” и не такой уж хорошей. За последний год Рэй укрепил во мне это чувство, я начала понимать, что я соответствую, или что меня можно использовать, или что через меня можно перешагнуть, и он отшвырнул меня. И вот одна вещь, которую я сказала ему в пятницу, когда мы вели эту горячую дискуссию.
Я сказала ему: “Рэй, я всегда была для тебя пристяжным ремнем. Я всегда была в твоем распоряжении. Ты мог обращаться со мной, как тебе заблагорассудится”. И я сказала: “Ты больше не будешь делать так”. И “Отвратительно, что ты поступаешь так”. И “Не знаю, понимал ли ты когда-нибудь, что ты делаешь со мной, но ты делаешь это со мной, и я этого больше не потерплю”.
Я имею в виду, я чувствую к нему отвращение, он так зажат внутри. Он сказал мне: “Мы сидели в офисе Джека (это его партнер) и никогда не обсуждали это жалование за первый месяц”.
Я сказала: “Нет, мы сидели у тебя в гостиной и обсуждали это. Ты, я и твоя жена”.
А он сказал: “Хорошо, это совсем другое дело. Реба тоже не помнит этой беседы”.
А я сказала: “Вот как? Если я позвоню и спрошу ее, может, она вспомнит? Она даже не знает, что ты должен мне эти деньги, не так ли? Она даже об этом не знает”.
И он бросает: “Нет, не знает”. Он даже с ней не был правдив.
ДЖИН Если вы подумаете о людях, которые знали вас ребенком...
ЭММА У-гу.
ДЖИН... друзьях, семье, учителях — кто из них еще в те времена были бы менее всего удивлены, увидев, что вы заняли позицию по отношению к Рэю, или увидели, как вы вели себя на этом интервью при принятии на работу?
(Здесь я прошу Эмму задуматься над прошлыми событиями, которые имеют что-то общее с настоящим уникальным эпизодом.)
ЭММА Кто бы меньше всего удивился?
ДЖИН Да. Кто бы сказал: “Я знал, что в ней это было”.
ЭММА Ну, мой дядя Патрик. Г-м...
ДЖИН Вот как?
ЭММА Да. У меня есть дядя... Теперь он оценил бы это — он единственный человек в моей жизни, который расценил бы это так: “Я знал, что в ней это было. Слава Богу”. Другие в моей жизни не удивились бы тому, что я сделала, но они бы расценили это как: “Да она просто пробивная стерва! Такой была, такой и останется”.
ДЖИН Что дядя Патрик видел в вас такого особенного?
(Эмма идентифицировала человека из прошлого, который оценил бы яркое событие в ее настоящей жизни. Я предлагаю ей исследовать смысл ее жизни с точки зрения дяди Патрика. Когда она принимает мое предложение, на нее накатываются воспоминания. Она рассказывает несколько историй о своем опыте. Эти истории богаты деталями, и она спонтанно развивает их как на ландшафте сознания, так и на ландшафте действия. Она сама вводит еще один ключевой персонаж, тетю Джоан.)
ЭММА Он — что-то вроде родственной мне души. Он, по какой-то причине, всегда был способен понять мой внутренний мир. Я не знаю, может быть, это из-за того, что он — добрый и нежный человек, у которого всегда было время выслушать меня или поговорить...
Он всего лишь на 13 лет старше меня, и я по сей день потешаюсь над ним из-за этого... Он был в семинарии. Он девять лет учился на иезуита, пока не бросил все, ушел из семинарии, женился и завел детей... Но я помню, как он приезжал домой на выходные, и мы шли в местный магазин сладостей. Ему было 20, а мне семь лет. И я как будто шла на свидание со своим дядей, которого я абсолютно боготворила. А вокруг — все эти тинейджеры. Прямо как в “Счастливых днях”, помните?
И он говорит: “Садись, кроха. Расслабь свой жирок”. А я не была толстым ребенком.
И я думала: “Он думает, что я толстая”. И до сих пор, до сих пор каждый раз, когда я вижу его, я говорю ему. Я говорю: “Помнишь те времена?”
Он говорит: “Ты когда-нибудь забудешь о них?”
И я говорю: “Нет. Я никогда, никогда не забуду”. (Эмма смеется) “И тебе я не позволю об этом забыть!”
Г-м... но он всегда разговаривал со мной. Не снисходил до меня. Он всегда говорил со мной. В нем всегда было что-то особенное, к чему я привязалась.
Кроме того, у меня была тетя Джоан, тоже такого рода, что действительно странно. Эта женщина — самая младшая сестра моего папы... Так, мой дядя Патрик — младший брат моей мамы, а моя тетя Джоан — младшая сестра моего отца. С тех пор, как я снова встретила ее 15 лет назад, она олицетворяла силу в моей жизни. Когда я говорю “снова встретила”, я имею в виду, что она и ее семья жили неподалеку от нас, на Саут-сайд, а потом мой дядя был призван — он был военным — на пару лет в Лондон, а когда они вернулись, они прожили в Чикаго примерно с месяц, с год или около того. А потом они перебрались на Западное побережье. А потом мы не виделись с ними 10 лет, 15 лет.
А потом в нашей семье произошла трагедия. Один из моих кузенов был застрелен насмерть, и она приехала на похороны. И случилось так, что она остановилась в моем доме, а не в доме у мамы или папы. В те времена у меня там была квартира с двумя спальнями. Мы вместе с ней сидели — буквально сидели всю ночь напролет — и разговаривали.
И где-то перед рассветом я взглянула на нее и сказала: “Я только что разговаривала со своим отцом в юбке. Если бы не трезвость — вылитый отец”. Потому что он был алкоголиком.
И она просто начала смеяться. А ведь мои родители только что потеряли свой дом, не сумев выкупить его по задолженности. И вся ответственность за ее смех лежала на мне.
Она всегда звонила мне раз в неделю. Просто чтобы знать, как у меня дела. У меня больше никого не было. И по сей день мы разговариваем с ней по крайней мере раз в месяц. И когда они приезжают в город, они останавливаются у меня. Это просто подарок.
Я разговаривала с ней пару недель назад и рассказала о той мерзкой стычке с Рэем, и насколько омерзительно она проходила.
А она говорила: “Уходи оттуда. Немедленно уходи оттуда. Найди другую работу”.
Итак, в воскресенье я вернулась из церкви. Воскресным утром я, как правило, читаю газету. Я включаю стерео. Знаете, я просто немного отдыхаю. Я подумала про себя: “Знаешь, тебе хоть раз следует позвонить тете Джоан и сообщить ей хорошие новости. Я не намерена ждать, пока она мне позвонит сама. Я собираюсь ей позвонить”. Я буквально лишь успела подняться с кресла и пошла за телефонной книгой. Мой телефон зазвонил. Это была она. И я вскрикнула.
Я сказала: “Не могу в это поверить”.
А она говорила: ”Что? Я тебя оторвала от чего-то? Что? Что?”
А я сказала: “Тетя Джоан, я только что подходила к телефону, чтобы позвонить тебе. Буквально только что подходила к телефону”.
И она начинает хихикать. Она говорит: “Я думала о тебе все утро”.
Я сказала: “Все утро? Если здесь 9 часов, то у вас может быть только 7”. (Знаете, потому что они живут в Вегасе.)
А она сказала: “Я проснулась действительно рано,” и добавила: “Что-то хорошее?”
И я сказала: “Ну, может быть”.
Она говорит: “У тебя на лице улыбка?”
Я сказала: “О, да. Она примерно так же широка, как Миссисипи. Я думаю, я получила работу!”
Она говорит: “Здорово”.
Понимаете? Но это было так странно. Это было так странно... да.
У нас было много времени... Они приехали и оставались со мной сразу после того, как ушла из жизни моя мать. Мой дядя был в другой комнате. Он — алкоголик, и он просто выпивал. А я рассказывала ей о том, что моя мама и мой папа всегда заставляли меня думать или прямо говорили, что я адекватная. “Но это было замечательно, потому что на большее ты не была способна. Но ты хороша не в том смысле, что “так себе”.
И я помню, что в ее глазах я видела огонь. Она была в такой ярости. И это было впервые...
ДЖИН Кстати, когда это было?
ЭММА Это было четыре года назад.
ДЖИН У-гу.
ЭММА В этом мае исполнится четыре года со дня смерти моей матери. И это было впервые, когда я живо помню, как думала про себя: “Ба, может, это не так. Может, эти чувства неискренни. Может быть, я достаточно хороша в том, что я делаю”.
ДЖИН А теперь, что это было за взаимодействие, которое позволило вам думать так?
ЭММА Это объяснялось ее мгновенной реакцией на заявление, которое я сделала. Знаете, они заставляли меня чувствовать, как будто... они говорили мне, что я не более чем адекватна. Вам известно, как по выражению лиц людей можно догадаться, что они шокированы? Это была последняя вещь, которую они ожидали услышать?
ДЖИН О, да.
ЭММА Когда я увидела ее первоначальную реакцию... Конечно, за ее первой реакцией последовали ее типичные рулады и “Нет. Нет. Ты замечательная. Ты много сделала для своей семьи”. И...
ДЖИН Но это была более реакция, нежели слова?
ЭММА Реакция больше проняла меня
ДЖИН Да.
ЭММА Реакции людей доходят до меня быстрее, чем слова... Это так, потому что слова ничто не значат. По большей части.
ДЖИН А теперь... итак, она знала нечто о вас в течение долгого, долгого времени...
ЭММА У-гу.
ДЖИН ... что адекватность это совсем не то. Это просто заставляло вскипать ее кровь.
ЭММА Да. Действительно! Мгновенно.
ДЖИН Итак, как вы думаете, что бы вы увидели, если бы могли взглянуть на себя в детском возрасте глазами тети Джоан, и увидеть этого ребенка, как его видела тетя Джоан? Что по-вашему она увидела тогда, давно? Как вам кажется, что бы вы увидели?
ЭММА Знаете, в мои отроческие годы ее не было рядом со мной. Она жила на Западном побережье.
ДЖИН Но если мы вернемся к временам, когда она...
ЭММА До этого?
ДЖИН Да... как вы думаете, что она увидела такого, что никто, кроме, может быть дяди Патрика, увидеть не смог?
ЭММА Я не знаю. Я думаю, что...
ДЖИН Итак, какова же будет ваша догадка? Используйте свое воображение наилучшим образом, как бы вползая в ее тело...
ЭММА Вот ребенок, который преодолел то, что для некоторых людей стали бы непреодолимыми разногласиями. Я так думаю.
ДЖИН Итак, если бы я смогла вернуться прошлое и провести с ней интервью, тогда в прошлом, я бы сказала: “Какие непреодолимые разногласия? О чем вы говорите? Что это такое, что она преодолевает?” Как вы думаете, чтобы она сказала?
ЭММА “Забота о семье в действительно суровые времена. Сплочение их вместе”. Потому что именно это я делала. Я действительно делала это. В очень юном возрасте. Я действительно это делала. Она бы увидела девочку, у которой огромный потенциал, но которая не способна развиваться, потому что ей не дают такой возможности.
ДЖИН А если бы я сказала ей, тогда в прошлом, если бы мне это как-то удалось: “Вы говорите, потенциал. Потенциал для чего? Потенциал какого рода вы видите в этой девочке?”
ЭММА Г-м... Ответ тети Джоан был бы таким: “Ей следует получить лучшее образование, чтобы она могла стать тем, кем хочет. Пусть это будет доктор или адвокат или художник, что угодно”.
ДЖИН Итак, она видела кого-то, кто наделен множеством...
ЭММА Да... да.
ДЖИН множеством достоинств.
ЭММА Да. Все дети тети Джоан действительно образованные люди, кроме ее старшего сына. Они все пошли... знаете, у ее старшей дочери степень доктора физики. У нее есть другая дочь, которая танцовщица. И еще у нее есть сын, который... У нее есть дочь, социальный работник, и сын, который очень удачливый бизнесмен. Потом у нее есть еще двое, которые немного бестолковые, но знаете, из семи детей у нее получилось достаточно много замечательных личностей.
Позже она мне всегда говорила... В ту неделю, когда они остались со мной после смерти матери, мы с ней очень много говорили. И она сказала: “Во мне всегда вызывало гнев, что вам, детям, не были даны те возможности, которые надлежало вам дать”.
ДЖИН Что изменилось для вас, когда вы услышали это от нее?
ЭММА Тогда это вызвало во мне чувства печали и настоящей заброшенности, вроде “Черт, меня надули. меня надули”.
Сейчас я чувствую, что пора перестать обвинять других людей и просто двигаться дальше, что пора перестать задерживаться на прошлом. Что, как я думаю, я делала не столь сознательно, сколь бессознательно. Мне нужно выбросить из себя кучу лет мусора. Понимаете?
ДЖИН Да.
ЭММА После того, как моя мама скончалась, когда пришел день рождения папы, я не могла сдержать рыдания. Тогда это заставило меня пойти к терапевту. Он очень любезно сказал мне: “О, вы скучаете по своей маме и своем папе, не так ли?”
А я огляделась и сказала: “Нет. Извините, но это не так. Для меня они не были приятными людьми”.
Они не были приятными людьми. Я имею в виду, если бы вы встретились и присели с ними, вы получили бы удовольствие от их компании. Он не были приятными людьми для меня. Я не думаю. Итак, нет.
Я была в трауре. Я не знаю, что я оплакивала, но это не был их уход. Это, возможно, было оплакивание их жизни, но не их ухода. Я думаю, это то, что я оплакивала все эти годы. Все эти прошедшие четыре года.
А теперь это примерно так: “О’кей, ты сделала лучшее из того, что могла сделать”. Знаете, они танцевали так быстро, как только могли, и благослови их Бог. И поэтому вы просто...
ДЖИН И теперь вы находитесь в таком положении, где вы можете осмыслить часть того потенциала, который увидела в вас тетя Джоан?
ЭММА Да. Это то, как я вижу эту работу...
ДЖИН Да. Итак, если вы присядете здесь на мгновение и обдумаете все, что вы сказали здесь сегодня...
ЭММА У-гу?
ДЖИН Что выделяется в вас? Какие фрагменты этого... Если вы попытаетесь увидеть себя как кого-то, кто сидит здесь, в стороне (указывая на участок в углу комнаты) слушая Эмму, которая находится где-то там, (указывает в сторону Эммы), что выделяется, выступает на первый план?
ЭММА Что выделяется... ну, я думаю, что я была гораздо лучшим человеком. Гораздо лучшим, чем я осознавала. В более юном возрасте... Но я ведь просто начинаю осознавать это сейчас, так я думаю.
ДЖИН В чем состоит разница между... не просто осознавать, что сейчас вы хороший человек, но осознавать, что вы всегда были хорошим человеком? Что вы были гораздо более лучшим человеком, чем вы понимали это в более юные годы? В чем состоит отличие, когда вы приходите к этому пониманию сейчас?
(Здесь я предлагаю Эмме соединить смысл прошлых переживаний, которые она описывала с контекстом настоящей жизни. Она делает больше, чем я предлагаю, распространяя прошлый и настоящий смысл на будущее.)
ЭММА Мои чувства уже не могут быть оскорблены с такой же легкостью, как раньше. Поэтому я буду намного сильнее. Я буду чувствовать себя гораздо сильнее внутренне, так что люди уже не будут перешагивать через меня. Это было почти как порочный круг. Понимаете? Мои чувства оскорблены, потому что кто-то перешагивает через меня, потому что я позволяю ему оскорблять свои чувства. И похоже, я внезапно ощущаю, что этот круг как бы размыкается. Понимаете?
ДЖИН Да. Потому что возможность для...
ЭММА Расширения.
ДЖИН Да, кто знает, что...
ЭММА Да, я знаю. Я знаю. Я помню, на прошлой недели мы сказали что-то о... я сказала: “Господи, знаете, если бы только все это не случилось со мной в детстве, кем бы я могла стать?”
И я помню, вы сказали: “Что? Теперь уже слишком поздно?”
И тогда я подумала: “Увы, да”. Но теперь я думаю: “Нет. Это не так. Кто знает, кем я стану?” Я имею в виду, кто знает? Кто знает?
5 ВОПРОСЫ
Каждый раз, когда мы задаем вопрос, мы порождаем возможную версию жизни.
— Дэвид Эпстон в Cowley and Springen, стр. 74
Есть такие вопросы, которые задерживаются в умах клиентов на недели, месяца и порой годы, и продолжают оказывать влияние.
— Карл Томм, 1988, стр. 14
Мы все начинаем задавать вопросы практически с тех пор, как начинаем говорить. Тем не менее, в качестве нарративных терапевтов, мы обдумываем вопросы, сочиняем их и используем иначе, чем раньше. Самое большое различие состоит в том, что мы задаем вопросы, чтобы порождать опыт, а не собирать информацию. Когда они порождают смысл предпочтительных реальностей, сами вопросы могут иметь терапевтический характер по сути и содержанию. Тогда как многие люди (напр., Campbell, Draper, & Huffington, 1988; de Shazer, 1994; Fleuridas, Nelson, & Rosenthal, 1986; Freedman & Combs, 1993; Lipchik & de Shazer, 1986; O’Hanlon & Weiner-Davis, 1989; Penn, 1985; Tomm, 1987a, 1987b, 1988; White, 1988a) писали об этой идее, она, вероятно, впервые была высказана миланской командой (Selvini Palazzoli, 1980), когда они размышляли над тем, может ли изменение произойти исключительно через процесс интервьюирования, без всякого вмешательства.
Впервые мы начали задумываться над тем, как вопросы могут породить смысл несколько лет тому назад, когда мы, главным образом, использовали идеи из стратегической терапии. *[Мы уже описывали этот опыт в другой работе (Freedman & Combs, 1993). Поскольку он стал точкой поворота в наших собственных историях о себе как терапевтах, мы снова описываем его здесь.] В то время мы работали с семьей, которая пришла на терапию, поскольку их дочь, 12-летняя Кэти, не желала ходить в школу. Ей не нравилось, что некоторые из ее одноклассниц из школы для девочек, которую она посещала, проявляли интерес к мальчикам, алкоголю и наркотикам. У нее была идея, что, если она начнет думать о ком-то из этих конкретных одноклассниц в процессе какой-либо деятельности, она каким-то образом полюбит их. Этот страх привел к некоторым проблемным формам поведения. Например, если мысль об одной из ее одноклассниц приходила ей на ум, пока она надевала ботинок, она снимала его и надевала его снова. Она повторяла этот процесс до тех пор, пока не убеждалась в том, что ни одна мысль о ее одноклассницах не крутится у нее в голове. Точно так же она подходила к открыванию и закрыванию дверей, включению и выключению света и к другим, постоянно растущим в числе видам деятельности. Поскольку ее одноклассницы окружали ее, когда она была в классной комнате, Кэти приходилось бороться не только со своими мыслями, но так же и с реальной возможностью услышать их голоса или увидеть одну из них в тот момент, когда она открывала свою парту или надевала спортивные туфли. Из-за этого, она находила невыносимым находиться в классной комнате и отказывалась ходить в школу.
К тому времени, как мы пять раз встречались с Кэти и ее семьей, ситуация не изменилась. Когда они сообщили нам, что двое старших детей возвращаются домой из школы на зимние каникулы, мы договорились о том, что к нам придет семья в полном составе. Во время первой части встречи мы разделили группу: один из нас (Дж. Ф) общался с детьми, а другой (Дж. К) — с родителями.
В ходе беседы с детьми я (Дж. Ф) узнала, что оба родителя были заядлыми курильщиками, и что все дети, в особенности Кэти, были весьма обеспокоены влиянием курения на здоровье родителей. Кэти ужасало то, что они могут умереть.
Казалось, что Кэти принимала более активное участие в дискуссии о курении ее родителей, чем это бывало в любой другой момент терапии, поэтому я захотела использовать этот интерес по мере возможности. Я спросила: “Кто будет подвергаться большей опасности — твои родители, если они будут продолжать курить, или ты, если пойдешь в школу?”
Когда она ответила: “Мама и папа”, я стала прикидывать, решилась бы Кэти пойти на сделку — пойти в школу в ответ на то, что ее родители бросят курить.
Чтобы проверить свою идею, я продолжала интересоваться: “А не тот ли ты тип человека, который рискнет ради благополучия кого-то, о ком ты заботишься?”
Она сказала, что она именно такой человек, и ее брат и сестра согласились с этим, припоминая случай, когда она вызволила соседского младенца из запертой ванной через маленькое окошко на втором этаже.
“Если тебе придется совершить нечто, что кажется опасным, поможет ли тебе то, что это реально принесет пользу тому, кто важен для тебя?” Она сказала, что конечно.
Я спросила: “Каким образом это поможет?”, и она ответила, что польза для другого поставит вещи на свои места. У нее будет побудительный мотив встретиться с опасностью.
Я спросила: “Ты могла бы пойти в школу, если бы знала, что это может спасти жизнь твоим родителям?”
Она без колебаний ответила: “Да”.
Я спросила: “Что бы ты сделала, если бы взглянула на кого-то и подумала, что ты можешь стать такой, как они?”
Она ответила: “Просто сконцентрировалась бы на работе и на том, что я там”.
Я спросила: “Даже если это действительно трудно, но ты соглашаешься сделать что-то, ты — человек слова?”
Она сказала, что такая она и есть.
Во время перерыва мы (Дж. К и Дж. Ф) посовещались и согласились с тем, что, поскольку родители неоднократно решались на все, лишь бы вернуть Кэти в школу, они, безусловно, согласятся бросить курить. Когда мы собрались все вместе, мы заявили, что каждому известно, как важно, по мнению родителей, чтобы Кэти пошла в школу. Они уже затратили кучу времени и энергии на это, сначала пытаясь справиться с ситуацией самостоятельно, потом встречаясь с представителями школы, и наконец прийдя к терапии. Мы сказали, что только что обнаружили, как важно для Кэти, чтобы ее родители бросили курить, и она готова отдать свое время и энергию, чтобы это произошло. Затем мы предложили сделку, спросив Кэти, пошла бы она в школу, если бы ее родители бросили курить. Вся светясь, она сказала, что пошла бы. Мы спросили родителей, бросят ли они курить, если Кэти пойдет в школу. Они тоже согласились.
Когда мы встретились снова через две недели, мы были шокированы, узнав, что произошло. Оба родителя все еще курили, а Кэти ежедневно ходила в школу со дня нашей последней встречи! С этого момента и далее, Кэти продолжала ходить в школу, а родители продолжали курить. Хотя она все еще хотела, чтобы они бросили курить, Кэти даже ни разу не угрожала перестать посещать школу. Навязчивое поведение, похоже просто пропало. Все это казалось нам весьма загадочным.
Лишь примерно шесть месяцев спустя мы обнаружили способ обдумывания того, что произошло, который имел для нас смысл. Мы начали размышлять над тем, не пережила ли Кэти ходе ментального поиска, отвечая на мои (Дж. Ф) вопросы, другой вид бытия. То есть, когда я спросила: “Что бы ты сделала, если бы взглянула на кого-то и подумала, что ты можешь стать такой, как они?”, могла ли Кэти живо вообразить себя в контексте школы, концентрирующейся на работе, не страшась, что верх возьмут переживания. Ее ответ, “Просто сконцентрировалась бы на работе и на том, что я там” подразумевал именно такой опыт. Она, должно быть, ощущала себя тем, кто может рискнуть и справиться с опасными ситуациями, сконцентрировавшись на текущей задаче, вместо того, чтобы позволить страху терроризировать ее. Отвечая на вопросы, она, должно быть, вошла в реальность, отличную от той, в которой она обычно пребывала. Она, очевидно, ощущала себя тем, кто мог бы пойти в школу. Так она и сделала.
Нам было интересно знать, что бы случилось, если бы мы не были столь уверены в готовности родителей сделать что угодно, чтобы вернуть Кэти в школу. Если бы мы задали им вопросы, подобные тем, что задавали Кэти, могли бы они вернуться в то ощущение себя, в котором они уже не были бы курильщиками?
Этот случай стал точкой поворота в нашем способе мышления и в практической терапии. Наша эриксоновская парадигма убедила нас в важности ассоциативных поисков, эмпирического научения и альтернативных реальностей (Dolan, 1985; Erickson & Rossi, 1979, 1981; Erickson, Rossi, & Rossi, 1976; Gilligan, 1987; Rossi, 1980a, 1980b; Zeig, 1980, 1985). Тем не менее мы думали, что проживаемый опыт хранится “внутри” людей. *[Помните наши беседы о “ресурсах” с Дэвидом Эпстоном и Майклом Уайтом в Главе 1?] Мы знали, что, задавая вопросы, мы могли помочь людям получить доступ к “богатому ресурсами” опыту и пере-жить его. Например, мы могли спросить кого-то: “В какое время вашей жизни вы чувствовали себя наиболее спокойно?” в надежде, что он придет к реальному опыту спокойствия (или характерному примеру такого опыта) и пере-живет его и будет ощущать спокойствие в настоящем.
Тот опыт, который мы получили при работе с Кэти не соответствовал такому мышлению. Как бы то ни было, из предыдущих бесед было ясно, что Кэти не думала о себе как о человеке, склонном к риску. Пример со спасением соседского ребенка из ванной, рассказанный ее братом и сестрой, мог на самом деле означать для нее, что она послушна (если кто-то предложил ей сделать это), или мала ростом и проворна (поскольку она смогла пролезть в окошко), или, возможно, что она была заботлива. Но лишь в связи с моим вопросом, прошлое событие начало принимать очертания рискованного поступка. Понятие “рисковать” не хранилось внутри Кэти. Она учредила себя, возможно впервые, в качестве рискованного человека, когда она вошла в новую реальность, которую породил мой вопрос.
Вплоть до этого времени, мы представляли себе опыт просто как нечто, что произошло, и мы полагали, что все эти опыты, происходя, накапливались в памяти, через которую к ним можно было получить доступ. Сейчас мы думаем, что опыт окрашивается и формируется тем смыслом, который они ему придают, и что к нему обращаются или нет, в зависимости от его соответствия тем историям, которыми живут люди. Следовательно, когда мы задаем вопросы, вместо того, чтобы быть уверенными в том, что люди могут извлечь опыт с определенным предопределенным смыслом, мы в высшей мере осознаем, как наши вопросы работают в соавторстве с опытом (Anderson & Goolishian, 1990b; Penn, 1982; Tomm, 1988). Они придают движение тому опыту, который они вызывают; они предлагают начала и завершения для опытов; они выдвигают на первый план одни фрагменты опыта, в то же время затемняя или исключая другие.
Наши вопросы не ищут доступа к опыту. Они порождают его (Campbell, Draper, & Huffington, 1988; Freedman & Combs, 1993; Penn & Sheinberg, 1991). Мы вспоминаем об этом каждый раз, когда за одним из наших вопросов следует долгая пауза, после которой человек говорит: “Я никогда не задумывался об этом раньше...” или “Я не знал об этом, пока вы не задали этот вопрос”. Мы думаем, что это не значит, что человек не знал об этом; мы думаем, что это не происходило до тех пор, пока вопрос и человек не сошлись вместе, устроив все таким образом.
Ценности терапевта формируют те вопросы, которые он задает. Так же, как и его истории о людях и терапии. Понимая это, нам представляется интересным снова взглянуть на нашу работу с Кэти. В те времена мы особо не уделяли внимания опыту Кэти пребывания с девочками, которые интересовались мальчиками, алкоголем и наркотиками. Теперь мы были бы весьма заинтересованы в том, чтобы выяснить влияние этого опыта на нее. Мы бы заинтересовались тем, создавали ли социальные затруднения и ожидания атмосферу, которая была невыносима для нее и угрожала ее ощущению себя как человека. Если бы мы задавали вопросы в этом направлении, было бы интересно выяснить, могло ли отличалось ли то, как семья Кэти представляла ее и ее проблему, от того, как она думала о себе. Теперь мы убеждены в том, что в сущности мы вступили в заговор с социальными затруднениями, чтобы заставить ее посещать школу, не признавая, что она находила социальные затруднения там невыносимыми. Если бы мы могли перенестись назад во времени, мы заинтересовались бы тем, могли бы заручиться поддержкой семьи в борьбе против социальных затруднений. Избегая школы, Кэти нашла способ не позволять социальным затруднениям довлеть над ней. Интересно, могли бы мы принести ей больше пользы, если бы мы задавали вопросы о том, как это удалось бы ей осуществить (или о способах, с помощью которого она могла бы достигнуть этого), пребывая в школе. *[Часть того, что мы пытаемся выразить в этой критике нашей работы, заключается в том, что мы — часть территории, где доминирует принцип “знание — сила”. Мы не можем полностью находиться вне доминирующих практик, но мы можем взять на себя ответственность за работу, позволяющую видеть сквозь доминирующие культурные истории. Это требует того, чтобы мы деконструировали свои практики и поместить свои идеи в сферу опыта.]
В этой работе мы надеемся поставить знание людей, с которыми мы работаем, в привилегированное положение по отношению к нашему. По этой причине, нам представляется важным осознание того, что наши вопросы оказывают влияние на то направление, которое принимает беседа. Один из способов, с помощью которого мы пытаемся уравновесить влияние наших вопросов, состоит в том, что мы периодически задаем вопросы, которые побуждают людей оценить процесс. Например, мы спрашиваем: “Это именно то, о чем бы вам хотелось поговорить?” и “Эта беседа помогает вам? Как она помогает вам?” Мы модифицируем вопросы, согласуясь с ответами. Кроме того, мы задаем вопросы о наших вопросах, к примеру: “Были ли определенные вопросы, которые показались более полезными, и другие, которые вы не находите полезными? Почему?” И опять, мы уделяем внимание ответам.
И хотя мы признаем влияние вопросов на определение сферы “подходящих” ответов, мы полагаем, что взаимодействие главным образом через вопросы помогает нам сохранять привилегии знания людей, с которыми мы работаем. Как пишет Карл Томм (1988, стр. 2):
В общем случае, заявления объясняют темы, позиции или взгляды, тогда как вопросы вызывают темы, позиции или взгляды. Другими словами, вопросы склонны взывать к ответам, а заявления склонны обеспечивать их.
В другом месте Карл Томм (1987а, стр. 4-5) напоминает нам, что, хотя, задавая вопрос, мы можем держать в уме определенную идею, человек, который отвечает на него, определяет, какое направление она примет. Он пишет:
... действительный эффект любого конкретного вмешательства в отношении клиента всегда определяется клиентом, а не терапевтом. Намерения и последующие действия терапевта лишь приводят в действие реакцию; они никогда не определяют ее.
Как мы описывали в Главе 3, в своей работе мы стремимся придерживаться того, что Гарри Гулишиан и Харлен Андерсон называют позицией “не-знания”. Мы пытаемся не задавать вопросы, на которые, как нам кажется, у нас есть “те самые” ответы, или такие, на которые мы хотим получить определенные ответы. То есть, мы не задаем вопросы с позиции пред-понимания (Andersen, 1991a; Weingarten, 1992).
Хотя мы ценим позицию любознательности и незнания, у нас действительно есть намерения или цели. Мы думаем, что все терапевты следуют некоему типу намеренности (интенциональности), даже если их цель имеет весьма общий характер, к примеру, “открытие пространства”. Наши намерения более специфичны. Мы надеемся вовлечь людей в деконструкцию проблемных историй, определение предпочтительных направлений и развитие альтернативных историй, которые поддерживают эти предпочтительные направления. Нарративная метафора формирует нашу любознательность, но не подавляет ее.
Хотя мы посвятили эту главу примерам “типов” вопросов и их структуре, мы можем найти несколько причин, чтобы не приводить эти примеры и эту структуру. Во-первых, вопросы будут отчуждены от контекста. Каждый вопрос, который мы задаем в ходе терапии, вытекает из того, что только было сказано в беседе. Когда, как здесь, мы фокусируемся на определенных типах вопросов, а не на живой беседе, мы склонны забывать, что любой вопрос может принести пользу лишь в определенных контекстах. Взглянув на любую из стенограмм в этой книге, вы можете заметить, что мы не задаем в точности те вопросы, которые здесь приводятся в качестве примеров. Наши вопросы откликаются на минимальные, момент за моментом, сдвиги в беседе, и мы не следуем идеализированным структурам, которые здесь предлагаем.
Во-вторых, примеры иллюстрируют лишь слова, но не тон голоса, не жест или взаимоотношения. Реакции людей гораздо богаче, чем просто слова. Как предполагают Карл Томм (1988) и Мелисса Гриффит (1992а, 1994), огромную роль играет эмоциональное состояние, из которого задаются вопросы. Мы стремимся задавать вопросы с позиций уважения, любознательности и открытости, но мы сомневаемся, что эти позиции могут быть адекватно представлены письменным словом. Мы надеемся, что читая здесь эти примеры, вы подберете нужный тон.
В-третьих, мы знаем, что некоторые люди следуют примерам, как если бы последние руководством к действию. Наши примеры, определенно, для этого не предназначены, и мы искренне надеемся, что они не ограничат ваше творчество.
Вопреки всем нашим сомнениям, мы предлагаем следующие примеры. Смещение от сбора информации к порождению опыта требует неимоверных усилий, и не каждой заинтересованной личности легко его осуществить. Что касается нашего собственного обучения, мы нашли чрезвычайно полезным изучение вопросов, порождающих смысл, которые были разработаны другими людьми. *[Наши копии (с загнутыми уголками страниц) следующих статей, в каждой из которых предлагаются категории и примеры вопросов, были чрезвычайно полезны в процессе нашего собственного обучения: White, 1988a, 1988b (обе эти статьи содержатся в White, 1989); Tomm, 1987a, 1987b, 1988. Кроме того неоценимую помощь могут оказать стенограммы, которые появляются во многих статьях Дэвида Эпстона — см. Epston, 1989a; Epston & White, 1992.] Таким образом, мы останавливаем время и фокусируемся на единственном из всех вопросов по очереди.
Использование нарратива в качестве ведущей метафоры — это еще одно серьезное концептуальное и практическое смещение, требующее вопросов особого рода. Координация как любопытства, так и нарративной метафоры, дополненная одновременным учетом взаимоотношений, поначалу представляется неким жонглированием. Хотя на практике все они работают вместе, очень полезно рассматривать эти компоненты по отдельности.
Главная причина, по которой мы предлагаем эти примеры, заключается в том, что люди из наших обучающих программ говорят нам, что полезно иметь перед собой примеры, к которым они могут добавить свои собственные, а наличие категорий помогает им организовать свои мысли. Другими словами, для многих людей примеры и категории служат дополнением к практике и обучению.
Мы решили, что полезно разделить вопросы, которые мы используем в этом процессе, на пять главных категорий: деконструктивные вопросы, открывающие пространство вопросы, предпочтительные вопросы, развивающие историю вопросы и смысловые вопросы. Границы этих категорий размыты. К примеру, определенный вопрос может как открывать пространство, так и вести к конструированию нового смысла. Кроме того, терапевт может нацелить вопрос на побуждение кого-то к выражению своего предпочтения, а человек, тем не менее, может отреагировать ответом, который начинает развивать альтернативную историю. Приводимые нами категории относятся к намерениям терапевта при постановке вопроса. Они предназначены для того, чтобы помочь терапевту ясно осмысливать процесс нарративной терапии. Тогда как порядок, в котором мы приводим эти примеры действительно следует определенной линейной логике, мы не следуем строгому порядку, когда задаем вопросы в ходе реальных бесед. В конце этой главы мы предложим некоторые мысли, касающиеся того, что и когда спрашивать.
ДЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
Деконструктивные вопросы помогают людям распаковать свои истории или увидеть их под другим углом зрения так, чтобы стало очевидно то, как они сконструированы. Многие из деконструктивных вопросов побуждают людей помещать свои нарративы в более обширные системы и развивать их во времени. Порождая историю, контекст и влияние нарративов людей, мы расширяем их кругозор, изображая полный ландшафт, который поддерживает проблемы. В рамках этих расширенных ландшафтов может появиться больше (и больше разнообразных) “ярких событий”.
Выявление проблемных убеждений, практик, чувств и установок
Почти весь деконструктивный опрос, который мы проводим, происходит в рамках экстернализующей беседы. Хотя наше намерение состоит в том, чтобы деконструировать проблемные нарративы, ни один из конкретных вопросов не относится к нарративу в целом. Вместо этого, каждый вопрос обращен к чему-то, что является частью проблемно-насыщенной истории или поддерживает проблемный нарратив. В общем случае, слушая проблемные нарративы, мы слышим об убеждениях, практиках, чувствах и установках, и именно к ним обращен конкретный деконструктивный вопрос. Если в ходе изложения человеком своей истории мы ничего не узнаем об убеждениях, практиках, чувствах и установках, мы можем задать вопросы, которые помогут утвердить или выявить их. Такие вопросы могут включать:
* К каким заключениям о ваших взаимоотношениях вы пришли в результате этой проблемы?
* К каким обнаруженным вами формам поведения вы стали прибегать в связи с ситуацией, которую вы описали?
* Пробуждает ли ситуация, которую вы описали, особые чувства в вашей жизни?
* Как вы думаете, какие установки могли бы оправдать/объяснить те формы поведения, которые вы описали? *[Глядя на некоторые из этих вопросов в черно-белом изображении, мы видим, что они могут звучать так, как если бы мы были вовлечены в серьезное противостояние. Это не так. Наше использование экстернализующего языка делает возможным наше взаимное (с людьми, с которыми мы работаем) разгадывание ответов на эти вопросы.]
* Что стоит на пути развития тех типов взаимоотношений, которые вы хотели бы иметь?
Поскольку все эти вопросы помогают людям различить те особые убеждения, практики, чувства и установки, мы спрашиваем о:
1. истории взаимоотношения человека с этим убеждением, практикой, чувством или установкой,
2. контекстуальных влияниях на это убеждение, практику, чувство или установку,
3. последствиях или результатах этого убеждения, практики, чувства или установки,
4. взаимосвязи с другими убеждениями, практиками, чувствами или установками и
5. тактиках или стратегиях этого убеждения, практики, чувства или установки.
Мы задаем все эти вопросы в контексте экстернализующей беседы. Заметили ли вы, что каждый из типов этих вопросов предполагает, что убеждение, практика, чувство или установка изолированы от человека, и служит тому, что, следовательно, развивает экстернализацию дальше? Как вам известно, мы обычно используем экстернализирующий язык каждый раз, когда мы намереваемся деконструировать проблемно-насыщенные нарративы. Это настолько важная часть деконструкции, что мы часто формулируем вопросы с единственной целью завязать экстернализующую беседу. Большинство вопросов, которые мы выстраиваем с “чисто” экстернализующим намерением, ненамеренно затрагивают также по крайней мере одну из других областей, которые мы определили. И наоборот, все вопросы из других областей служат цели экстернализации, совпадает ли это с сознательными намерениями терапевта или нет.
Вышеописанные пять категорий деконструктивных вопросов — не единственные типы вопросов, которые можно использовать для деконструкции нарративов. Они, скорее, представляют те типы вопросов, которые мы часто используем в своей работе. Побуждая к деконструкции нарратива, мы задаем многочисленные вопросы подобного рода, и отнюдь не единственный. Вопрос об одном убеждении, чувстве, практике или установке приводит к другому убеждению, чувству, практике или установке. Поэтому далее мы спрашиваем об этом другом опыте, как иллюстрирует этот краткий отрывок из терапевтической беседы.
Я (Дж. Ф) работала с Луиз, которая перешла на новую работу и готовилась к переменам. “Некоторые коллеги подходили ко мне и говорили, что мне не следует говорить людям на моей новой работе, что я наполовину афро-американка”, — сказала она мне.
“Что вы думаете об этой идее?” — спросила я.
“Я думаю, они правы, — заявила она. — Это не пойдет мне на пользу. Люди будут считать меня черной и будут иметь предубеждения против меня, а, поскольку я не похожа на черную, черные никоим образом не примут меня за свою”.
“Здесь я нахожусь в невыгодном положении... Мне неведомо, что представляет собой ваш опыт. Могу я задать вам еще несколько вопросов об этом?”
“Конечно”.
“Хорошо, как вы думаете, какими убеждениями или установками должен руководствоваться человек, чтобы предполагать, что людям не следует знать, что вы полукровка?”
“Люди, которые говорили мне это были черными, и я согласна с ними. Черные люди более неотесанны и грубы”.
“Я сама этого не замечала, но могу я спросить вас о другой стороне этого дела? Как вы думаете, какое влияние на вашу жизнь окажет сокрытие вашего происхождения?”
“Я не стыжусь того, кто я есть. Я имею в виду, я не была обязана говорить об этом людям на моей последней работе”.
“Да, но я отнюдь не собираюсь говорить, что вам следует делать. На самом деле, я не знаю. Мне просто интересно, если вы будете держать это в секрете, какое влияние это окажет на вас?”
“Возможно, это будет удерживать меня на расстоянии от людей. Может быть, ухудшит мое ощущение, что я — черная. Мне всегда нравилось быть черной”.
Держа в уме, что мы используем несколько этих вопросов вместе, как это начинает проявляться в отрывке, давайте рассмотрим каждую из наших пяти категорий деконструктивных вопросов в отдельности.
История взаимоотношений. Помимо расширения ландшафта, внутри которого существует проблема, постановка вопросов о истории взаимоотношений человека с убеждением, практикой, чувством или установкой может выявить роль доминирующих культурных практик или знаний в поддержке проблемы. Как замечает Линн Хоффман (1992, стр. 14), когда пишет о Фуко:
Как только люди соглашаются с данным дискурсом — религиозным дискурсом, психологическим дискурсом или дискурсом, касающимся пола — они начинают поддерживать определенные дефиниции/определения, касающиеся того, какие личности или темы наиболее важны или легитимны. Тем не менее, сами они не всегда осознают эти встроенные определения.
“История вопросов, касающихся взаимоотношений” могут разоблачить принятые на веру или встроенные практики или знания.
* Как вы были вовлечены в этот способ мышления?
* Где вы наблюдали такие способы реагирования на проблемы?
* Какие переживания прошлого пробудили в вас эти чувства вины?
* Одиночество всегда было вашим лучшим другом?
* В какой период истории идеи подобного рода завоевали признательность? Как их использовали? Как вы узнали о них?
Контекстуальное влияние. Эти вопросы нацелены на отображение текущих контекстов, которые служат системой поддержки для проблемных историй. “Вопросы контекстуального влияния” могут также выявить роль культурных практик или знаний.
* Как вы полагаете, в каких ситуациях идеи подобного рода следует отстаивать?
* Существуют ли такие места, где вы, скорее всего, будете втянуты в пьянство?
* Кто в вашей жизни одобряет, когда гневу дают волю?
* Кто получает выгоду от того, что вещи делаются подобным образом?
Последствия или результаты. Эти вопросы расширяют сферу проблемной истории, показывая влияние проблемы на жизнь и взаимоотношения людей. Видя реальные последствия убеждения, практики, чувства или установки может помочь увидеть их в другом свете.
* Как повлияло на вашу жизнь убеждение, что вы — нехороший человек?
* Каким образом сомнение в собственных силах уговорило вас установить такие взаимоотношения с людьми на работе?
* Как этот паттерн повлиял на других членов семьи?
* Каким образом пессимизм затронул ваши взаимоотношения с самим собой?
* Если бы вам пришлось продолжить этот стиль бытия, как бы это сказалось на вашем будущем?
* Что содержится в идее опоры на собственные силы, внедряемой во взаимоотношения?
Взаимосвязь. “Вопросы взаимосвязи” могут помочь деконструировать паутину убеждений, практик, чувств и установок, которая составляет жизнь проблемы. *[См. работу Рика Мэйзела (1994) по “Вовлечению мужчин в переоценку практик и определений мужественности”, где дается блестящее обсуждение, призывающее мужчин обратить внимание на противоречия между намерениями и последствиями и между идеями (и их последствиями) и предпочтениями во взаимоотношениях.]
* Есть ли еще другие проблемы, с которыми объединяется анорексия? Некоторые люди говорили мне, что, по их мнению, самоосуждение и изоляция — это партнеры анорексии. Что вы думаете по этому поводу?
* Убеждение, что все идет как положено, вызывает прилив гнева или оставляет больше пространства для других чувств?
* Что эта идея заставляет вас делать?
* К каким заключениям по поводу ваших взаимоотношений вы пришли в связи со всей этой борьбой?
* Какие идеи, привычки и чувства питают эту проблему?
* Если мы взглянем на последствия такой установки, согласуется ли она с вашими надеждами в области взаимоотношений?
Тактики или стратегии. Поскольку мы относимся к проблемным убеждениям, практикам, чувствам и установкам как к экстернализованным сущностям, мы можем размышлять о их планах и предпочтительных методах функционирования. Разоблачение этих тактик и стратегий может оказать мощный деконструктивный эффект.
* Как гнев вкрадывается между вами двумя?
* Если бы я решил стать страхом в вашей жизни, что бы мне пришлось сделать, чтобы о моем присутствии знали? Каким бы образом я ухудшал положение? Какие моменты времени я бы выбирал?
* Что нашептывает вам на ухо голос депрессии? Как ему удается достичь такой убедительности?
* Что булимия делает сначала: крутит картинки этих чертовых пышных пирожных перед вашими глазами или дает вам почувствовать этот специфический вкус во рту?
* Какие образы жизни позволяют расизму оседлать себя?
ВОПРОСЫ, ОТКРЫВАЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВО
Если ландшафт проблемы был расширен посредством деструктивных вопросов, появляются многочисленные выгодные позиции из которых могут появиться уникальные эпизоды или яркие события — те аспекты опыта, которые лежат вне проблемно-насыщенного нарратива и не могут быть предсказаны в его контексте. Мы используем открывающие пространство вопросы для конструирования уникальных эпизодов.
Поскольку эта глава посвящена вопросам, мы уделяем главное внимание тем вопросам, которые мы используем для выявления уникальных эпизодов у людей. Однако, на практике, люди склонны упоминать уникальные эпизоды или демонстрировать их спонтанно. В таких ситуациях, вместо того, чтобы задавать какие-либо вопросы, открывающие пространство, мы можем просто отреагировать на то, что упомянул человек, скорее всего посредством предпочтительного или конструктивного вопроса.
Если мы не наблюдаем начал альтернативных историй, или если люди, с которыми мы работаем, не рассказывают нам о них, мы можем принять участие в их конструировании, задавая:
1. вопросы об уникальных эпизодах, которые имели место.
2. Или, мы можем спросить об уникальных эпизодах в сфере воображения, используя вопросы гипотетического опыта,
3. вопросы, которые касаются различных точек зрения, и
4. вопросы, ориентированные на будущее.
Мы группируем эти различные типы вопросов уникальных эпизодов вместе под названием “открывающие пространство”, поскольку каждый из них интересуется возможным присутствием открывающего начала, которое, если с ним поработать, может привести к альтернативной истории.
Уникальные эпизоды
Побуждение к поиску исключений из проблемной истории — это самый прямой путь участия в конструировании начала истории:
* Бывали ли такие времена, когда распри могли взять ваши взаимоотношения под контроль, но им это не удалось?
* Приходилось ли вам вдвоем противостоять некоторым из культурных предписаний и решать, что нужно вопреки им делать что-то по-своему?
* В каких ситуациях вы легко принимаете решения?
Уникальный эпизод не должен праздновать триумф над проблемой. Мысль, противоречащая проблемной истории; некоторые непривычные поступки в ответ на проблемную историю (если даже, в конечном счете, проблема доминирует); или подготовка к изменению взаимоотношений с проблемой — все это может стать уникальным эпизодом. Задавая вопросы в этих направлениях, часто полезно признавать власть проблемы, чтобы люди знали, что ее присутствие и влияние поняты. Часто это освобождает их от описания тех случаев, когда она ослабляет хватку:
* Несмотря на то, что булимия убедила вас, что слишком опасно выходить и обедать с другими людьми, сопротивлялись ли вы ее аргументам дольше, чем обычно?
* Я понимаю, что страхи все еще продолжают существенно сужать и ограничивать вашу жизнь, но нет ли у вас ощущения, что вы работаете над тем, чтобы изменить это? Вы можете сказать мне, что именно дает вам это ощущение?
* Итак, в течение двух прошедших недель конфликт продолжался, но не было ли у вас каких-то вопросов, в отношении которых вы, хотя бы на мгновение, чувствовали надежду?
Когда прямыми расспросами об уникальных эпизодах не удается открыть пространство, мы используем другие типы вопросов.
Вопросы гипотетического опыта
Если людям трудно обнаружить исключения из доминирующих историй их прожитого опыта, “вопросы гипотетического опыта” могут помочь им вообразить опыт подобного рода (Penn, 1985; Penn & Sheinberg, 1991). В первой истории, рассказанной нами в этой главе, ответы Кэти на вопросы гипотетического опыта создали начало для альтернативной истории. Как только Кэти вообразила себе, что она делает что-то, не согласующееся с доминирующей историей — посещением школы — она и другие члены семьи смогли увидеть прошлое в свете этого воображаемого опыта. Она вошла в альтернативную историю, которая поддерживала воображаемый, но эмпирически реальный опыт.
Вот некоторые вопросы гипотетического опыта:
* Если бы один из ваших детей родился с серьезным заболеванием, как вы думаете, сплотились бы вы перед лицом кризиса?... И как, по вашему мнению, вы действовали бы как команда?
* Что бы произошло, если бы вы не взяли на себя всю ответственность за заботу о ребенке? Например, чтобы случилось, если бы вы не встали, когда ваш сын не мог заснуть?
* Если бы наверняка обнаружили, что ваша мать берет дополнительную работу не для того, чтобы не посещать ваши игры в Малой Лиге, но для того, чтобы обеспечить то, что вам потребуется в будущем, как это знание изменило бы окружающие вас вещи?
Точка зрения
У нас есть коллега, у которой клиентов больше, чем она может принять. Иногда она спрашивает нас, нет ли у нас времени встретиться с человеком или семьей, которую отправили к ней. Мы обнаружили, что, если мы проявляем большой интерес к работе с людьми, которыми она описывает, она, хотя изначально собиралась передать их нам, к концу беседы решает поработать с ними сама. Мы принимаем этот опыт в том смысле, что она принимает нашу точку зрения. Если мы заинтересованы или взволнованы возможностью работы с конкретной семьей или человеком, она начинает видеть соответствующих людей так же, как и мы, замечать интерес и волнение, которое мы проявляем к ним. Несмотря на то, что у нее всегда мало времени, она не хочет терять эту возможность.
Подобным же образом, когда человек живет проблемно-насыщенной историей, иногда история не позволяет ему видеть уникальные эпизоды, как временные ограничения не позволяют нашей коллеге видеть то, что интересно. Поскольку она живет особой историей, она склонна видеть весь свой опыт в контексте этой истории. Люди, пребывающие вне этой истории, более свободны в том, чтобы наделять другим смыслом те события, которые она переживает. Рассматривая смысл с точки зрения кого-то другого, человек может принять этот смысл как свой собственный (или, по крайней мере, примерить его на себя). Это может дать начало альтернативному ходу истории.
Вопросы, подобные этим, касаются других точек зрения:
* Чтобы ваша бабушка сказала о том, как вы справляетесь со своей дилеммой? *[Линда Бейли-Мартиньер (личная беседа, 1995) предложила задавать вопросы с точки зрения бабушки.]
* Вы можете понять, что, с моей точки зрения, вы готовы взять на себя эту ответственность? Как вы думаете, что я заметил такого, что позволяет мне так думать?
* Как вы думаете, чему учится ваша дочь, когда она видит, что ваш муж принимает почти все решения, касающиеся семьи? Именно этого вы для нее хотите? Что бы вы предпочли, что бы она видела? Бывали ли времена, когда она видела то, что вы описываете?
* Есть ли у вас конкретные друзья, которые оказывают на вас большее влияние, когда дело доходит до потребления наркотиков? Есть ли у вас другие друзья и знакомые, которые больше влияют на то, чтобы от этого воздержаться? В чем различие влияние этих двух групп на вас? Какие качества видит в вас одна группа, которые недоступны другой?
* Как вы осознаете это, какие ваши качества не может видеть ваша семья в результате всех этих разборок?
Другие контексты
Если кто-то живет историей, где доминирует беспомощность, он, вероятно, думает о себе как о беспомощном человеке. И хотя в его жизни случались бесчисленные события, противоречащие этой истории, эти события могут не стать частью его представления о своей жизни. Поскольку люди живут историями, а не просто перессказывают их, проблемные истории часто закрывают им глаза на значение контекстов, отличных от проблемно-насыщенных. Другими словами, проблемы часто вклиниваются между людьми и их знанием о себе таким образом, что последние теряют предпочтительные аспекты своей идентичности. Поскольку проблемы встраиваются в определенные контексты и ими поддерживаются, уникальные эпизоды можно часто выявить, спрашивая о других контекстах.
* Я понимаю, что гнев действительно встал между вами двумя, тогда как вы вместе строите бизнес, и вынуждает вас говорить вещи, которые не характерны для того, кем бы вы мечтали быть. Но мне интересно, есть ли другие ситуации, в которых вы способны поставить гнев на место.
* Лень влияла на все области вашей жизни или только на школу?
* Я думаю, что понимаю нечто в том, как сомнение в собственных силах лишает вас доверия в школе. В начале, когда мы лишь едва познакомились друг с другом, вы мне представлялись по-другому, когда вы рассказывали об игре в баскетбол. Вам понятно, откуда у меня появилась эта другая картина? (Этот вопрос также относится к вопросам точки зрения.)
Другие временные рамки
С моей (Дж. Ф) точки зрения, мой дедушка прожил славную жизнь. В возрасте 16 лет он избежал погромов в Восточной Европе, приехав в эту страну с малыми деньгами, но тесными семейными связями. Он был удачлив в своих деловых предприятиях, его прекрасный брак длился 63 года, он очень много путешествовал, он занимался самообразованием и был политически активен, у него были тесные взаимоотношения с семьей и друзьями. Он дожил до того времени, когда смог увидеть, как его дети и внуки реализовали свои мечты, которые он помогал им осуществлять. Тем не менее, он провел свои последние годы в доме для престарелых. Он потерял здоровье и был обуреваем болезненными смятениями по отношению к реальности, его окружали незнакомцы, он был лишен почти всего своего личного имущества. Когда я посещала его в те последние годы, меня буквально бомбардировали образы его более ранней жизни, мучая меня сравнениями. Я помню, как пыталась объяснить одной из медсестер, что этот человек в доме для престарелых, на самом деле, не был им. Для нее, однако, тот человек, которого я описывала, не был, на самом деле, им. Я не знаю, что было реальным для моего деда в то время, но я надеюсь, что когда он осмысливал свою жизнь, он черпал из нее те замечательные годы удовлетворения, взаимоотношений и достижений. Это безусловно те самые времена, которые говорят мне о том, кем он был.
Задавая вопросы для развития уникальных эпизодов, мы придерживаемся знания того, что проблемные истории, которые побуждают людей консультироваться с нами, не представляют их жизнь во всей ее полноте, даже если кажется, что они заполняют все их настоящее. Следующие вопросы представляют собой примеры вопросов уникального эпизода, касающихся различных периодов жизни людей:
* Я слышу, что вы переживаете это как проблему всей своей жизни, но если вы сравните различные времена в вашей жизни, бывали ли времена, когда отчаяние играло менее важную роль?
* В какой период вашей жизни вы чувствовали себя в наибольшей безопасности?
* В какой период вашей жизни вы менее всего были подвержены панике? Был ли в этот период определенный случай, о котором вы подумали, когда я задавал вопрос? Не могли бы вы рассказать мне об этом случае?
В Главу 6 мы включили стенограмму терапевтической встречи, которая иллюстрирует вопросы деконструкции и открытия пространства. Возможно, вы захотите прочитать эту стенограмму прежде, чем переходить к другим типам вопросов.
ВОПРОСЫ ПРЕДПОЧТЕНИЯ *[Мы благодарны Дэвиду Эпстону и Сэллиан Рот (1994) за название “вопросы предпочтения”. До этого мы называли их “вопросами годности”, поскольку они предлагают людям оценить годность, но мы предпочитаем “предпочтение”.]
Поскольку порой мы со-конструируем альтернативные истории из аспектов опыта, которые не согласуются с доминирующими, проблемными историями, здесь очень важно, чтобы терапевт чаще проводил проверки, дабы убедиться, что направление или смысл этих аспектов опыта служат предпочтительными в контексте этих проблемных историй. Этот момент может показаться излишне научным, однако мы, по крайней мере, не всегда правильно понимаем, что люди предпочитают на самом деле.
Например, недавно я (Дж. Ф) встречалась с семьей, которая была направлена ко мне коллегой, который работал с ними некоторое время, но теперь собирался уехать из Чикаго. По мере того как я вникала в работу, которую они проделали с моим коллегой, я обнаружила, что 45-летний Гленн был вовлечен в то, что он описал как пожизненную борьбу с тяжелой депрессией. Члены семьи рассказали мне о влиянии депрессии на их жизнь и на жизнь их семьи. Они поделились со мной знанием, которое они получили о депрессии — признаки того, что она начинается, каковы ее границы и т.д.
Что я особо отметила в этом описании, это то, что, если временами начинается депрессия, то она также должна и закончиться. Если она имела границы, то должны быть места вне ее пределов. Я начала задавать вопросы об этих аспектах их опыта. Мне было весьма интересно услышать об этих периодах времени, свободных от депрессии.
Тем не менее, члены семьи и в особенности Гленн, казалось, противились тому, чтобы всем сердцем вступить в эту беседу. Я спросила: “Это то, о чем бы вам хотелось бы поговорить, или есть что-то другое?”
Гленн ответил: “Бывают времена, когда депрессия не присутствует в моей жизни, и я думаю, что все мы согласны с тем, что в эти времена происходят очень хорошие вещи. Но фокусирование на них никогда не было особо полезным”.
“Я думаю, это страшно,” — добавила 13-летняя Кэрин.
Этот комментарий показался мне забавным, поэтому я задала еще несколько вопросов об этом и обнаружила, что идеи о том, что Гленн, вместо пребывания в депрессии, мог бы взять ответственность за свою жизнь, и что члены семьи могли бы принять участие в осуществлении этого, не были теми идеями, которые члены семьи предпочитали. Фактически, они считали эти идеи опасными. Когда они испробовали эти идеи в прошлом, депрессия застала Гленна и его семью врасплох. Неважно, насколько крепко они верили, что это дело прошлого, эти воспоминания будут снова всплывать на поверхность.
Их опыт говорил им, что лучше работает для того, чтобы установить другие взаимоотношения с депрессией. Они не думали, что им удастся вышвырнуть ее из своей жизни, но они действительно верили, что они могут сосуществовать с ней. Они научились распознавать ранние признаки ее возвращения и обучились некоторым вещам, которые они могли делать, что бы поддерживать ее на “низком уровне”. Она больше не обладала тотальной властью, но имела свое место в их жизни, которое требовало наблюдательности и быстрых реакций. “Это вроде проблемы с тараканами, — пояснила Маргарет, супруга Гленна. — Она не уходит, но когда делаешь что-то, когда замечаешь, что она выходит за привычные рамки, с ней можно мириться”.
Опыты подобного рода научили нас тому, как важно спрашивать людей, что они предпочитают, а не предполагать, что мы это знаем. Мы задаем вопросы предпочтения в течение всего интервью, чтобы убедиться, что мы движемся в направлениях, которые предпочитают люди.
Тем не менее, это не просто вопрос предоставления людям случая проявить свои предпочтения. Заявить вслух о выборе своего предпочтения — это посвятить себя некоему направлению в жизни. Многие из наших вопросов, такие как “Вы думаете, что обман прекрасно устраивает вас как образ жизни, или бы вы предпочли честную жизнь?”, направлены на то, чтобы люди выбрали между двумя возможностями. *[Когда Майкл Уайт и Дэвид Эпстон подняли эти вопросы в связи с соучастием в проблемном образе жизни, они (Epston, 1989a; White, 1986a, 1986b) назвали их “вопросами дилеммы” или “поднятием дилеммы”.] Когда мы ставим эти вопросы, мы конструируем определенные дилеммы. Временами люди действительно говорят нам, что ни одна из возможностей не является для них предпочтительной, однако мы предполагаем, что большую часть времени приближаются к двум предложенным возможностям, как если бы они были единственными доступными выборами и тянутся к одному или другому, чтобы руководствоваться им.
Как отмечает Карл Томм (1993, стр. 67), “вопросы подобного рода, которые сопоставляют два контрастных мнения... и побуждают клиента заявить свое предпочтение, явно “загружены”. Томм называет их “вопросами разветвления” и полагает, что они полезны в мобилизации и упорядочении эмоциональных реакций человека. Он пишет, что они создают разветвление или ответвление альтернативных смыслов и альтернативных направлений. Когда человек выбирает, различные наборы эмоций ориентируются на каждую из этих ветвей. Предположительно, если человек заявляет, что его устраивает честность, а не обман, его негативные эмоции переориентируются на обман, что может помочь ему бороться с ним, а его позитивные эмоции переориентируются на честность, помогая ему руководствоваться ею.
Иногда подразумевается лишь одна из ветвей. Когда мы спрашиваем: “Вы полагаете, что такой тип мышления полезен?”, мы подразумеваем “Или не полезен?”
Когда-то мы много работали с гипнозом и видели множество людей, которые хотели бросить курить. Когда мы спрашивали их, что более всего помогает бросить курить, многие люди говорили нам, что принятие на себя обязательства бросить было более чем важным элементом. Задавая вопросы предпочтения, мы создаем контекст для принятия обязательств.
Мы часто спрашиваем “Почему?” после того, как люди заявили свое предпочтение. Это побуждает людей подтвердить их выбор и описать свою мотивацию. В ходе своих объяснений, люди имеют возможность прояснить и развить свои предпочтительные направления в жизни, идентичности и ценностях.
Вот несколько примеров вопросов предпочтения:
* Вы думаете, что эта репутация должна говорить за вас, или вы думаете, что будет лучше, если вы сами будете говорить за себя?
* Это полезная практика? Каким образом? Почему?
* Эта идея устраивает вас? Почему?
* Как вы думаете, кому лучше управлять вашей жизнью, вашему гневу или вам самим? Почему?
* Для вас это хорошо или плохо?
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЙ
Как только открывается достаточно пространства для выявления уникального эпизода или предпочтительного развития, мы можем задавать вопросы, развивающие на основе этого историю. Все вопросы, о которых мы говорим в этой главе, используются для побуждения людей к пере-сочинению историй. Ссылаясь на “вопросы развития историй” в этом разделе, мы ссылаемся на ту часть пере-сочинения, которая превращает события в историю в обычном смысле. То есть, вопросы развития историй предлагают людям рассказать о процессе и деталях опыта и связать их с временными рамками, определенным контекстом и с другими людьми. Таким образом, событие расширяется в пространстве и времени, наполняется людьми и переживается в подробностях. Оно становится историей! Такие истории могут быть сконструированы как из реальных, так и из гипотетических событий.
Когда мы задаем вопросы развития историй, мы надеемся, что люди придут к новому переживанию своих жизней по мере того, как они будут фокусироваться на прежде пренебрегаемых и не облеченных в истории аспектах своего опыта, аспектах, которые лежат вне сферы проблемных историй, в которых они завязают и обращаются к терапии. Поэтому, представляется важным, чтобы эти истории развивались эмпирически живо и имели побудительный характер (Freedman & Combs, 1993).
Процесс
Задавая вопросы о процессе, мы предлагаем людям замедлить событие и отметить, что вошло в него. По мере того, как человек работает над восстановлением важных элементов, вовлеченных в уникальный эпизод, он пере-живает его. В этом процессе он получает возможность создать карту, которой он впоследствии сможет воспользоваться, когда ему будут брошены новые вызовы. Поскольку эти вопросы предлагают людям описать свои собственные действия, они почти всегда вносят вклад в истории о личном соучастии.
* Какие шаги вы предприняли, осуществляя это? Что вы сделали сначала? А потом?
* Как вы готовили себя к тому, чтобы видеть вещи по-новому?
* Когда вы оглядываетесь назад на это достижение, какие, по вашему мнению, точки поворота сделали это возможным?
* Были ли особые вещи, которые вы говорили себе и которые поддерживали это новое решение?
* Каким образом вы это сделали?
Детали
Детали придают событию живость. Вопросы о деталях предлагают людям возможность вспомнить те аспекты событий, которые, возможно, были игнорированы или забыты. Полные, подробные описания способствуют интенсивности эмпирической вовлеченности, что не характерно для отчетов общего характера. Это верно даже для гипотетических событий. Кроме того, некоторые из возникающих новых деталей могут играть более значительную роль в пере-сочинении, чем те детали, которые наиболее охотно вспоминаются.
* Каково было выражение его лица, когда вы сказали ему, что выиграли приз?
* Какие особые вещи заметил бы я, находись я там, когда вы вдвоем переживали этот прорыв?
* Каково это было — держать приз в своих руках? Слышали ли вы шум толпы или различали отдельные лица?
* Что происходило в другой части комнаты, когда вы начали осознавать это?
* Что в точности она сказала, когда вы сообщили ей новости?
Время
Нахождение исторических предпосылок уникальных эпизодов и предпочтительных аспектов развития может придать особую значительность и доверие предпочтительным историям самоидентификации, которые вытекают из этой работы. Часто уникальные эпизоды имеют исторические корни, которые скрыты от людей их проблемами. “Исторические вопросы” могут помочь людям обнаружить и восстановить их.
* Кто бы мог предсказать, что вы осуществите этот сдвиг в своем понимании? Что могло бы привести их к такому предсказанию? Могли бы они привести конкретное воспоминание или событие?
* Проявляла ли ваша дочь бесстрашие такого рода прежде, в прошлом?
* Было ли это новым обстоятельством, или у вас есть история, когда вы выговаривались в сложных ситуациях? Какая ситуация приходит на ум?
Вопросы, ориентированные на будущее, могут расширить альтернативные истории в направлении будущего, изменяя ожидания людей по поводу того, что их ждет впереди. Как замечает Пегги Пенн (1985, стр. 301), они могут “... вникнуть в идеи предопределения”.
* Как вы думаете, каков мог быть ваш следующий шаг?
* Теперь, когда вы обнаружили эти вещи о ваших взаимоотношениях, вы по-другому видите будущее?
* Эти новые события побуждают вас на какие-нибудь предсказания по поводу будущей карьеры вашего сына в школе?
* Как вы думаете, через три месяца, кто будет особенно удовлетворен последствиями этого нового понимания? Какие из последствий будут для них особо приятными? (Этот вопрос также подходит под рубрику “люди” на стр. ** — **.)
Вопросы, которые контрастируют с прошлым, а также с настоящим или будущим, подчеркивают те изменения, которые история претерпела во времени. *[Дэвид Эпстон довольно широко применяет вопросы такого рода. По мере того, как люди противопоставляют то, что происходит в настоящем, или то, что они планируют на будущее, прошлому, похоже, что они больше укрепляются в выборе нового направления.] Отвечая на эти вопросы, люди могут заметить многие перемены и различия, над которыми они, как правило, не задумывались.
* Как это отличается от того, что вы делали раньше?
* Хорошо, на этот раз вы не позволили булимии провести себя и изолировать вас от социальной ситуации. Как это отличается от того, когда булимия контролировала вашу жизнь?
* Похоже, что вы вполне удовлетворены отзывами, которые вы получаете от учителей Джона. А как это выглядело раньше, когда вы ходили на родительские собрания? А теперь...?
Вопросы, которые связывают прошлое, настоящее и будущее, обостряют восприятие временного масштаба и направленности нарратива и повышают степень уместности событий в различных временных рамках.
* Если мы свяжем самоуверенность из вашего прошлого с вашими сегодняшними идеями, как вы полагаете, как вы будете развиваться по этим направлениям в будущем?
* Вы сказали, что в институте было несколько случаев, когда вам приходилось постоять за себя, и что совсем недавно вы снова воспользовались этой способностью, высказав своему лучшему другу то, что было у вас на уме. Если мы подойдем к этим событиям как к некоей тенденции в вашей жизни, как вы ожидаете, что может случиться дальше?
* Кто из вашего прошлого мог бы предсказать это новое событие в вашей жизни? Зная о вашем прошлом, если бы он имел отношение к этому теперешнему событию, чтобы он мог предвидеть в вашем будущем?
Контекст
Истории развиваются в определенных контекстах. Проблемные истории могут подготавливаться или поддерживаться другими социокультурными контекстами, нежели предпочтительные истории. По мере того, как люди конструируют альтернативные истории, новые контексты могут приобрести важность. Некоторые нарративы гораздо больше зависят от контекста, чем другие, но у каждой истории есть окружение. Задавая вопросы о контексте, историю можно “заякорить” в определенном месте и ситуации. Иногда вопросы о контексте предлагают людям распространить истории на новые места и новые ситуации. Вопросы контекста могут также предложить людям заметить ту роль, которую культура играет в создании и поддержке предпочтительных историй.
* Есть ли конкретные организации или контексты, которые могли бы поддержать ваше новое решение?
* Где это случилось? Что в это время происходило?
* Ваша недавно обнаруженная компетентность проявляется больше на работе или дома?
* Могли бы вы сказать, что обстоятельства поддерживали вас, когда вы это делали? Каким образом?
* Является ли процесс, который вы описываете частью вашей культуры? Дает ли ваша культура знание о том, как отвечать на вызовы подобного рода? *[Группа Справедливой терапии в Веллингтоне, Новая Зеландия, разносторонне работала над тем, чтобы помочь людям восстановить культурные истории и знание. См. Law (1994), Tamasese and Waldegrave (1993), Tapping и др. (1993) и Waldegrave (1990), где приводятся отчеты об этом процессе.]
Люди
В большинстве историй присутствует более чем один персонаж. “Вопросы о людях” предлагают людям собрать набор персонажей, действующих в возникающем нарративе, или задуматься над тем, какую роль определенные люди могли бы сыграть в развитии истории. Эти вопросы указывают на важность других людей в альтернативных нарративах. Они также побуждают людей рассмотреть влияние их альтернативных историй на жизнь других людей — семью, друзей, а иногда даже незнакомцев. * [Помимо важности людей, которые являются частью историй, мы признаем важность аудитории, которая выслушивает истории; то есть вовлечения посторонних людей в события в жизни человека. См. вопросы в Главе 9, которые можно использовать в этом отношении.] Поскольку смысл конструируется в социальном взаимодействии, это согласуется с тем, что истории “наполняются людьми”.
* Кто сыграл роль в том, что вы вернули себе свою жизнь?
* Кто первым заметит, что вы победили этот страх? Как это повлияет на него?
* Ваша переписка с матерью сыграла роль в этом? Что оказалось самым важным из того, что она вам написала?
* Как вы думаете, как долго остальной части вашей семьи придется наблюдать, как вы следуете правилам, прежде чем они успокоятся по поводу этой перемены?
* Если вы, сталкиваясь с этой проблемой, будете сердечно преданы своему брату, что от этого изменится?
Вопросы гипотетического события
Мы также можем сконструировать историю, которая основана на уникальном эпизоде, добавляя детали, процесс, контекст и людей из области воображения *[См. Roth and Chasin (1994), где приводится описание нарративной работы, выполняемой главным образом в области воображения через драматическую постановку, а не через вопросы.], задавая вопросы о гипотетических событиях или обстоятельствах. Вопросы о будущем всегда касаются гипотетических событий, но они могут быть очень важны в конструировании реальной жизни.
Дайэн Чизмен, член обучающей команды Эванстонского центра семейной терапии, первой освоила использование гипотетических вопросов. После того, как люди отмечают особенности, касающиеся их самих и их взаимоотношений, которые они находят полезными, Дайэн предлагает им сочинить умозрительную историю. Например, в ходе терапевтической беседы с Дайэн, Надин и Хэнк поняли, что, когда они вместе обсуждали родительские обязанности, они с большим доверием относились к этой теме. Поскольку Рене был рожден в предыдущем браке Надин, доминирующие идеи о том, что значит быть “настоящим” отцом, не позволяли Хэнку выражать свои идеи по поводу родительских обязанностей. Доминирующие идеи об ответственности материнства убедили Надин, что ответственность за Рене полностью лежит на ней. Эти двое никогда не сотрудничали, хотя каждый из них часто чувствовал подавленность и одиночество. Когда они поняли, что им обоим хотелось бы поделиться идеями и обсудить свои родительские обязанности в отношении Рене, Дайэн задала им гипотетические вопросы, чтобы развить умозрительную историю. Это были вопросы, такие как “Если бы вы, как только поженились, знали, как замечательно вы можете делиться идеями и обсуждать родительские вопросы, как бы отличались тогдашние вещи, касающиеся Рене, от теперешних?”
Как только такая история упрочивается, люди могут размышлять о процессе, деталях, контексте и людях. Эти гипотетические прошлые события, будучи пережиты, часто оказывают реальное влияние на настоящую жизнь людей.
Далее следуют примеры “вопросов гипотетического события”, которые могут быть использованы в развитии истории:
* Если бы ваша мама не умерла, как, по вашему мнению, отличался бы для вас процесс вашего взросления?
* Если бы вы взяли на себя такой проект, с чего бы вы начали?
* Как бы представили себя в роли студента? Вы бы изменили свой стиль?
ВОПРОСЫ СМЫСЛА
Через вопросы развития историй люди намечают действие и содержание своих предпочтительных историй. Через вопросы смысла мы вовлекаем людей в позицию размышления, из которой они могут рассматривать различные аспекты своих историй, самих себя и своих разнообразных взаимоотношений. Эти вопросы воодушевляют людей на то, чтобы рассмотреть и пережить подтексты уникальных эпизодов, предпочтительных направлений и опыта, превращенного в новую историю. Давая названия смыслам этих опытов, они конструируют их.
Когда Марта пришла на терапию, она описывала проблему, как ощущение того, что она ни на что не годится, и о ней никто не заботится. Она думала, что это связано с двумя значительными опытами в ее жизни. Во-первых, ее мать умерла, когда ей было 14, и она верила, что ее мать была единственным человеком, который действительно любил ее. Во-вторых она была полукровкой. Ее этническое происхождение не явствовало из ее наружности. Этот факт приводил к тому, что она часто задумывалась о том, как меняется ее восприятие людьми в зависимости от того, знают они или нет о ее этнических корнях. Она часто ощущала, что не встраивается ни в одну из культур ее родителей. Чтобы справляться с чувствами неприкаянности и заброшенности, Марта заведенным порядком приспосабливалась к идеям других людей. Она часто подолгу поддерживала неудовлетворительные взаимоотношения, потому что считала, что это лучше, чем пребывать в одиночестве.
В один прекрасный момент она поразила себя, когда у нее брали интервью при приеме на работу. Она основывала свои ответы на том, что она думала, а не на домыслах о том, что от нее хотел бы услышать интервьюер. Я (Дж. К) задал ей вопрос смысла об этом: “Что говорит о важных для вас вещах тот факт, что во время интервью вы говорили то, что думали, а не то, что, возможно, хотел бы услышать игнтервьюер?” Она обдумала мой вопрос несколько мгновений и затем сказала: “Я полагаю, что хочу нанимать себя сама, а не играть для кого-то еще”.
Это было значимое представление смысла для Марты. Она сказала, что не узнала бы об этом сама, если бы она не поразмыслила над интервью в ответ на поставленный вопрос. Это самопознание позволило ей выявить и другие примеры опыта, когда она умела постоять за себя, что также было весьма важно обнаружить. Через эти открытия Марта познакомилась с другой стороной себя. Мы не намерены предполагать, что это представление смысла было самодостаточным, или даже стало точкой поворота в терапии. Это был, тем не менее, значимый опыт, который помог Марте понять, что (хотя доминирующие идеи и практики культуры отторгли ее опыт и ее идентичность) она может сделать свой выбор и отстаивать свои мысли и идентичность, и что этот выбор благотворно на нее влияет.
Мы задаем вопросы смысла об ответах на вопросы “открытия пространства”, “предпочтения” и “развития историй”. Кроме того, задаем вопросы “открытия пространства”, “предпочтения” и “развития историй” в связи с ответами на “вопросы смысла”. Вопросы смысла вплетаются (и вытягиваются из них) в эти другие типы вопросов. В особенности, это касается вопросов развития историй.
Кроме постановки вопросов об общем смысле и подтекстах разворачивающихся историй, мы также спрашиваем о личных качествах, особенностях взаимоотношений, мотивации, надеждах, целях, ценностях, убеждениях, знании и научении, которые люди извлекают из своих развивающихся нарративов.
Смысл и подтексты
Вопросы о смысле и подтекстах — это вопросы смысла, имеющие наиболее открытый характер. Ответы вполне могут говорить об особенностях, ценностях или других из вышеописанных категориях. Через эти вопросы люди формируют смысл в той форме, которая им более всего присуща.
* Какой смысл будет заключен для вас в том, что ваш партнер сделает это?
* Если бы вам пришлось сейчас применить этот знание в своей жизни, в каком контексте оно произвело бы наибольшие перемены? Какие перемены оно бы вызвало?
* Что эта новая перспектива говорит вам о самом себе?
* В чем состоит важность того, что вы как семья здесь вместе говорите об этом новом начинании?
Особенности и качества
Спрашивая об особенностях и качествах людей и взаимоотношений, мы фокусируем смысл на собственном имидже или “имидже взаимоотношений”. Эти вопросы очень полезны, для оценки того, насколько идентичность человека или взаимоотношения соответствуют моменту развития альтернативной истории.
* Если бы вы это сделали, что это говорит о вас как о человеке? Какие особенности здесь проявляются?
* В свете того, что вы добились этого совместными усилиями, как бы ваш партнер описал тип взаимоотношений, которые между вами существуют?
* Какие свойства вашего сына очевидны для вас теперь, когда вы услышали о тех шагах, что он предпринял, чтобы смирить свой нрав?
Мотивация, надежды и задачи
Вопросы о мотивации, надеждах и задачах побуждают людей отмечать, как определенные события отражают более обширные жизненные проекты. Конструируя два этих аспекта как связанные между собой прибавляет важности этим событиям.
* Как вы думаете, что мотивировало его на совершение этого шага?
* Как вы думаете, то, что вы с таким рвением взялись за эту задачу, отражает ваши надежды относительно себя как пары?
* Мы только что перечислили ряд вещей, за которые вы взялись и сделали по этому проекту. Окидывая взглядом этот список, вы более ясно понимаете свои задачи в этой области?
Ценности и убеждения
Вопросы о ценностях и убеждениях могут побудить людей взглянуть за границы специфических событий и поразмышлять о своих моральных, этических или духовных измерениях. Я (Дж. Ф) консультировала одну семью в течение одной двухчасовой встречи, а шестью неделями позже выслушала Элизабет, дочь. Члены семьи были белыми, католиками ирландского происхождения из среднего класса. Когда Элизабет обручилась с Джаредом, мусульманским студентом технического колледжа из Ирана, семью охватил страх. Похоже, их страх подогревался фильмом “Не без моей дочери” об иранце, который женился на американке. Иранец в этом фильме казался любящим мужем, пока пребывал в этой стране, но оказался склонным к насилию незнакомцем, когда семья посетила Иран. Американке едва удалось бежать вместе с их ребенком. Вторым явлением, которое подливало масло в огонь страха, стал шквал звонков от родственников и друзей, все из которых знали людей, которые знали других людей из американо-иранских пар, чья совместная жизнь оказалась сущим бедствием. В-третьих, церковь не признала бы брак, как полагала Элизабет.
В целях упрощения иллюстрации, я ограничу свои комментарии кратким отрывком из нашего телефонного разговора, который состоялся через шесть недель после консультации. Элизабет позвонила, чтобы сообщить, что ее родители действительно собираются познакомиться с Джаредом, в чем они совершенно не были заинтересованы прежде. Я спросила ее, что могло измениться, чтобы это стало возможным. Она сказала, что самой важной вещью стало то, как ее родители ответили на конкретный вопрос. Вопрос, который я задала, состоял в следующем: “Вы сказали мне, что решили, что этот брак не имеет к вам никакого отношения; и все же вы — здесь, и вы просите вас проконсультировать. Что из представляющего для вас ценность побудило вас обратиться к терапии?”
“Когда они обдумали этот вопрос, они, похоже, растаяли”, — сказала Элизабет. “Они были заморожены, настроены против меня месяцами, но когда они услышали этот вопрос, они начали говорить о том, как сильно они меня любят, как они хотят стать частью моего будущего, как они хотят для меня только лучшего. Казалось, что мои родители вернулись ко мне. После этого они предприняли некоторые шаги, чтобы действительно познакомиться с Джаредом. Сейчас мама называет их дом Объединенными Нациями”.
С помощью этих вопросов мы узнаем у людей, каким образом уникальные эпизоды отражают их ценности и убеждения:
* Почему этот новый способ мышления подходит вам больше, чем старый?
* На основе того, что я услышал, что бы я сказал о том, что вы цените в дружбе?
* Теперь, когда мы рассмотрели, что произошло в школе вашей дочери, как вы думаете, в чем она должна быть убеждена, встав в эту позицию?
Знание и навыки
Поскольку мы часто рассматриваем терапию как “восстание (возможно, здесь опечатка: не insurrection, a resurrection — не “восстание”, а “восстановление”. Прим. перев. для редактора.) утерянных знаний”, мы убеждены, что важно выявить специфическое локальное знание людей, касающееся уникальных эпизодов и предпочтительных направлений в жизни. Это в особенности верно, когда доминирующее культурное знание приложило руку к составлению их проблемно-насыщенных историй. Вот несколько вопросов, которые мы можем задать, чтобы обозначить те навыки и знание, которые противостоят проблеме:
* Возвращаясь к тому событию, что вы тогда знали о своих взаимоотношениях, в которых вы потом каким-то образом сбились с пути?
* Есть что-то такое, что могло бы обучить вас тому, что могло бы быть важным в других аспектах вашей жизни?
* Когда вы видите, как далеко вы зашли, что вы узнаете о себе?
* Размышляя над этим происшествием, что, в результате этого, вы узнали из того, что “друзья само-ненависти” не хотели бы, чтобы вы знали?
КОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ
Мы могли бы рассматривать “вопросы развития историй” и “вопросы смысла” как наши вопросы для конструкции истории (а не для деконструкции, или открытия пространства). Они основаны на уникальных эпизодах, побуждая людей использовать уникальные эпизоды и предпочтительный опыт как основу для развития альтернативных историй и смыслов.
Хотя мы рассматриваем истории, которые развиваются в процессе терапии как собственные истории людей, мы также размышляли и над тем, что Карл Томм (1993) выявляет в обсуждении работы Майкла Уайта. Он пишет, что Уайт отбирает события, которые предлагает людям превратить в историю, и что этот отбор в огромной мере определяет тип историй, которые будут сконструированы. Очевидно, что вопросы, которые задает терапевт, играют свою роль в том, какие события, как пережитые, так и воображаемые, будут превращены в истории. Уникальные эпизоды, которые становятся
кандидатами на развитие истории, отбираются терапевтами, когда они задают больше вопросов о них, но они также отбираются и людьми, с которыми мы работаем, когда они называют их предпочтительными событиями в ответ на вопросы предпочтения.
Наши ценности, нарративная метафора и наш опыт влияет как на наш выбор вопросов, так и на наши решения в отношении того, на каких “ярких событиях” фокусироваться. Поскольку наш выбор участвует в формировании типов историй, которые конструируются, важно, чтобы мы поставили себя в определенные рамки. Для этого нужно сделать наши ценности, идеи и опыт достаточно ясными, чтобы люди могли понять, что они не нейтральны (White, 1995). Мы предлагаем свои идеи как идеи, основанные на определенном опыте, а не как истину в последней инстанции. Кроме того, в ходе работы с людьми мы предлагаем им задавать вопросы о наших вопросах и наших намерениях. (См. Главу 10, где приведен более детальный отчет об этом процессе.)
В контексте терапии, определенные направления нарратива выбираются и уплотняются посредством челночного движения между развитием истории и осмыслением. То есть, когда некто начинает развивать альтернативную историю, мы задаем вопросы, которые побуждают его представить смысл этой истории. Затем мы можем спросить, какие пути развития истории вытекают из появляющегося смысла, и так далее. Таким образом сплетается кружево путей развития историй и их смыслов. В Главе 6 мы предложим стенограмму, которая иллюстрирует этот процесс плетения.
Мы хотели бы отметить, что наши понятия “вопросы развития историй” и “вопросы смысла” отличаются от аналогичных понятий, принятых Майклом Уайтом от Джерома Брунера (1986). Уайт (1991, 1995), за которым следуют многие другие терапевты, использует термины “ландшафт действия” там, где мы используем развитие истории, и “ландшафт сознания” там, где мы используем смысл. Он также использует третью категорию, “опыт опыта” для вопросов, которые побуждают людей принять точку зрения другого. *[Ранее в этой главе мы описали использование этих вопросов под рубрикой “точка зрения”, когда нашим намерением служит открытие пространства.] Вместо того, чтобы помещать эти вопросы в отдельную категорию, мы включили их в рубрику “вопросы развития историй” или “вопросы смысла”, в зависимости от нашей цели постановки вопросов. То есть, мы называем эти вопросы вопросами развития историй либо вопросами смысла, в зависимости от того, развивают ли они историю, либо смысл с точки зрения другого человека. Например, мы назвали бы вопрос “Если бы мне довелось быть там и видеть, как вы сделали этот шаг, как вы думаете, как бы я описал то, что видел?” вопросом развития истории, а вопрос “Если бы мне тогда довелось сказать кому-то, что, по моему мнению, привело вас к этому шагу, как вы думаете, какие бы ваши качества я назвал?” — вопросом смысла.
ЧТО СПРАШИВАТЬ И КОГДА
Нас беспокоит, что представление списка типов вопросов в определенной последовательности может вызвать мнение, что эти вопросы следует задавать именно в этой последовательности. На самом деле, кажется, что некоторым людям полезно держать в уме определенный порядок при изучении и практике вопросов подобного рода, и, поскольку есть необходимость в порядке, порядок, в котором мы их выписали, не так уж плох. Тем не менее, мы хотим подчеркнуть, что другие порядки могут работать не менее успешно.
Мы начинаем лишь немного понимать людей как людей, отнюдь не в связи с их проблемами. Как отмечают Вики Дикерсон и Джефф Зиммерман (1993, стр. 229), “Это важный шаг а понимании членов семьи как людей, изолированных от своей проблемы, и как экспертов в области их собственной жизни”.
Далее, мы нашли полезным и удовлетворительным следовать интересам людей. Часто беседа естественным образом подводит их тому, что привело их в терапию. Если это не происходит, мы можем поинтересоваться. Затем мы, как правило, выслушиваем описание проблемы, *[Мы обсуждали это под рубрикой “деконструктивное выслушивание” в Главе 3.] и пока мы слушаем, в некоторый момент мы начинаем задавать деконструктивные вопросы.
Недавно, когда мы представляли семинар вместе с некоторыми коллегами (Adams-Westcott и др., 1994), *[Нашими коллегами были: Дженет Адамс-Уэсткотт, Вики Дикерсон, Джон Нил и Джефф Зиммерман.] кто-то спросил: “Сколько деконструктивных вопросов следует задавать?” Джефф Зиммерман ответил: “Столько, сколько потребуется”. Мы привыкли систематически задавать деконструктивные вопросы (в особенности, “вопросы относительного влияния”), однако теперь мы предпочитаем начать задавать “вопросы развития истории” каждый раз, когда присутствует начало истории. Мы можем всегда вернуться к деконструктивному выслушиванию и опросу, если этого требует ситуация.
В ходе конкретного интервью мы можем совсем не использовать некоторые типы вопросов. *[Существует множество типов вопросов, которые мы вообще не упомянули. “Опрос интернализованного другого”, разработанный Дэвидом Эпстоном и Карлом Томмом (Epston, 1993b) и вопросы “повторного приветствия”, разработанные Майклом Уайтом (1988b), которые используются при работе с людьми, страдающими от скорби, относятся к этим типам вопросов.] Мы склонны использовать вопросы деконструкции и открытия пространства на начальной стадии беседы, касающейся конкретной проблемы. Мы используем вопросы предпочтения в ходе всего интервью, в особенности в отношении уникальных эпизодов. Если предпочтительный уникальный эпизод определен, мы задаем вопросы развития истории и смысла, часто перемежая их, или задавая несколько вопросов развития истории, а потом вопрос смысла, за которым следуют еще несколько вопросов развития истории. Тем не менее, существует множество исключений из этой общей формы. Например, мы часто опускаем вопросы предпочтения, руководствуясь, вместо этого, тоном голоса, выражением лица и прошлыми заявлениями о предпочтениях.
Если члены семьи начинают терапию с описания того, что они хотят, или на что надеются, мы, как правило, реагируем на это как на уникальный эпизод и предлагаем им сочинить историю — порой даже не выслушивая или деконструируя проблемную историю. На выбор, мы можем спросить о проблемной истории через вопросы развития истории, которые противопоставляют прошлое настоящему или будущему таким образом, что сочинение альтернативной истории и изложение проблемной истории переплетаются в ходе всего терапевтического процесса.
Иногда мы движемся между проблемными и альтернативными историями с тем, чтобы установить связь с опытом людей. Может случиться, что человек начинает жить альтернативной историей, но потом его что-то останавливает. Он чувствует себя заблокированным или отброшенным назад. В этой ситуации мы можем либо спросить об альтернативной истории, чего может быть достаточно, чтобы снова включить его в нее, либо мы можем слушать и задавать деконструктивные вопросы о том, что отбрасывает его назад. Для некоторых людей предпочтительней второй вариант. Похоже, что они пере-сочиняют направление истории, потом обнаруживают другую проблему, пере-сочиняют это направление и т.д., пока они полностью не погружаются в альтернативные истории.
В Главах 8 и 9 продолжаем обсуждать идеи для развития историй и для набора аудитории для историй. Когда все эти вопросы запущены, для людей становится привычным использовать терапию, в первую очередь, как контекст для изложения своей развивающейся истории. Мы продолжаем задавать вопросы, но наша роль все больше и больше напоминает роль слушателя и писца — документирование, дача показаний и представление смысла предпочтительной истории по мере ее развития.
По мере того как люди все больше и больше вовлекаются в переживание альтернативных историй, в определенный момент они обычно решают, что могут прекрасно обойтись без терапии. Часто, вместо того, чтобы принять единственное определенное решение “завязать”, они хотят оставить дверь открытой для консультации “по случаю”. Как бы то ни было, поскольку мы оговариваем условия следующей терапевтической встречи в конце каждого сеанса, окончание терапии обычно представляет собой “естественный” и легкий процесс.
В ходе “завершающих встреч” мы обычно задаем людям вопросы, которые побуждают их дать обзор развития истории — в особенности, вопросы, противопоставляющие настоящее прошлому. Мы также задаем вопросы, ориентированные на будущее. А иногда мы устраиваем торжество!
6 ВОПРОСЫ В ДЕЙСТВИИ: ТРИ СТЕНОГРАММЫ
Эффективная терапия должна постоянно пере-создаваться в контексте взаимодействия участников. В противном случае, она быстро вырождается в последовательность консервированных шаблонов.
— Джей С. Эфран и Лесли Э. Клэрфилд, 1992, стр. 211
... клиент и терапевт видятся как взаимно творящие смысл, и разум становится взаимной межсубъективностью... Творится новый нарратив, новая история.
— Харлен Андерсон и Гарри Гулишиан, 1990a, стр. 162
Чтобы дать вам почувствовать, как вопросы, классифицированные в предыдущей главе, реально ставятся на практике, мы предлагаем три стенограммы. Первая стенограмма фокусируется на деконструкции и открытии пространства, вторая подчеркивает развитие истории и смысл, а третья показывает, как все пять основных типов вопросов — деконструкции, открытия пространства, предпочтения, развития истории и смысла — работают вместе.
ЛЕНЬ? ЭКСТЕРНАЛИЗУЮЩАЯ БЕСЕДА, ОТКРЫВАЮЩАЯ ПРОСТРАНСТВО
Это в высшей степени отредактированная версия консультации, состоящей из одного сеанса, которую я (Дж. К) провел с Риком и его матерью, Эллисон, показывает вопросы деконструкции и открытия пространства в действии. Прежде хороший ученик, 13-летний Рик перестал справляться с домашними заданиями. Администрация школы применила несколько стратегий, чтобы Рик улучшил свои показатели в этой области, но все безуспешно. За неделю до нашей беседы они вызвали Эллисон на специальную встречу, на которой они объяснили, что Рик настолько отстал, что это серьезно влияет на его оценки. Если что-то не изменится, ему, вероятно, придется остаться в восьмом классе на второй год. Они настойчиво рекомендовали ей воспользоваться семейной терапией, чтобы решить проблемы с Риком.
В первой части этой беседы, которая не появляется в стенограмме, Эллисон ознакомила меня с той озабоченностью, которую выражали представители администрации. Наша стенограмма начинается с того момента, когда я оставляю Эллисон и начинаю разговор с Риком.
Когда вы будете читать стенограмму, обратите внимание на то, что экстернализуется, как оно становится экстернализованным, и как исследуется влияние экстернализованной проблемы. Какие уникальные эпизоды вы здесь видите? Каким образом они проявляются?
ДЖИН Похоже, что в школе считают, что у тебя проблема отношения (к занятиям). Мне интересно, думаешь ли ты сам, что у тебя есть какая-то проблема, и, если это так, то, как по-твоему, это проблема отношения, или бы ты сказал, что проблема не в этом.
РИК Я даже не знаю, как увидеть эту проблему. Я бы сказал, думаю, что я ленив, потому что я действительно не выполняю большую часть домашних заданий. И я думаю, моя мамочка, она отстранила меня от телевизора до конца учебного года, потому что я просто не вылезал из этой программы. И меня наказывают в классе, а теперь меня каждый день и дома чего-то лишают. В общем...
ДЖИН Как ты думаешь, что мешает тебе делать домашнее задание?
РИК Я действительно не хочу им заниматься.
ДЖИН Перед этим ты употребил слово “ленив”.
РИК Ну, да.
ДЖИН Ты думаешь, что это именно лень.
РИК Где-то.
ДЖИН Или это отсутствие желания?... Я имею в виду, как бы ты описал то, что происходит.
РИК Я не знаю. Я ленив. Я это знаю. Я просто не хочу этим заниматься.
ДЖИН Хорошо. А есть другие места в твоей жизни, не связанные с домашними заданиями, где лень вызывает проблемы, куда она входит, или лень представляет проблему только в отношении домашних заданий?
РИК Я думаю, только в школьных занятиях. Я действительно не знаю ни одного другого места, где бы лень была характерна для меня.
ДЖИН Итак, к примеру, лень — это не то, что доставляет тебе проблемы в области баскетбола?
РИК (смеясь) Нет.
ДЖИН Ты вполне готов усердно трудиться и пытаться делать что-то лучше, вкладывать кучу времени, практики и всего прочего в баскетбол?
РИК Да.
ДЖИН Хорошо... А в чем разница? Что есть такого в баскетболе, что позволяет тебе не впускать в себя лень?
РИК Я люблю баскетбол. Я не люблю школу.
ДЖИН Итак, тебе трудно заниматься всем этим? Итак, лень как-то вылезает на сцену, когда появляется что-то, что ты не любишь делать? Были ли в твоей жизни времена или случаи, когда появлялось что-то, что ты не любил делать, но ты знал, что тебе надо это сделать, и лень не мешала тебе делать это?
РИК (пауза) Нет, ничего не могу припомнить. (пауза)
ДЖИН Хорошо... например, мне видится, что вроде иногда ты действительно выполнял какие-то домашние задания.
РИК Да.
ДЖИН Итак, ты мог бы сказать мне, что лень не имеет над тобой полной силы, что иногда ты можешь взять ситуацию под контроль и сделать что-то? Так? Или нет?
РИК (с мучительной интонацией) В общем, я не хочу заниматься домашними заданиями три-четыре часа каждый вечер. Как прошлым вечером, если бы я не сделал свою домашнюю работу, меня бы оставили после уроков. В общем, я делал домашнюю работу три с половиной часа! (пауза, потом тише) Все сделал. Я не хочу сидеть...
ДЖИН Итак, вчера вечером ты выполнил все свое домашнее задание?
РИК Да.
ДЖИН А теперь скажи, это было задание на один день или это была домашняя работа за несколько дней?
РИК Работа за несколько дней.
ДЖИН Хорошо. Получается, что три с половиной часа — это из-за того, что это домашние задания за несколько дней.
РИК Да. Это было бы около... мне понадобилось бы, просто для нормального задания на один день, может, часа два.
ДЖИН Так ты оцениваешь то время, которое тебе пришлось бы затрачивать ежедневно, если бы ты хотел постоянно справляться со всей своей домашней работой? Около двух часов?
РИК Ох, я бы сказал... ну, на самом деле это зависит. Зависит от того, чем мы занимаемся в классе на уроке.
ДЖИН Да. Но ты знаешь свои уроки, а я нет. Поэтому я пытаюсь хоть приблизительно понять...
РИК Если бы я хотел постоянно справляться каждый день?
ДЖИН Да.
РИК (пауза, потом долгий выдох) Вероятно, полтора часа. Два часа. Примерно столько.
ДЖИН Итак, мне видится, что если ты хочешь играть в баскетбол — и похоже, ты действительно хочешь играть в баскетбол — это должно означать... чтобы играть в баскетбол, ты намерен посвящать от полутора до двух часов домашнему заданию. Я правильно это понимаю?
РИК Ну.
ДЖИН А тебе не составит труда думать о нем, ну, как вроде о расширении баскетбольной практики, или как о том, что тебе следует сделать, чтобы иметь возможность играть в баскетбол? Это как-то поможет тебе сопротивляться лени?
РИК (колеблясь) Да-а-гм.
ДЖИН Я не могу... это было одно из тех “да”, когда я не уверен, говоришь ли ты это, потому что действительно веришь в это, либо идея вроде бы хорошая, но ты не хочешь меня разочаровывать.
(Эллисон улыбается и смеется.)
РИК Да нет. (смех) Ну... я верю в это... вроде бы.
ДЖИН Ты веришь в это, но ты не уверен, хотя ты и веришь в это, что ты сможешь запустить это в действие?
РИК Да.
(Мы пропускаем часть беседы и идем дальше. Рик рассказывал о специальной программе задержки после уроков, в которую его включили.)
ДЖИН Итак, мне представляется, что эта лень — за неимением лучшего слова — прямо сейчас, влияет на твою жизнь, то есть заставляет тебя участвовать в этой специальной программе. Верно?
РИК У-гу.
ДЖИН Как эта программа называется?
РИК Ресурс.
ДЖИН Что включает пребывание в Ресурсе?
РИК Ты должен выполнить всю домашнюю работу.
ДЖИН А если твоя домашняя работа не выполнена, тогда...
РИК За каждые три задания, которые ты не выполнил, тебя оставляют после уроков на 20 минут.
ДЖИН Итак, лень также и добивается того, чтобы тебя задерживали после уроков?
РИК Ну.
(Здесь мы снова пропускаем отрывок. Рик объяснил, что сейчас он отстает лишь на одно задание. Сейчас он находится в середине процесса объяснения того, насколько он отставал раньше. Его учитель выписал все его пропущенные задания на доске, и...)
РИК ... эти пропущенные задания заняли пол-доски!
ДЖИН (смеясь) О-го!
РИК Это за то время, что я учился в этом классе.
ДЖИН Тогда ты действительно многое нагнал, если у тебя только одно...
РИК Мне не достает одного, и я попытаюсь сделать его сегодня вечером.
ДЖИН А как долго ты участвуешь в этой программе?
РИК (смотрит на Эллисон)
ЭЛЛИСОН Ты там вторую неделю. Верно?
РИК Да, я думаю я там дней десять или около того.
ЭЛЛИСОН Да, это вторая неделя.
ДЖИН О-го.
РИК На самом деле, мне не хочется говорить перед своей мамой, сколько я пропустил, но я пропустил 26 заданий!
ЭЛЛИСОН (глубоко вздыхая) О, Боже.
ДЖИН Ты понимаешь, какой это сюрприз для меня? Я имею в виду, я сидел здесь разговаривая с тобой, как... Понимаешь, ты убедил меня в том, что лень так прибрала тебя к рукам, что ты не можешь упорно работать. Однако, если я верно слышу тебя, то в добавок ко всем своим ежедневным заданиям, которые ты получаешь с того дня, как попал в программу, ты еще справился с 25-ю другими заданиями!
РИК У-гу.
ДЖИН Это правда?
РИК Ну.
ДЖИН Хорошо, ты можешь понять, что все это дает мне что-то вроде двух разных картинок про тебя?
РИК Одна из причин, по которой я сделал это, была в том, потому что за каждые три из тех заданий ты получаешь 20 минут после уроков, а заданий было 26, в общем, это около девяти раз... Это 210 минут заданий! Поэтому я выполнил их целую кучу, и мне понадобилось четыре дня, чтобы выполнить все. А потом, мне все же одного не достает, но мне придется выполнить его сегодня вечером.
ДЖИН Ну, и что ты думаешь? Ты думаешь, что сделаешь его сегодня вечером? Или ты думаешь, что на тебя навалится лень и помешает тебе сделать это?
РИК Я выполнял его по пути сюда, в машине.
ДЖИН Г-м... Ну и как, это тебя удивляет? Что ты был способен сделать так много за такое короткое время?
РИК (лукаво ухмыляясь) Да.
Это был единственный раз, когда я видел Рика. Во время консультации с Эллисон по другому поводу (шесть месяцев спустя) она сказала мне, что Рик все еще справляется со всей своей домашней работой и превращается в мощного нападающего в баскетбольной команде восьмого класса своей школы. *[Хотя мы не говорили об этом явно в то время, Эллисон позже сказала мне, что ожидания, сопровождавшие ее на ту терапевтическую встречу, не исключали возможности осуждения ее как матери. Допущение, что проблема была проблемой, а не Эллисон или ее родительская практика были проблемой, изменило историю Эллисон о себе как о родителе.]
ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ЗА ОДИН ГОД: ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИСТОРИИ И СМЫСЛА
Супружеская пара в этом примере впервые пришла ко мне (Дж. Ф) за год до этой встречи, уже подав на развод. Их брак выродился в течение двух лет с того момента, как у них родился первый ребенок.
Описание Мэгги ситуации состояло в том, что после рождения Мэттью она стала видеть Ричарда в новом свете. На ней лежала почти вся ответственность по уходу за Мэттью, тогда как жизнь Ричарда изменилась очень мало. Мэгги стала видеть в нем эгоизм и безответственность.
Ричард воспринимал Мэгги как человека, который изменился. До рождения Мэттью он находил ее жизнерадостной, энергичной и отзывчивой. Хотя он продолжал делать то, что делал всегда, он ощущал, что по отношению к нему у нее сохранилось мало чего, кроме злобы и критики. Она хотела ребенка, и он помог осуществиться ее мечте, но это, похоже, привело к обратным результатам для них обоих.
Через деконструктивные вопросы Мэгги и Ричард стали замечать ту роль, которую патриархальные паттерны культуры сыграли в формировании их взаимоотношений. Хотя на ранней стадии своего брака они сопротивлялись многим из этих паттернов, после рождения Мэттью эти паттерны взяли верх, определяя их роли и обязанности как матери и отца и лишая их много из того, что было уникально в их отношениях. В особенности, эти роли не устраивали Мэгги — для ее голоса и желаний осталось меньше пространства, чем у Ричарда — и это отсутствие соответствия позволило осуждению и озлобленности вклиниться между ними. *[См. Zimmerman and Dickerson (1993) и Adams-Westcott (1993), где приводится обсуждения понятие “соответствия” в терапии супружеских пар.] Осуждение и озлобленность привели к дистанции и страху.
Когда Мэгги и Ричард распаковали эту последовательность событий, они решили, что хотят сами отвечать за свои взаимоотношения, а не полагаться на патриархальные гендерные роли, которые, как стало ясно, не срабатывают в их случае. Они страшно много говорили о том, какими, по их мнению, должны быть их взаимоотношения, и очень серьезно перераспределили свои задачи и обязанности. Это было непросто. Привычки, которые они теперь считали плохими, совершили жестокий набег на их жизнь, и иногда они оказывались втянутыми назад в старые методы общения, в которых правили гнев и страх.
Во времена следующей беседы эта пара встречалась со мной один раз в 3-5 недель в течение года. Хотя они уже прекратили все судебные разбирательства по разводу, повод для раздора, который все еще пролегал между ними, касался семьи Ричарда. Когда они нанесли им визит, семья Ричарда уделила массу внимания Ричарду и Мэттью, и очень мало — Мэгги. Ощущения себя нечеловеком или невидимкой доминировали в переживаниях Мэгги. Ричард был более легко втянут в старые формы отношения к Мэгги в контексте его семьи, и беспокойство о том, как с ней будут обращаться, совсем не давало Мэгги расслабиться.
Кроме того, между родителями Ричарда и Мэгги были разногласия по поводу того, как им следует обращаться с Мэттью и к чему его надлежит побуждать. Большая часть этих разногласий коренилась в различиях их религиозных убеждений и обычаев. Во время визитов в дом его детства, старые привычки, включая религиозные обычаи, казалось, брали Ричарда в плен. Эта приверженность старым методам действия не позволяла ему поддерживать Мэгги в той степени, которая им обоим казалась достаточной, и недостаток поддержки вымостил путь для гнева и дистанции между ними.
Поскольку дискуссия по поводу посещения семьи Ричарда окончилась растерянностью, беспокойством, разочарованием и озлобленностью, пара решила, что Ричард и Мэттью пойдут без Мэгги. Они подготовились к визиту, совместно решив, что надлежит и не надлежит делать Мэттью, и Ричард преисполнился убежденности, что его стараниями будут вознаграждены надежды супружеской четы, а не идеи, обуревающие его родителей.
Во время визита, как Мэгги узнала из телефонного разговора, Мэттью принял участие в религиозном ритуале, который не соответствовал ее верованиям. Дискуссия по этому поводу быстро дала повод гневу и чувствам непонимания друг друга взять верх над их взаимоотношениями.
Стенограмма начинается с того, что Мэгги описывает, что выяснилось несколько часов спустя после возвращения Ричарда и Мэттью домой. Читая ее, вы, возможно, захотите обратить внимание на использование вопросов развития истории и смысла.
МЭГГИ В воскресенье я была готова его убить. Я была абсолютно готова убить его. И я попросила его уйти из дома. И я была просто мертвенно-бледной, и я знала, что была мертвенно-бледной. Я просто сказала: “Убирайся из дома. Давай! Давай! Просто оставь меня. Убирайся из дома. То есть, сначала мы уложим Мэттью спать, и...” Это была мучительная ночь. Самолет вылетал поздно. Он выбрал действительно очень поздний рейс. Было уже поздно. У меня на руках был очень усталый, капризный ребенок. Потом он потерял один из своих чемоданов. Ричард оставил его на магазинной тележке, и он упал с тележки. Мне пришлось ждать с очень капризным ребенком в автомобиле, пока он 45 минут шарил по аэропорту, разыскивая его. Итак, где-то через два часа, мы наконец добрались до дома, и я была просто мертвенно-бледной. Я все больше и больше становилась невменяемой, и я сказала, что хочу, чтобы он ушел. Я хотела, чтобы он убрался из моей жизни. Я хотела, чтобы он убрался! Я хотела, чтобы он ушел из дома именно в этот момент времени. (Она начинает направлять свои реплики в сторону Ричарда.) И я знала, что сильно разгневана, и я просто подумала: “Убирайся отсюда!”
Я начала колошматить тебя в тот момент, когда ты стал защищать свою мать, уверяя, что она не скулила... Понимаешь, защищать свою семью — это худшая вещь, которую ты мог совершить в тот момент.
ДЖИЛЛ Итак, тогда... (пауза) Как вы ушли тогда, Ричард?
РИЧАРД Нет, я не ушел.
МЭГГИ Хорошо, тогда произошло вот что (поворачивается к Ричарду), ты решил, что ложишься в постель, а я решила... я спала на кушетке. И я пошла спать. Я не спала почти всю предыдущую ночь, потому что я с субботнего вечера была так огорчена всем этим. И (поворачиваясь к Джилл) мы вроде согласились, что он не придет домой вечером в понедельник, а я преподавала во вторник и четверг. У него была учебная группа в среду, так что нам не пришлось бы встречаться друг с другом.
ДЖИЛЛ. У-гу.
МЭГГИ А потом это случилось в понедельник, в детском саду, для Мэттью это был действительно трудный момент. Я пошла прогуляться — Мэттью теперь в детском саду — я пошла погулять с ним. Уходя на прогулку из классной комнаты, я на минуту вернулась, чтобы помочь другому ребенку надеть пальто, а Мэттью просто вскрикнул. Я имею в виду, он закапризничал, когда я покинула его на минуту. И... он очень устал и был очень огорчен. И, возможно, у него было какое-то ощущение, что мы с Ричардом дрались в автомобиле, хотя самая ужасная драка произошла после того, как его уложили в постель, и он заснул. И мы находились на кухне, достаточно далеко от его спальни. Но он просто отключился в ту минуту, когда я покинула комнату, и учитель, понимаете, сказал: “Что с ним происходит?” Ну, понимаете, учитель был расстроен. А Мэттью не соснул ни минуты за эти три дня, и я поняла, что все это оказывает действительно дурное влияние на Мэттью. В общем, я позвала Ричарда и сказала: “Слушай, ты можешь прийти домой сегодня вечером. Я научусь жить с этим. Знаешь, что действительно важно, так это благополучие Мэттью, и нам надо прекратить драки”. Итак, я сказала, что он может прийти в понедельник на ночь. Я имею в виду, прийти домой к обеду, а не шляться где-то, пока я не лягу спать. И кроме того, это звучит действительно по-дурацки, но я понимаю, что в 95% времени он все делает замечательно. Он — замечательный родитель. Он делает кучу работы по дому. Ему так здорово удавалось хранить порядок вещей. Есть просто одна вещь. Я отключаюсь.
ДЖИЛЛ У-гу.
МЭГГИ Vis-a-vis перед его семьей. Я так старалась. Прежде чем он отбыл, я дала ему список из 13 вещей, которые я хотела, чтобы он сделал. “Теперь ты знаешь, что у Мэттью есть лекарство”, потому что у него легкая инфекция легких и он принимает лекарства. Я сказала: “Я хочу, чтобы ему давали его лекарство. Я хочу, чтобы изредка он мог вздремнуть. Убедись в том, что у него есть жевательная резинка для полета на самолете”. (поворачивается к Ричарду) На самом деле, я забыла упомянуть жвачку, но я дала тебе несколько пластинок. И я прекрасно чувствовала себя в пятницу. Я отвезла его в аэропорт. Я покаталась на велосипеде. Я сходила на великолепный ужин. В субботу я работала весь день. В субботу вечером я поужинала в доме подруги. Я чувствовала себя прекрасно. Я заботилась о себе. Я думала, что все делаю как надо, действительно. И я думаю, я все бы делала замечательно и в воскресенье, если бы он только защитил меня от всего этого происшествия, которое случилось в Нью-Йорке. Г-м...
ДЖИЛЛ Хорошо, послушайте. Могу я остановить вас на минуту? (Мэгги кивает головой.) А теперь, сказали бы вы, когда впервые пришли ко мне... вы сказали, что в 95% времени Ричард великолепен. Что бы вы сказали раньше? Какой процент вы ему выставили бы?
МЭГГИ От 25 до 30. (пауза) Отчасти, это потому что он не был так великолепен в работе по дому. Он не так великолепно относился к Мэттью. Он не был внимателен. Я имею в виду, что его поведение изменилось в огромной степени.
ДЖИЛЛ Да, это значительный итог. А когда вы оглядываетесь назад, оценивая эту разницу, о чем это вам говорит?... (пауза, Мэгги выглядит озадаченной). Хорошо, позвольте мне тогда задать другой вопрос. Как вы думаете, что позволило Ричарду достичь 95%?
МЭГГИ О! Я полагаю, он хотел сохранить этот брак.
ДЖИЛЛ У-гу. Хорошо. Итак, брак был важен настолько, что все эти изменения могли произойти, и зная это, какой подтекст это имеет для вас?
МЭГГИ О, я тоже согласна остаться в этом браке. Это просто...
ДЖИЛЛ Хорошо, погодите. Прежде чем вы продолжите... (к Ричарду) А вы осознавали это? Что Мэгги тоже согласна остаться в этом браке?
РИЧАРД Ну... ночью в Воскресение она не была согласна, но на следующий день она сменила свою мелодию.
МЭГГИ Знаете, год назад я бы вспылила, вспылила и еще раз вспылила. Теперь я могу сказать: “Хорошо, я действительно утеряла контроль. Я страшно огорчилась. И я знаю, из-за чего я огорчилась, но это сравнительно малая часть моей повседневной жизни”.
ДЖИЛЛ Хорошо. (оборачиваясь к Ричарду) Итак, согласно Мэгги, вы изменились на 75% в лучшую сторону. Какой процент вы назначите ей за тот же период времени?
РИЧАРД Ну... (длинная пауза) Ну и ну, я не знаю. Я об этом действительно не задумывался.
ДЖИЛЛ Хорошо, сейчас она дала мне пример, показавшийся мне действительно верным, что год назад это было бы нечто, что длилось бы очень долго и требовало бы массу вещей, чтобы что-то изменить. Поэтому, вероятно, есть множество других вещей...
РИЧАРД Просто ее освобождение от этого...
ДЖИЛЛ Верно! Хорошо, не хотите ли вы сказать...
РИЧАРД Это было определенно замечательное изменение, и я не знаю, могло ли это произойти год назад.
ДЖИЛЛ Хорошо. А какие другие вещи, по вашему мнению, изменились в Мэгги? То, что не могло произойти год назад?
РИЧАРД Ну, я думаю, она явно больше стала ценить меня и то, что я делаю, хотя я полагаю, что... что это, может, из-за того, что я делаю больше того, за что меня можно ценить, вместо того, чтобы пытаться непременно ее изменить. Я не знаю. Я думаю, что она... она также была очень заботлива по отношению ко мне, когда я позже стал более активен в поисках работы. Я не знаю, она могла бы сделать это и год назад, но сейчас я ощущаю, что она проявляет подлинный интерес к тому, чтобы помочь мне получить работу, более меня удовлетворяющую.
ДЖИЛЛ Есть одна вещь, которая, как мне представляется, действительно изменилась. Насколько... Похоже, что больше года назад она была настороже, и что она действительно расслабилась, потеплела и стала более открытой. Вы согласны с этим? (Ричард утвердительно кивает головой.) Хорошо. Итак, как по-вашему, на сколько процентов она изменилась?
РИЧАРД Г-м... я не знаю... я тоже дам ей 75.
ДЖИЛЛ Хорошо. А теперь...
МЭГГИ Это больше, чем я дала бы себе сама.
ДЖИЛЛ Сколько вы бы себе назначили?
МЭГГИ 40.
ДЖИЛЛ Что вы думаете...
МЭГГИ Я думаю, что он на самом деле изменился больше, чем я.
ДЖИЛЛ У-гу.
РИЧАРД На самом деле, я хотел сказать 50, но, я хорошенько подумал... зачем осторожничать? (Все трое смеются.)
ДЖИЛЛ Однако 50 все же больше, чем она дала бы себе сама. (к Мэгги) Как вы думаете, что он видит в вас такого, что вы сами, возможно, не признаете в себе, если он присуждает вам больший процент?
МЭГГИ Может быть, теплоту.
ДЖИЛЛ У-гу.
МЭГГИ Я так думаю, что, из-за того, что он делает гораздо больше вещей, я стала менее строга к нему. И я не ощущаю, что я стала теплее. Я просто ощущаю, что он реже попадает в неприятные положения. Потому что я всегда налетала на него, так как он делал так мало. И мне всегда приходилось говорить ему: “Сейчас тебе надо перепеленать Мэттью, тебе надо сделать это, тебе надо сделать то”. Знаете, теперь...
ДЖИЛЛ Хорошо. Я хочу вернуться к тому, сколько удается сделать Ричарду в минуту, но сначала я хочу задать другой вопрос. Который, г-м... если бы вы обладали той теплотой, которую в вас ощущает Ричард, как бы это изменило ваше будущее?
МЭГГИ Если бы я обладала теплотой?
ДЖИЛЛ Если бы вы чувствовали ее, верили в нее, ощущали ее в себе, как ощущает ее в вас Ричард. Как бы это изменило ваше будущее?
МЭГГИ Мое личное будущее?
ДЖИЛЛ Ну, какое угодно. Ваше личное будущее, ваше совместное будущее...
РИЧАРД Если бы она поверила, что в ней есть теплота?
ДЖИЛЛ У-гу.
МЭГГИ Я полагаю, это дало бы мне больше силы.
ДЖИЛЛ Г-м.
МЭГГИ (задумываясь) Если бы я чувствовала, что у меня есть эта способность, быть теплой. (к Джилл, повышая голос) На самом деле, я действительно обладаю способностью быть теплой и любящей.
ДЖИЛЛ У-гу
МЭГГИ И иногда я такая и есть.
ДЖИЛЛ Хорошо, какой точно тип силы?
МЭГГИ Хорошо, это просто дает мне более широкий диапазон средств для общения с людьми. Это звучит страшно манипулятивно, но... понимаете, я могу, на выбор, быть теплой или не быть теплой.
ДЖИЛЛ Вы имеете в виду, что у вас было бы больше гибкости, больший диапазон возможностей?
МЭГГИ Да. Я полагаю.
ДЖИЛЛ Как вы думаете, что обладание большей гибкостью и диапазоном возможностей изменило бы в ваших взаимоотношениях?
МЭГГИ Ну, возможно, это помогло бы мне лучше приспосабливаться, быть более... лучше уступать.
ДЖИЛЛ У-гу. Что вы уже делаете. Итак, всего этого будет даже больше?
МЭГГИ. Возможно. Да.
ДЖИЛЛ Хорошо. Замечательно. Итак, вы сказали, что... вы уже начали отвечать на этот вопрос и немного опередили меня. Как, по вашему мнению, те изменения, которые осуществил Ричард, поддерживают и вносят вклад в ваши изменения?
МЭГГИ Хорошо, одна вещь, которая приходит на ум, это его теперешняя привычка звонить мне... Он каждый день звонит мне с работы. Знаете, обычно это пять минут. Это “Как дела?” И это напоминает действительно приятное послание “Я забочусь о тебе”. Я вспоминаю, что впервые упомянула, что мне плохо оттого, что он мне не звонит, когда Мэттью было восемь месяцев, но понадобилось полтора года, чтобы это дошло до него. И, по какой-то причине, примерно год назад, даже меньше, ты начал звонить мне каждый день. И г-м... я потеряла мысль. Где я остановилась? Простите, какой вопрос вы задали?
ДЖИЛЛ Что есть в Ричарде такого, что подготавливало те перемены, которые вы совершили?
МЭГГИ Ах, да. Я использовала это в качестве примера. Я думаю, что именно это сообщение типа “Я забочусь о тебе” заставило меня больше ему доверять и, вероятно, быть менее настороженной.
ДЖИЛЛ Верно. О’кей.
МЭГГИ Вы хотите еще несколько примеров?
ДЖИЛЛ А у вас есть?
МЭГГИ Хорошо... он замечательно осуществляет свои проекты. Это просто невообразимо. (Она поворачивается к Ричарду.) Я имею в виду, ты не подделывал чеки. (Она отворачивается.) Счета оплачиваются вовремя. Я не слышала ни слова о кредиторах. Автомобили отремонтированы. Понимаете, это поразительно. Автомобили даже вымыты и вычищены. Это чудо! Мэттью принимает ванну три раза в неделю, и это очень важно. Раньше мне приходилось говорить: “Знаешь, давай, его не мыли пять дней. Купать его — твоя обязанность, а от него пахнет”. А теперь он купается регулярно. И на Ричарда можно вполне положиться, когда он забирает Мэттью. Год назад я забирала Мэттью по вторникам и четвергам. Я не преподавала так много и я гораздо больше делала тогда.
ДЖИЛЛ У-гу.
МЭГГИ Мы вроде как бы сместили некоторые из этих обязанностей. И поэтому мне не о чем беспокоиться. Мне не надо беспокоиться по поводу денег. Мне не надо беспокоиться о налогах. Ты даже сказал, что нам следует пересмотреть бюджет. Я была поражена! И это такое облегчение — не работать на двух работах по совместительству с двухлетним ребенком на руках. Я имею в виду, это замечательно, что моему сейчас три года. Понимаете, в прошлом году у меня просто было гораздо больше ответственности. И даже еще больше годом раньше. А ответственность была так непропорционально распределена. Я думаю, то, что он берет на себя всю эту чепуху и крутится с ней, делает меня более счастливой.
ДЖИЛ У-гу. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Итак, Ричард, похоже, что вы стали гораздо более активным человеком, который берет на себя гору инициативы и ответственности. Вы это чувствуете?
РИЧАРД Да, я действительно чувствую себя более активным и занятым. Берущим на себя более широкий диапазон ответственностей и выполняющим их. Мне это нравится.
ДЖИЛЛ Да.
РИЧАРД Я рад, что помогаю Мэгги облегчить ее ношу.
ДЖИЛЛ А как, по вашему мнению, изменения в Мэгги поддерживают и способствуют этим изменениям в вас?
РИЧАРД Хорошо, проявляя теплоту ко мне, она дает мне почувствовать, что все это того стоит. Поэтому уже здесь для меня содержится огромная мотивация.
МЭГГИ Плюс к тому, я всегда хвалю тебя, когда ты делаешь эти вещи. Я всегда, ты знаешь — “Спасибо за то, что ты его искупал” и “Ба, ты вычистил машину. Это великолепно!” В смысле, я говорю массу таких вещей.
РИЧАРД Да, ты великолепна в этом, и я действительно это ценю.
ДЖИЛЛ Итак, этот вопрос предназначен для вас обоих. Зная все эти вещи о себе — (к Мэгги) что вы действительно взяли на службу теплоту и стали человеком гибкости и доверия, а вы (к Ричарду) стали гораздо более ответственным, активным и занятым — зная эти две вещи о себе и о друг друге, как вы думаете, как эти вещи в будущем будут влиять на те 5%, которые все еще проблематичны?
Затем Мэгги и Ричард начинают развивать умозрительное будущее, касающееся другого отношения к родителям Ричарда. Они уже одновременно немного стали жить этой историей в последующие месяцы.
НЕ ЗАБЫВАТЬ О ДОВЕРИИ, ИМЕТЬ ПРАВО ГОЛОСА: ВОПРОСЫ В ДЕЙСТВИИ
Следующая стенограмма демонстрирует использование всех пяти типов вопросов, которые мы описали в предыдущей главе — вопросов деконструкции, открытия пространства, предпочтения, развития истории и смысла.
Здесь также зафиксирован важный эпизод в истории Холли. На самом деле, Холли нуждалась в терапии еще за более чем семь лет до этой беседы. Сначала она пошла на индивидуальную терапию, а потом они с Робертом пошли на терапию для пар. Все это было вызвано чувствами беспокойства и недоверия, которые мучили Холли почти в течение всего ее 19-летнего пребывания в браке. Мое (Дж. Ф) понимание предыдущих терапий заключалось в том, что они фокусировались на изменении чувств Холли. Перед этой беседой я дважды встречалась с Холли и Робертом как с парой. Я пыталась слушать деконструктивно и понять чувства тревоги и недоверия — их влияние на эту пару, и что могло способствовать им.
После двух этих встреч, пока Роберт был в командировке, Холли пошла в его офис и обшарила его стол. Она обнаружила, что он регулярно дарил подарки и большие суммы денег некоей женщине, и что он покупал этой женщине авиабилеты как раз в те места, куда он летал на “деловые встречи”.
Холли позвонила этой женщине, которая умоляла Холли оставить ей машину, которую ей купил Роберт, и сказала: “Вы не думаете, что я — первая, не так ли?”
Роберт отрицал открытие Холли, пока улики не стали неопровержимыми. Потом между ними имели место: плач, мольбы и молчание. На момент этой встречи, они жили вместе, но обсуждали возможность развода.
Роберт решил не возвращаться на терапию. Холли пришла одна. Эта встреча происходила две недели спустя после ее открытия. В течение тех двух недель мы встречались, обсуждали это открытие и что оно значило для Холли.
ДЖИЛЛ Та беседа, которую мы вели в прошлый раз, навела вас на какие-то новые мысли или...
ХОЛЛИ Я просто думала... думала о том, когда я была маленькая и росла, знаете, как все тогда было. И я имела беседу со своей сестрой после того, как встречалась с вами. Мы просто говорили о семье как целом. Знаете, она сказала, что она хорошо отделалась, а она думает, что я — нет. И я не думаю, что это из-за того, что мой брак в таком ужасном состоянии, но она сказала это. Это было очень странно, потому что я сказала, знаете, что мы с вами говорили о том, как я росла в такой сексистской ситуации вокруг, понимаете? И я не знаю, как это связано, но она заговорила об одной ситуации, и я сказала ей: “Я не знаю почему, но очень часто эта конкретная сцена внезапно приходит мне на ум”. И она сказала то же самое. Этот момент, наша семья — мы, трое детей, моя мать и отец... Когда я подносила обед, ставила блюда на стол, я не помню, что происходило в эту минуту. Мой брат, мой маленький брат и я всегда, бывало, пикировались за столом. И все, что я помню, это что мой отец встал из-за стола, взял весь стол — еду, посуду, все, стулья — и опрокинул его. Предметы летали по всему помещению, и везде валялись осколки стекла. Все развалилось, и моя мать просто стояла там и не проронила ни слова. А потом, я не знаю, что случилось. Я полагаю, она просто прибрала все. Это судьба, что мы обе сказали, что помним это. Вот это сцена!
ДЖИЛЛ Какое значение это имело для вас?
ХОЛЛИ То, что моя мать, если подумать об этом, она даже ничего не сказала, понимаете? Она не встала в позу, не сказала что-то вроде “Какого черта? Ты что делаешь?” Понимаете, “В чем твоя проблема? Я знаю, что дети ругаются”, или что угодно. Но ничего не последовало. И это было похоже... это было ужасно. Это было действительно ужасно. Она просто стерпела это.
ДЖИЛЛ Как вы думаете, что происходило с ней, когда она это приняла?
ХОЛЛИ Я полагаю, я не знаю, она, должно быть испугалась. Это было достаточно страшно.
ДЖИЛЛ Как вы думаете, чтобы произошло, если бы она действительно встала в позу.
ХОЛЛИ Я не знаю. Может, было бы хуже.
ДЖИЛЛ Как вы думаете, есть ли в мире идеи, которые могли побуждать ее сохранять спокойствие такого рода?
ХОЛЛИ Да, я думаю так. Она, вероятно, думала, что ей полагается успокаивать все, защищать нас, детей.
ДЖИЛЛ Итак, вы считаете, что в нашей культуре для женщин существуют некоторые предписания — не занимать позицию, выводить других на первые места?
ХОЛЛИ Да, я так считаю.
ДЖИЛЛ Как, по вашему, эта модель повлияла на вас?
ХОЛЛИ Ну, я думаю, она заставила меня... Когда я вспоминаю свои взаимоотношения с Робертом, бывали такие ситуации, когда я не проронила ни слова, хотя мне следовало это сделать. Я, бывало, говорила себе: “Нет, не говори ничего, потому что это положено сделать ему”. Я вспоминаю ситуацию годы и годы тому назад. Мы поженились чуть больше года назад. И я услышала, как он разговаривает со своим братом по телефону. Его брату были нужны деньги. У нас денег не было. Я работала и мне приходилось платить за квартиру. Лишних денег у нас не было. А он дал своему брату деньги, и я, помню, думала про себя: “Хорошо, ничего не говори. Это его брат. Ему следует иметь возможность давать своему брату деньги”. Но это было нечто, что мой муж решал без меня, понимаете? Он мог бы сказать: “Холл, я знаю, что у нас нет денег, но, как ты думаешь? Дать мне ему взаймы или не дать? Можем мы себе не позволить это?” Мне следовало сказать что-то, но я сказала, хорошо, это его брат, он все делает правильно. Но он никогда не говорил со мной. Итак, я полагаю, видя в своей матери эту модель, я не посмела сказать ничего, когда мне следовало сказать что-то. Если бы, конечно, я не причинила никакого вреда, говоря что-то.
ДЖИЛЛ Интересно, какие у вашей матери были модели, которое поставили ее в ту ситуацию?
ХОЛЛИ Да. Я уверена, их было больше, чем сегодня.
ДЖИЛЛ Как вам видится, что побуждает к таким образам существования?
ХОЛЛИ Ну, как мы говорили в прошлый раз, и о чем я разговаривала со своей сестрой, знаете, это отношение мужчин к женщинам как к собственности и их стремление подчинить все себе, и что бы они не думали...
ДЖИЛЛ А какие ситуации лишают женщин голоса, учитывая те установки, которые наше общество поощряет в мужчине?
ХОЛЛИ Это вся модель, касающаяся взаимоотношений. Что мужчины несут ответственность, и вы знаете, женщины ничего сказать не могут.
ДЖИЛЛ А как, по вашему мнению, эта модель повлияла на вас?
ХОЛЛИ Ну, понимаете, я сделала все. Все вещи, которые я сделала, знаете, отдала, сделала или не знаю что. Я всегда была единственным, кто давал и, понимаете, это приятно делать и отдавать — все самой. Сейчас это мне неприятно, потому что я чувствую, как будто меня просто ударили по лицу...
ДЖИЛЛ Как вы думаете, эта модель взаимоотношений, в которой вы все делаете и все отдаете, а он всем распоряжается — это то, что вы хотите для себя?
ХОЛЛИ Нет. Я не хочу. Я просто подумала, я была преданной...
ДЖИЛЛ А вы не думаете, что модель всегда отдающей женщины и всегда правящего мужчины заманивает людей в не подходящие для них формы поведения, заставляя думать, что это то, что надо делать, чтобы быть любящей, преданной?
ХОЛЛИ Да, я догадываюсь. Я не думала об этом раньше, но, похоже, что это так.
ДЖИЛЛ У-гу. Хорошо. Итак, вы сказали, что эта модель взаимоотношений как бы лишила вас голоса?
ХОЛЛИ Да.
ДЖИЛЛ Вы видите это в других областях вашей жизни, или это, главным образом, происходит в вашем браке?
ХОЛЛИ Г-м, я вижу это иногда, знаете, когда я не намерена ничего говорить или не намерена... Знаете, может, сейчас мне это удается лучше, чем обычно, когда я высказываюсь, когда считаю это нужным. Но все же это трудно.
ДЖИЛЛ Когда вы говорите, что это вам лучше удается, где вы видите... приходит ли вам на ум какой-то конкретный случай, когда вы смогли вырваться из этой модели?
ХОЛЛИ Да, знаете, я иногда бываю в ситуациях, когда, знаете, что-то может продолжиться, а я просто... вместо того, чтобы дать этому пройти полностью, замечаю, что меня провели. Я могу дать этому пройти немного, подумать об этом еще немного, а потом вернуться к нему. Тогда как раньше я просто позволяла этому ускользнуть и забыть о нем. И все же, иногда я разочаровываюсь. Может, я действительно позволяю этому ускользнуть и забыть об этом. Но я думаю, я... я думаю, сейчас я чаще хватаюсь за эту возможность.
ДЖИЛЛ Прекрасно. О’кей. У вас есть определенное время, когда вы ловите эту возможность.
ХОЛЛИ Г-м... хорошо, я могла бы припомнить несколько ситуаций, но я думаю, что одна из них отличается кучей терпения — это когда моя мать пригласила моего отвратительного дядюшку на праздники.
ДЖИЛЛ Да.
ХОЛЛИ И мне пришлось собрать все, что во мне было, чтобы сказать моей матери: “Если ты пригласишь его, — сказала я, — я не собираюсь оставаться здесь, тем более если это будет в моем доме. Я не хочу, чтобы он появлялся здесь”. Может, это было... я не помню, какой праздник. Я сказала: “Если ты хочешь, чтобы он был здесь, прими его в своем доме, или первый вечер праздника мы будем отмечать в моем доме. Скажи ему, чтобы он не приезжал раньше второго вечера, потому что я не хочу находиться рядом с ним”. Мне пришлось собрать все, что во мне было, чтобы высказать ей все это.
ДЖИЛЛ Но вы это сделали.
ХОЛЛИ Я сделала это.
ДЖИЛЛ Как вам удалось заставить себя сделать это?
ХОЛЛИ Г-м, я не знаю.
ДЖИЛЛ Что за этим последовало?
ХОЛЛИ Ну, это было круто. Я все думала, г-м, о’кей, сейчас он нездоров, понимаете? Бог его знает, я точно не знаю, в чем состоят его проблемы со здоровьем. И я думала, ну, вы понимаете, такой больной, хорошо, о’кей, могу я выдержать это в течение одного вечера? А потом я продолжала... обратная сторона меня говорила: “Ни в коем случае. Он здесь на каждые праздники... мне придется выслушивать эти омерзительные... Он просто полный придурок. Будучи больной не менее его, действительно ли я должна терпеть все это? Должен ли каждый праздник превращаться в катастрофу из-за его персоны?” И я, знаете, просто сказала: “Я не могу слушать этого человека. Я просто не могу”. Сначала я поговорила со своим отцом. Я не знаю почему, ведь он находит эти грязные шутки и оскорбительные суждения уморительными. Я сказала: “Папа, я этого не вынесу”. Мой отец сказал: “Хорошо, я поговорю с ним”, понимаете. Но он этого не сделал, и наконец я просто сказала моей матери, знаете, “Я не хочу находиться рядом с ним”.
ДЖИЛЛ Как вы думаете, если бы у нас была возможность как бы взглянуть назад, из сегодняшнего дня в те времена, могла там быть некая точка поворота, которая позволила вам думать, что у вас есть право голоса в этой ситуации?
ХОЛЛИ Я не уверена, что я...
ДЖИЛЛ Хорошо, как вы думаете, там было некое постепенное выстраивание, приближение к чувству, когда вы могли сказать: “Нет, я не собираюсь находиться рядом с этим человеком”? Или вы думаете, что это случилось прямо тогда? Понимаете, мне интересно, как и в отношении вещей, которые происходят в вашей жизни, что помогло вам выстроить базу для этой точки?
ХОЛЛИ Да, я... я не могу точно определить и сказать вам, что именно, но я уверена... я уверена, что было... Я не думаю, что просто так, мгновенно решилась на это.
ДЖИЛЛ Итак, у вас есть ощущение, что были другие вещи, которые позволили вам думать, что вам действительно не следует терпеть все это?
ХОЛЛИ У-гу.
ДЖИЛЛ О’кей. Как давно это было?
ХОЛЛИ Это было в прошлом году.
ДЖИЛЛ В прошлом году.
ХОЛЛИ Да.
ДЖИЛЛ Однако это чувство, что у вас есть право на голос, оно нарастало? Или вы сказали бы, что оно просто...
ХОЛЛИ Да, конечно. На самом деле, это зависит , знаете, от ситуации. Оно действительно растет.
ДЖИЛЛ Итак, есть такие контексты, в которых оно развивается, и другие контексты, в которых оно еще не пробудилось?
ХОЛЛИ Верно.
ДЖИЛЛ Итак, как вы чувствуете, в каком контексте оно развивается наиболее успешно?
ХОЛЛИ Г-м, я думаю, что сейчас я немного более уверена, знаете, когда разговариваю со своим отцом. Как на днях, когда я сказала ему: “Послушай, что случилось с мамой? Она просто... я имею в виду, я знаю, что она несчастна”.
А он говорит: “Хорошо, у тебя есть время?” И я сказала: ”Хорошо, что в конце концов это такое? Я говорю с ней, а она так злобно отвечает мне по телефону. Она знает, что есть проблемы, и сказала ей, что я несчастна лишь по той причине, что надеялась, что она не будет меня изводить, а она, понимаешь, просто озлобилась. Вы для того вернулись из Флориды, чтобы видеть чаще детей?” Я сказала: “Знаешь, пап, у меня сейчас достаточно своих собственных проблем. Знаешь, вы изводите меня своими мрачностями”.
Понимаете, мой отец постоянно говорит, что с детьми нашего поколения происходит что-то не то. Они не уважают семью, и они не ориентированы на семью. Когда они были в нашем возрасте, они навещали родителей каждое воскресенье, и все в этот день посвящалось семье.
А я просто сказала: “Эй, папа, в наши дни есть отличия. Наше поколение, как знаешь, не отсиживает с девяти до пяти. Знаешь, они работают. У меня есть муж, который на работе надрывает задницу. Он много ездит, его никогда нет поблизости. Воскресенье дома — сказать по правде, ему не хочется целый день сидеть в вашем доме. Мне тоже. Понимаешь? Мы хотим расслабиться. Мы хотим побыть с вами, но мы хотим расслабиться”.
Они, мой отец, просто не могут понять, что сегодня все по-другому. Итак, я думаю, этот голос развивается. Он помогает мне говорить немного больше. Хотя мне не удается осуществить прорыв. Я говорю, но не думаю, что мое сообщение доходит. Но, по крайней мере, я говорю лучше.
ДЖИЛЛ Да. Хорошо, я рада, что вы способны заметить, что вы говорите, хотя вас не всегда слышно.
ХОЛЛИ Верно.
ДЖИЛЛ Итак, одна область — это ваши родители. Вы способны иметь право голоса у них.
ХОЛЛИ У-гу.
ДЖИЛЛ А вы не замечали, не прибавилось ли голоса у вас в других областях?
ХОЛЛИ Г-м, я думаю, что действительно имею больше голоса при общении с Робертом. Определенно. Но снова, это разочаровывает, поскольку, я не думаю, что до него доходит. С помощью своих маленьких уловок я пытаюсь заставить его осознать некоторые вещи, финансовые ситуации... Я говорю: “А теперь, Роберт, ты понимаешь...” и говорю ему это снова и снова, понимаете. “Ты продолжаешь брать деньги, которых у нас нет, и отдаешь их”. Знаете, в один прекрасный день я сказала: “У нас ничего не будет. Никто не собирается снабжать тебя чеками”. Понимаете, я пытаюсь и побуждаю его, некоторыми способами, увидеть немного света с другой точки зрения, но... Итак, мой голос там присутствует, но, на самом деле, он не имеет веса.
ДЖИЛЛ Но, ничего. А теперь, как вы думаете, что это значит для вас — знать, что ваш голос присутствует в большем числе ситуаций?
ХОЛЛИ Г-м, я рада, что он там. Я думаю, он был... он обычно был там, но только в моем уме. Я обычно думала об этом, но никогда, знаете, не выражала это в словах. Я думаю, это также, знаете, показывает твои мнения. Я занимаю позицию, понимаете. Эй, это то, о чем я говорю! Это то, во что я верю!
Знаете, как бы мелочно это ни было, ох, как называется этот магазин? (пауза) Барниз. Мне случилось просто взглянуть на пару трусиков, что я купила там на распродаже. Я принесла их назад лишь несколько дней спустя, потому что их надо было обменять. И вот, я показала их продавщице, и она сказала: “Извините. Я ничего не могу сделать”.
Я подумала, погоди. Мне здесь дают от ворот поворот. Я сказала ей: “Это не так. Вы можете взять их назад”. А она посмотрела на меня и сказала: “Хорошо, я поговорю с управляющим”.
И я подумала, знаете, это было похоже... Я стояла там с минуту, а потом: я ведь такого не сделала бы и за миллион лет! Но я просто... что-то просто сказало: “Это не так”.
И она вернулась и сказала: “Мы дадим вам то, что вам подходит”.
Говоря это, я действительно удивила себя. Вроде бы это была мелочь, но я никогда... я не знаю, я просто не думаю, что когда-нибудь подняла бы шум раньше. Раньше я бы сказала: “Что ж, такова моя горькая участь”. Понимаете? Поэтому, я полагаю, здесь было отличие.
ДЖИЛЛ Да. Похоже также, что в этом случае вас услышали. А теперь, вы говорили, что вы никогда не сказали бы этого раньше?
ХОЛЛИ Нет. Не думаю.
ДЖИЛЛ Итак, что нового есть теперь в вас, что позволило вам сделать это?
ХОЛЛИ Я не знаю. Я... я не знаю. Понимаете, я надеюсь... мне не хочется думать, что я превращаюсь в большую зануду. Я имею в виду, я надеюсь, что все это не пойдет в таком направлении, но просто внутри, просто я говорю себе: “Нет, мне это просто не нравится. Это просто не подходит мне”.
ДЖИЛЛ Итак, можете ли вы сказать, что, когда вы чувствуете, что что-то неверно, вы теперь не будете занимать позицию, восставать против этого?
ХОЛЛИ Да.
ДЖИЛЛ Тогда как вы как бы занимали позицию... раньше, вы восставали против этого... даже хотя вы думали, что, похоже, это неправильно, присутствовала ли здесь эта модель, которая говорила, что вам надлежит делать?
ХОЛЛИ Да, я так полагаю. Да. Понимаете, раньше я думала, если бы она сказала: “Понимаете, такова наша политика”, я бы сказала: “Хорошо, я надеюсь, вы понимаете, что это моя горькая участь”, понимаете? Поэтому, это... даже если... то, что вы сейчас сказали. Не было похоже, что это правильно.
ДЖИЛЛ И вы доверяете этому?
ХОЛЛИ Г-м.
ДЖИЛЛ Хорошо. Как вы думаете, это важно?
ХОЛЛИ О, да
ДЖИЛЛ Каким образом это может быть важно, помимо этого случая?
ХОЛЛИ Я думаю, что доверяла себе раньше, но я не обращала внимание на доверие из-за этого — как вы это называете? Из-за этой модели. Итак, важность заключается в том, что, когда я знаю, понимаете, когда я чувствую что-то, над чем мне нужно работать, а не подавлять это.
ДЖИЛЛ Это что-то, что становится более... реальной часть. вашего образа действия?
ХОЛЛИ У-гу.
ДЖИЛЛ Как вы думаете, как это изменит вашу жизнь — знать, что вы можете работать над тем, что по вашему мнению, представляется правильным?
ХОЛЛИ Я думаю, я буду чувствовать себя гораздо более уверенной, чем вы знаете, когда я теряюсь в догадках, противоречиях или ничего не делаю. Знаете, я думаю, это держало меня в состоянии застоя.
ДЖИЛЛ Да. Итак, вы можете видеть, как движетесь вперед по жизни, вместо того, чтобы пребывать в застое?
ХОЛЛИ У-гу. Абсолютно так.
ДЖИЛЛ Хорошо, это представляется мне важным. У меня сохраняется чувство, что я должна спрашивать об этом еще и еще. Я хочу убедиться... Ничего, это нормально, что мы говорим об этом?
ХОЛЛИ Да.
ДЖИЛЛ Как вам кажется, это напрямую касается вас?
ХОЛЛИ Да. Это замечательно. Я однако полагаю, понимаете, когда вы говорите об этом, и я знаю, как вы сказали раньше, что, когда вы говорите о том, что происходит, например, о Роберте, и том, как... как все случилось. Знаете, это не моя вина, но каким-то образом я чувствую, что я просто была так глупа, знаете, что доверяла, а мне врали. Я не знаю. Я чувствую, что из меня сделали такую дуру, и я ощущаю себя такой глупой, потому что я обладаю такой верой, но не доверяла тому, что чувствовала внутри.
ДЖИЛЛ Что, по вашему мнению, важно для вас — знать или действительно обладать способностью оглянуться на это без того, чтобы на вас накатили чувства, связанные с глупостью? Я имею в виду, что было бы нужно для того, чтобы быть способным оглянуться назад и сказать: “Я рада, что для меня это позади”? Или, знаете, “Я кое-чему научилась”? Или что угодно? Понимаете, что я имею в виду? (пауза) Или, может быть, каково бы было вам чувствовать в настоящем или в будущей жизни, что это больше с вами не произойдет?
ХОЛЛИ Мне кажется, мне нужно убедиться в том, что я доверяю тому, что чувствую внутри и отстаиваю это любой ценой. Потому что я думаю, что страдала слишком много, чтобы не обращать внимание на зов.
ДЖИЛЛ У-гу. Вы понимаете, как, для меня, когда вы рассказывали мне, что в магазине... вы говорили: “Это неверно. Я не собираюсь делать это”. И вы намеревались вернуть им трусики. Вы понимаете, теперь, что для меня это напрямую связано с тем, что вы говорите о том, что вам понадобится сделать, чтобы чувствовать большую уверенность в своем будущем?
ХОЛЛИ У-гу. Да.
ДЖИЛЛ Что вы узнаете о себе, когда мы рассматриваем те вещи, которые вы делали?
ХОЛЛИ Я могу доверять себе.
ДЖИЛЛ Да. Вы обнаруживаете что-то, что касается ваших качеств как человека?
ХОЛЛИ Хорошо, я всегда знала, что была, знаете, верным другом или верной женой. Мне кажется, я узнаю то, что я могу быть верной самой себе.
ДЖИЛЛ Как вы думаете, что случится с этим дальше, что продвинет это больше в разные аспекты вашей жизни?
ХОЛЛИ Вы имеете в виду, обращать внимание на доверие?
ДЖИЛЛ У-гу. Да. Вроде того. Где еще вы смогли бы увидеть это?
ХОЛЛИ Ну, я не знаю. Может быть, это могло бы распространиться, знаете, на другие взаимоотношения или, знаете... возможно, поскольку я работаю, это может проявиться там. Это...
ДЖИЛЛ У-гу. А как вы могли бы представить, как это будет там? В общем, каков мог бы быть пример чего-то, чего вы, возможно, не сделали бы пять лет тому назад, но что вы могли бы начать делать в одном из этих контекстов?
ХОЛЛИ Хорошо, я вспоминаю ситуацию, которая имела место более пяти лет назад на той работе, где я работала. Я помню, как вошла и заговорила с этим парнем о... наступало время для моей аттестации и повышения по службе, и я говорила с ним, знаете, о моей аттестации, повышении жалования и всяком таком, и я помню, как он сказал мне — этот парень был одного возраста с Робертом и знал Роберта очень хорошо — и он взглянул на меня и сказал (это его точные слова): “Зачем тебе повышение? Роберт зарабатывает достаточно денег”. Я помню, как подумала про себя, что этот парень — величайшее ничтожество в мире. И я помню, что подумала, что ничего не могу сделать и не хочу гнать волну. И я подумала, что это несправедливо. И это не имело ничего общего... Роберт, знаете, мог бы быть Дональдом Трампом. Это не имеет ничего общего.
... Но я ничего не сделала. Я не сделала один шаг вперед. Я все оставила, как есть.
ДЖИЛЛ И как вы думаете, что бы вы сделали сейчас?
ХОЛЛИ Ах, сейчас. Я бы наделала неприятностей. Я бы пошла, знаете, по цепочке. Я имею в виду, я бы подала иск о домогательстве, если бы понадобилось. Я не знаю, назвали бы вы это домогательством, но... как бы то ни было — об оскорблении.
ДЖИЛЛ Вы подали бы иск об оскорблении?
ХОЛЛИ Верно. Вроде того. Да, я наделала бы неприятностей. Потому что заявления... такого рода и его действия были просто невыносимы, понимаете? Я думаю, что сейчас бы я встала в стойку и сделала бы что-то.
ДЖИЛЛ У-гу. Хорошо. Итак, было бы интересно увидеть, как... куда это ведет.
ХОЛЛИ О, да.
Сегодня, год спустя после этой беседы, Холли внимательно следит за доверием и регулярно использует свой голос. Она начала новую карьеру, которую находит весьма удовлетворительной. Она и Роберт сейчас находятся в процессе развода, и Холли доверяет себе в новых взаимоотношениях.
7 ОТРАЖЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Могущество идеи отражения состоит не в переключении пространств, но в переключении точек зрения.
— Джудит Дэвис и Уильям Лэкс, 1991, стр. 1
Использование позиции отражения мнений... лежит в основе политического акта, чья функция состоит в том, чтобы распределять власть среди всех разнообразных голосов в дискурсе, доминирующих и недоминирующих.
— Джеймс Гриффит и Мелисса Эллиот Гриффит, 1994, стр. 166
Представление о том, что существуют многочисленные способы описания конкретного события или взаимоотношения осуществляется в практике взгляда с различных точек зрения. Включая пространство и время, размышлению в терапии способствует опыт опыта, и именно посредством опыта отклика на наш опыт мы наделяем его смыслом. Тогда как практика отражения может иметь место, даже если мы формально не побуждаем к ней, такое “естественное” отражение мнений не обязательно фокусируется на предпочтительных аспектах опыта или новых нарративах, которые развиваются в ходе терапевтических бесед.
Начиная с 1950-х годов, когда терапевтические команды начали вести наблюдение, находясь позади зеркала Гезелла (полупрозрачного), в позиции наблюдения — под которой мы понимаем позицию выслушивания (относительную позицию “вне схватки”), находясь в которой, можно обсуждать события и осмысливать их по мере того, как они разворачиваются — стала доступна терапевтам. Когда Линн Хоффман (1981, стр. 4) пишет о зеркале Гезелла, она отмечает:
Покойный антрополог Грегори Бэйтсон говорит в Разуме и Природе (Mind and Nature) о преимуществе двухкамерного формата — о броске к новым перспективам или возникновении новых возможностей, которые следуют за размещением вместе двух глаз, двух рук, двух полушарий мозга. Этот формат относится также и к полупрозрачному экрану. Такой экран превратил терапию в двухкамерное взаимодействие, которое дает подобный шанс для исследования нового измерения. Есть два места, на которых можно сидеть. Можно занять какую-то позицию, а другой может занять позицию, комментирующую или освещающую эту позицию.
Когда мы впервые начали работать с командами за зеркалом, мы использовали позицию наблюдения по крайней мере двумя способами — как наблюдательный пункт, с которого поступают директивы и предложения для терапевтов, и как место, из которого собирается информация. Иногда мы обсуждали собранную информацию с терапевтами, находящимися перед зеркалом, после интервью. В другие времена мы устраивали перерыв во время терапевтического интервью с тем, чтобы сформулировать стратегии, сообщения или вмешательства, которые затем “назначенный терапевт” доставлял в область перед зеркалом, тогда как остальная часть команды оставалась вне видимости.
Многие из команд все еще используют эту практику, и, в зависимости от философии команды, может происходить дискуссия в свободной форме, приводящая к гипотезе, на основе которой формируется вмешательство, либо может применяться достаточно стандартная процедура, состоящая, к примеру, из начального предложения пожеланий, последующего составления списка исключений из проблемы и, наконец, представления предписания, которое связано с обращением внимания на эти исключения, их культивирование и выполнение. При процедуре такого рода к концу сеанса терапевт уходит за зеркало, оставляя семью перед ним. Затем команда устраивает скрытое от семьи обсуждение, формулируя единое послание — вне зависимости от того, существует ли изначальное соглашение между членами команды по поводу того, что должно собой представлять это сообщение *[Это положение представляет собой крайнюю степень упрощения. Сообщения команды могут отражать более чем одну возможность. Например, сообщение может содержать такие фразы, как “Женщины в команде думают, что... а мужчины думают, что...”, или “Некоторые члены команды предсказывают, что... тогда как другие не выражают такой уверенности”. Часто ответвления такого рода используются по стратегическим причинам. Они обычно описывают две возможности, как правило, геометрически противоположные, а не разнообразие возможностей.] — и доводя это сообщение через терапевта, который снова присоединяется к семье перед зеркалом после того, как заканчивается командное собрание.
Режим работы команды наблюдателей, впервые разработанный Томом Андерсеном (1987, 1991а) во взаимодействии членов группы с севера Норвегии, радикально отличается от вышеизложенного. Андерсен в течение нескольких лет обучался с миланской группой, и впервые мы услышали об этой инновации от Луиджи Босколо и Джанфранко Сеччина.
В режиме команды наблюдателей терапевт и люди, встречающиеся с терапевтом (кого в этом описании мы называем семьей), разговаривают вместе перед зеркалом, тогда как команда наблюдает из-за зеркала. В некоторый момент встречи терапевт и семья меняются местами с командой так, что команда оказывается перед зеркалом, а за ней наблюдают семья и терапевт, ушедшие за зеркало. Затем члены команды обсуждают свои идеи, вопросы и мысли, вызванные беседой между членами семьи и терапевтом, которую они только что прослушали. При командном обсуждении не предпринимаются попытки прийти к единому заключению. Когда члены команды заканчивают свои “рефлексии”, семья и терапевт снова меняются местами с командой, занимая свою изначальную позицию. Как только они устраиваются перед зеркалом, члены семьи имеют возможность комментировать то, что они услышали от команды.
Занимая позицию перед зеркалом и позволяя своим голосам быть услышанными, члены команды запускают в действие постмодернистские понятия о многообразии точек зрения, горизонтальных, сотруднических взаимоотношениях и о прозрачности. Буквально меняться местами с клиентами и открыто говорить о многообразии идей — это, возможно, самый драматический пример того, что изменяется при привнесении постмодернистского мировоззрения в помещение для терапии.
Вот комментарии Тома Андерсена и других людей, которые начали использовать свои собственные варианты этой идеи:
Процессы отражения... характеризуются попыткой сказать все в открытую. Все, что профессионал говорит о ситуации клиента, говорится так, что клиент может это слышать. (Andersen, 1993, стр. 306)
Беседы членов нашей наблюдательной группы пытаются смоделировать открытое исследование и честное обсуждение жизненных дилемм для семей, но никак не пытаются навязать специфический выбор того, как надлежит разрешать дилеммы (Griffith & Griffith, 1992b, стр. 50).
Команде наблюдателей следует держать в уме, что ее задача состоит в том, чтобы созидать идеи, хотя некоторые из этих идей могут не вызвать интереса у семьи, или даже могут быть отвергнуты. Важно понять, что семья выберет те идеи, которые ей подходят. (Andersen, 1987, стр. 421)
Членам размышляющей команды можно посоветовать не увлекаться освященными временем дискурсами структуралистской и функционалистской истины, применяемые в некоторых видах психотерапии. Их можно побудить к тому, чтобы реагировать на те аспекты развития, которые определяются членами семьи как предпочтительные и размышлять о тех направлениях развития, которые могли бы стать предпочтительными. (White, 1991, стр. 38)
Эти высказывания подчеркивают то, что привело нас к огромным переменам — от невидимых групп обучения семейной терапии к группам наблюдателей-участников, модель которых мы приняли как более подходящую практику для нарративных идей.
Первый раз, когда нам представилась возможность участвовать в группе наблюдателей, мы понятия не имели, что нам высказывать. Мы были частью группы начинающих. В пределах видимости и слышимости семьи все мы чувствовали недостаточно удобно для того, чтобы воспроизвести тот род живых бесед, в которых мы участвовали, находясь перед зеркалом. Кроме того, те беседы, в которых мы предлагали вещи из стратегических соображений или спорили о том, что, как мы думали, происходило “на самом деле”, казались неуместными, когда мы знали, что нас слушает семья. Мы начали испытывать неудобства в позиции команды за зеркалом, но мы не знали, что нам еще следует предложить. Над всем правила неловкая тишина, пока кто-нибудь, запинаясь, не начинал описывать свои наблюдения. Затем каждый из нас начинал говорить, но мы делали это в состоянии дискомфорта, подвергая себя критике по зрелом размышлении и неистово исправляя свои мысли по мере продвижения дальше. Мы чувствовали облегчение, когда наконец мы могли отступить за зеркало.
Позже, когда Майкл Уайт проводил консультации в нашем центре, он разработал структуру для таких команд и обсудил типы реакций участников, которые он находил полезными в своей работе. Как всегда мы находили эти идеи вполне полезными. Они сориентировали нас в том, как наблюдать за интервью в качестве членов команды и как реагировать вслух таким образом, чтобы это соответствовало другой части нашей работы.
Теперь, когда мы используем команды наблюдателей уже в течение нескольких лет, нам хотелось, чтобы мы могли использовать их в каждом терапевтическом интервью. Позже в этой главе мы обсудим то, как мы используем практики и позицию наблюдения, даже когда мы не в восторге от работы с командой. Но сначала давайте взглянем на текущие практики размышляющих команд. *[В истинно постмодернистском духе различные люди и различные команды развили различные методы отражения. См, напр., Penn and Sheinberg (1991), Madigan (1991), и Furman and Ahola (1992), где приведены идеи о различных методах структурирования интервью с использованием процессов отражения.]
ПРАКТИКИ КОМАНД НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Линн Хоффман (1992) сказала, что для нее единственной направляющей идеей для групп наблюдателей является то, что участники должны быть готовы на принятие позитивной и дружественной позиции и проявлять “неустанный оптимизм”. Шесть месяцев спустя после того, как мы услышали это заявление (когда терапевты в нашей учебной программе размышляли над своим обучением за предыдущий год), нам ярко о нем напомнили. Эл Росс сказал нечто, что встретило восторженное согласие со стороны всех остальных членов команды. Он сказал, что снова и снова он понимал, что это установка, а не техника, которая лежит в центре работы такого рода. Комментарии, подобные высказываниям Линн Хоффман и Эла Росса дают нам паузу, когда мы начинаем делиться основополагающими идеями по поводу групп наблюдателей. Возможно, предлагая идеи о том, что делать, мы отвлечем ваше внимание от более важного вопроса о том, как быть.
С другой стороны, наше давняя неловкость и смущение заставили нас с радостью попробовать ту структуру, которую предлагал Майкл Уайт. Этот опыт привел нас к тому, чтобы продолжать тщательно формулировать то, что, похоже, срабатывает для нашей команды. Мы предлагаем эти идеи, поскольку мы нашли их полезными в нашей собственной командной работе. Мы убеждены, что они помогают нам держать неловкость и смущение вне стен помещения так, чтобы мы можем культивировать позитивную, дружественную, подлинную любознательность и способность удивляться, что более важно, чем любые техники или направляющие принципы.
Есть три первоочередные задачи, на которые, как мы полагаем, должны ориентироваться члены команды: присоединение к семье, поддержка развития нового нарратива и поощрение деконструкции проблемно-насыщенных описаний. В таком случае, члены команды выслушивают терапевтические беседы с тем, чтобы (1) развить понимание (чтобы они могли гармоничнее присоединиться к семье), (2) обращать внимание на различия и события, которые не согласуются с доминирующими нарративами (чтобы они могли поддерживать развитие новых нарративов) и (3) обращать внимание на убеждения, идеи или контексты, которые поддерживают проблемно-насыщенные описания (чтобы они могли вызвать деконструкцию этих описаний).
Какая из этих задач является наиболее важной в данный момент, решается в курсе терапии. Их относительная важность также меняется от семьи к семье, от человека к человеку. В общем случае, присоединение наиболее важно в начале терапии. Когда команда собирается для размышления первый раз — или когда новые члены появляются в команде — они начинают с того, что представляются и кратко рассказывают о себе, упоминая контекст своей работы и рассказывая, почему они появились в команде (напр., “Я — Энн Коген. Я работаю с детьми и их семьями в дневной программе, а также имею частную практику. Я нахожусь здесь как часть команды выпускников Эванстонского центра семейной терапии, которая собирается раз в месяц для дружеских консультаций.) Если, как часто случается, новые члены команды и/или новые члены семьи кратко встречались за зеркалом до начала “формального” интервью, представление нет нужды повторять.
Начальные комментарии команды должны включать указания на то, что привело людей к терапии, и краткое заявление одного или более членов команды по поводу того, как он понимает текущую ситуацию — примерно так: “Я слышу, что как Джордж, так и Луиза чрезвычайно обеспокоены суицидальными мыслями, которые мучат Марию, и я понимаю, что она рада вернуться домой из больницы и хотела бы посвятить это время работе с собой”.
Мы полагаем, что весь объем вопросов или комментариев команды должен фокусироваться на поддержке и уплотнении аспектов развития новых нарративов. Члены команды побуждаются к тому, чтобы отмечать вслух те вещи, сделанные, сказанные или описанные в интервью, которые, как им кажется, не согласуются с проблемным нарративом. Если событие, которое интересует члена команды, еще не было отмечено в интервью в качестве предпочтительного аспекта развития, член группы может предложить его в порядке пробы, если не забудет упомянуть вслух, что он не настаивает на том, что это именно так. Как только событие пересказано, члены команды — включая изначального рассказчика — ставят вопросы о нем, в частности, вопросы о том, как оно произошло и что оно может означать. По мере развития беседы, другие члены команды могут вступить в беседу, либо поднять вопрос о другом событии, либо поразмышлять по поводу обсуждаемого события. Таким образом, освещаются события и поднимаются вопросы, которые побуждают людей представлять новый смысл и развивать новый нарратив вокруг этих событий.
Мы убеждены, что команда должна быть осторожной, играя лишь вспомогательную роль в представлении этих смыслов — размышляя над ними и строя предположения, но не пытаясь “сбыть” их. Как отметил Майкл Уайт (1995), этот процесс совершенно отличен от выявления позитивов. Наше намерение не состоит в том, чтобы подмечать уникальные эпизоды и судить об их важности, не соревноваться в том, кто из членов команды отыщет невероятное событие, которое больше других поразит других членов. Тем не менее, любопытность и удивление, побуждаемые этим процессом, часто заразительны, и мы определенно надеемся, попытаются забрать и действительно заберут домой некоторые из смыслов, которые промелькнули, когда члены команды бросили свой взгляд на события их жизни.
В наших ранних опытах использования команды наблюдателей, мы ограничивали себя двумя задачами, описанными выше: (1) присоединением и (2) поддержкой развития нарративов. Как правило, люди находили эти команды полезными. Тем не менее, в нескольких случаях, когда люди обнажали исключительные страдания, мы позже узнали, что они ощущали фокус команды на “ярких событиях” как оскорбительный, либо как непонимание — а иногда и полное игнорирование — их опыта.
Например, мы встречались с семьей, состоящей из Аннетт и ее четырех детей, от восьми до шестнадцати лет. На начальной встрече терапевт предложил каждому участнику по очереди описать, как он видит текущую ситуацию, тогда как другие члены семьи должны были слушать. Мы услышали, что Алекс, восьмилетний мальчик, вызвал озабоченность учителя, заговорив о самоубийстве; Робби, десятилетний мальчик, был временно исключен из школы за агрессивное поведение; а Аннетт обуревали чувства ошеломления и несоответствия требованиям материнства. Длинная история психиатрических госпитализаций из-за депрессии поддерживала идеи никчемности. На момент интервью, озабоченность предстоящей работой по получения степени магистра, выполнением своих обязанностей на работе и заботой о своих детях доминировали над ее опытом.
Другие дети жаловались, что старший ребенок, 16-летний Сэм, приказывал, что им надо делать, подкрепляя свои приказы угрозами и пинками. Все больше и больше времени дети проводили в домах соседей. Тогда как Аннетт переживала это как облегчение, это также подтверждало (ей) ее неспособность заботиться о детях. Аннетт развелась несколько лет тому назад, и отец детей проживал в отдаленном штате. Его контакты с детьми имели весьма непостоянный характер, но Арлен, 15-летняя девочка, хотела бы знать, может ли она жить с ним.
За беседой, касающейся этих многочисленных проблем, было довольно трудно следить из-за зеркала, поскольку два младших мальчика смешили друг друга и носились по комнате.
Когда мы переключились на наблюдательную команду, члены команды представились и сделали небольшое вступительное заявление. Один из членов сказал что-то вроде: “Я вижу, что этой семье довелось многое пережить”. Остальные члены команды согласно закивали головами. Затем команда включилась в обсуждение возможных начал нового нарратива.
Это началось с того, что один из членов команды отметил, что вся семья явилась на сеанс вместе и вовремя. Затем мы размышляли и судили, что это означает в контексте родительской компетентности Аннетт и потенциальных сил семьи. Кто-то заметил, что многие люди находят, что воспитание четырех детей — это больше, чем постоянная работа. Она удивлялась, как Аннетт удавалось осуществлять это наряду с работой над степенью магистра и выполнением своих обязанностей на работе. Другая женщина из команды рассказала, с какой неохотой она решила бросить работу, когда у нее родился ребенок, хотя до этого она планировала, что справится со всем. Ей было интересно, как эта мать делала все это, и что это говорит о ней. Еще кто-то отметил, что все дети проводили время с соседями, и что один из детей поделился с учителем своими ужасающими и скорбными мыслями. Он говорил о том, что, хотя многие люди оказываются в изоляции, когда наваливаются трудности, члены этой семьи, похоже, знают, как налаживать связь с другими людьми. Другие члены команды удивлялись тому, как дети научились выходить во внешний мир, и могло ли это принести им пользу в прошлом.
Когда члены семьи воссоединились после работы команды, они казались покорными и весьма неохотно комментировали размышления команды. На следующий день Аннетт позвонила терапевту, чтобы сказать ей, что сомневается в полезности этой команды. Она сказала, что ей было очевидно, что команда не понимает всей серьезности проблем. Она удивлялась тому, что они тратили наше время на разговоры о том, что семья явилась на терапию вовремя, тогда как один из ее детей проявлял суицидальные наклонности, еще один был временно исключен из школы за проявления агрессивности, а другая предлагала сломать семью, уехав жить к своему отцу. Она полагала, что команда не имела ни малейшего понятия о том, насколько ошеломленной она себя чувствовала.
Опыты такого рода привели нас к тому, что мы стали включать деконструкцию в качестве возможной задачи для команды наблюдателей. Как члены размышляющей команды, мы идем вслед за людьми, которые пришли консультироваться с нами. Если они вместе с терапевтом посвящают большую часть беседы описанию и деконструкции проблемных нарративов, команда будет больше фокусироваться на деконструктивных вопросах.
В только что приведенном примере, семья чувствовала бы себя гораздо лучше понятой членами команды, если бы мы говорили о тех же проблемах, что и семья. Например, кто-нибудь из команды мог бы упомянуть борьбу Аннетт с чувствами ошеломления и заинтересоваться тем, не играют ли эти чувства свою роль в некоторых других проблемах, которые люди упоминали. Могли появиться вопросы о последствиях этих чувств. Некоторые члены команды могли бы поразмышлять об определенных контекстах, которые оставляют дверь открытой для этих чувств. Члены команды могли бы заинтересоваться, что этому способствовало. Кто-то мог бы рассказать историю о своем собственном опыте невозможности жить в соответствии с имиджем “суперженщины”.
Кроме того, можно было особо обратиться к другим проблемам. Например, член команды мог бы поразмышлять о влиянии суицидальных мыслей, которые прозвучали — не только на Алекса, но и на каждого члена семьи. Кто-то еще мог бы заинтересоваться тем, насколько сильны эти мысли, и какие конкретные ситуации или люди подготовили их. Другой член команды мог бы поразмышлять о том, что часто такие мысли подстегиваются образами и словами, и не нашел ли Алекс такие образы или слова, вторгающиеся в его мысли. Вопросы такого рода подтвердили бы проблемные нарративы семьи, одновременно побуждая к их деконструкции.
Перемежаясь с вопросами этого типа, вопросы, побуждающие к конструированию альтернативных историй, встречались бы с большим энтузиазмом. Например, после беседы о чувствах ошеломления, члены команды могли бы поинтересоваться, удавалось ли Аннетт когда-либо избегать влияния этих чувств. Мы могли бы поразмышлять о том, не служит ли помещение ее семьи в центр в тот вечер примером запрещения ее чувствам править ею. Такой вопрос мог бы быть встречен благожелательно в контексте деконструктивных вопросов.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ КОМАНД НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
В рамках нашей программы супервизорства мы начали размышлять над нашими размышлениями. То есть, после завершения терапевтической встречи, каждый — терапевт, супервизор, команда и индивиды и семьи, с которыми мы работаем, по их желанию — делятся своими мыслями по поводу процесса в целом. *[В других случаях после терапевтических интервью мы задаем вопросы, побуждающие терапевта и членов команды наблюдателей определить и деконструировать свою работу (Madigan, 1993; Neal, в печати). Мы предлагаем семье включиться в опрос. Этот процесс описан в Главе 10.]
Размышления над процессом нашей команды вылились в список особых направляющих принципов, который приводится далее. Эти принципы не совсем оригинальны. Настоящий список начинается как выжимки из предложений других людей, за которыми мы следовали, когда начали изучать размышляющие команды. Размышления наших обучающих команд и людей, которые консультировались с нами в течение нескольких лет, усовершенствовали их и будут продолжать совершенствовать их так, чтобы они подходили для нашей локальной культуры.
Мы думаем, что для многих людей направляющие принципы подобного рода в особенности полезны на ранней стадии их опыта в качестве членов команды наблюдателей. Направляющие принципы призваны помогать людям реализовывать особые установки и позиции, и они представляют собой лишь идеи, а не единственный способ использования команды. Как только установки и позиции осмыслены, направляющие принципы уже могут не играть важную роль.
Вот наши сегодняшние направляющие принципы, снабженные комментариями:
1. Члены команды наблюдателей вместе участвуют в беседе.
Когда мы впервые начали использовать команды, люди, наблюдая интервью, как правило, записывали несколько идей и потом с нетерпением ждали шанса, чтобы вставить каждую из них в “обсуждение”. То, что, как представлялось, должно быть беседой, превращалось в последовательность отрывочных идей. Хуже того, комментарии часто сталкивались друг с другом как дисгармонирующие или конкурентные.
Некоторые члены команды пытались разговаривать сквозь зеркало — с семьей, а не друг с другом. Если команда располагалась в помещении для терапии, они прямо смотрели на членов семьи, игнорируя участников команды.
Мы обнаружили, что реальная беседа друг с другом имеет ряд преимуществ. Вероятно, наиболее значительное из них состоит в том, что у семьи появляется ощущение, что она может “подслушать” интригующую беседу о самих себе. Люди с наблюдательного пункта за зеркалом говорили нам, что реальную беседу гораздо увлекательнее слушать, чем последовательность заявлений, и что затянувшиеся обсуждения нескольких удачно выбранных вопросов гораздо более привлекательны, чем то, что часто ощущалось как бомбардировка множеством вопросов и тем.
Когда члены команды искренне вовлекают друг друга в значимую беседу, у членов семьи есть выбор — реагировать или нет на то, что говорится. Прямой взгляд, с другой стороны, может восприниматься как принуждение к реагированию (Hoffman, 1991).
Еще одно замечательное преимущество реальной беседы состоит в том, что идеи рождаются и развиваются во взаимодействии членов команды. Члены команды, которые были вынуждены “выходить хоть с чем-нибудь”, когда размышления состояли из последовательности разрозненных заявлений, теперь расслабляются и убеждаются в том, что они смогут внести свой вклад в развивающуюся беседу по мере того, как команда развивает идеи и вопросы на основе нескольких наблюдений.
2. Члены команды не разговаривают за зеркалом.
Этот направляющий принцип объясняется, по крайней мере, тремя причинами. Во-первых, это помогает сохранять наши беседы свежими и чуткой к разнообразию возможностей. Когда какая-либо идея звучит за зеркалом, она может овладеть всеобщим вниманием и сфокусировать процесс выслушивания таким образом, что вместо многоголосной команды, мы выходим в область перед зеркалом с одним единственным голосом. Голос такого рода не предлагает выбора.
Во-вторых, мы хотим, чтобы семья была привилегированным автором своих историй. Если бы нам пришлось комментировать друг друга в течение всего интервью, мы бы склонялись к тому, чтобы развивать свою собственную, частную версию истории и оказались бы вовлеченными в нее. Что касается команды, то перед ней бы стоял единственный выбор, касающийся такой истории: предложить ее семье или отказаться от нее. Было бы трудно предложить историю, в которую “вложились” все члены команды, не пытаясь ее “продать”. Если же мы решаем отказаться и не продавать ее, то нам не остается ничего, что бы мы могли предложить. Если, вместо этого, каждая идея, привнесенная в командное обсуждение, остается частной, члены могут размышлять над ней, подвергать ее сомнению, оставляя для семьи выбор: использовать ее для сплетания истории или нет.
В-третьих, разговор за зеркалом может легко принять неуважительный или патологизирующий характер. Проведение всех наших бесед перед зеркалом помогает нам практиковать уважительные и не-патологизирующие способы разговора и мышления. Эти практики языка порождают реальность, которую мы предпочитаем.
3. Мы пытаемся не инструктировать или направлять семью.
Вместо этого, мы стремимся к тому, чтобы выявить многообразие восприятий и конструкций так, чтобы члены семьи могли выбрать то, что им интересно или полезно. Мы задаем вопросы или предлагаем идеи предположительно, говоря о том, что нам хотелось бы знать (Мне интересно было бы узнать...) , или используя сослагательное наклонение (мог бы, возможно, может быть). Мы стремимся к тому, чтобы наши комментарии оставались безоценочными. Мы интересуемся различиями или новыми происшествиями, вокруг которых члены семьи по желанию могут представить смысл.
4. В основу наших комментариев мы кладем то, что действительно происходит в комнате для терапии.
Мы интересуемся и персонально реагируем на вещи, которые действительно произошли в ходе интервью. Мы начинаем новые темы, ссылаясь на то, чему мы были свидетелями (“Я заметил, что Эрнестин сказала...”). Если у кого-то есть идея, но он не знает, какой ключ дала ему семья, чтобы навести на нее, команда побуждается поразмышлять о том, что в терапии могло вывести на эту идею.
5. Мы ориентируем свои идеи в пространстве нашего собственного опыта.
Мы описываем то, что в нашем личном и профессиональном опыте поддерживает наши идеи и заставляет нас выделять особые события. Члены команды говорят как индивиды, а не как представители “знания” или “авторитета”. Это позволяет членам семьи понять, из чего мы исходим, и свободно приспособить наши идеи к своему опыту (White, 1991). Наши разъясняющие комментарии помогают сгладить иерархию и способствуют прозрачности процесса. Как пишут Дэвидсон, Лэкс, Луссарди, Миллер и Рато (1988, стр. 77), “не устанавливая рамок клинической нейтральности, команда наблюдателей выдвигает на первый план осознание личной субъективности”.
6. Мы пытаемся реагировать на каждого члена семьи.
Опыт научил нас тому, что люди проявляют большую заинтересованность, если некоторые из комментариев команды касаются их. *[На первой терапевтической встрече с большой семьей, учебной группе в ЭЦСТ не удалось упомянуть в своих откликах семилетнего мальчика. Насколько нам известно, он никогда больше не слушал размышления команды.] И мы не хотим, чтобы кто-то ощущал, что его оставили в стороне.
7. Мы нацелены на краткость.
В особенности, если в семье присутствуют маленькие дети, важно, чтобы комментарии были краткими, интересными и содержательными. Но даже если наблюдение проводится над одними взрослыми, представляется, что членам команды лучше ошибаться, придерживаясь краткости, чем подолгу разглагольствовать без перерыва.
ПРАГМАТИКА КОМАНДЫ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Мы проявляем достаточную гибкость в отношении числа людей в команде. Если ли мы работаем вместе лишь вдвоем, то терапевт, который интервьюирует семью, интервьюирует другого терапевта по поводу его соображений. Мы видели, как команды из не менее чем дюжины людей функционируют вполне хорошо, хотя не все высказываются каждый раз, когда такая команда отражает процесс. Том Андерсен (1987) писал, что он обнаружил, что хорошо работает команда из трех человек потому что, пока двое обсуждают идею, третий может выдвинуть другую идею, внося свой вклад в беседу. Наши команды, как правило, состоят из 3-6 человек.
Команда может использоваться для одной конкретной встречи, в ходе всего терапевтического курса или время от времени. Мы считаем, что семьи почти всегда находят команды наблюдателей весьма ценными. Фактически, мы понимаем Майкла Уайта (1993), который спрашивал семьи скольких встреч стоит встреча с командой. Средний ответ был — четырех!
Прежде чем начинается встреча (это может быть одна из ранних встреч, первое интервью или разговор по телефону), мы предлагаем возможность участия команды наблюдателей и объясняем, что это такое. Если семья соглашается, мы продолжаем работу. Мы приветствовали ли бы использование команд каждый раз, когда мы проводим терапию, однако экономика и конфликты с расписанием не позволяют это осуществить. Вместо этого, мы используем команды, (1) когда люди просят об этом (этот запрос обычно связан с прошлым опытом или рекомендациями друзей), (2) для обучения, (3) когда у нас имеется терапевт со стороны, который тоже применяет нарративные идеи, и (4) для консультирования.
Если команда будет присутствовать в том же помещении, что и семья, в начале первой встречи мы представляем семью членам команды. Если команда находится за зеркалом, мы обычно спрашиваем, желают ли члены семьи встретиться с командой до начала встречи, или во время процесса обсуждения. Некоторые люди чувствуют себя более комфортабельно, если они видели людей за зеркалом до начала интервью. Другие предпочитают не встречаться с членами команды, пока те не начнут делиться своими размышлениями.
Хотя, консультируясь с семьей по поводу присутствия команды, мы уже описывали процесс обсуждения, в начале первой встречи мы снова ориентируем семью на этот процесс. Терапевт, который интервьюирует семью, говорит примерно следующее: “Команда находится рядом, наблюдая за нами сквозь это полупрозрачное зеркало. В некоторый момент нашей беседы, может быть, в некоторые моменты, мы поменяемся местами с командой. Мы уйдем за зеркало, а они войдут сюда”. Или (если зеркала нет, и команда находится в том же помещении, что терапевт и семья) “Пока мы будем разговаривать, члены команды будут обращать внимание на нашу беседу. Давайте притворимся, что между ними и нами находится полупрозрачное зеркало, так чтобы нам не приходилось уделять им внимание, но они могли бы уделять внимание нам. Через некоторое время, мы перевернем все наоборот, так что мы будем находиться за зеркалом, наблюдая и слушая их. Они будут разговаривать друг с другом, а мы сможем слышать их. Их беседа будет касаться того, что они заметили в нашей беседе. У них могут быть вопросы или идеи. После их беседы, мы снова поменяемся местами, и у вас будет шанс прокомментировать их беседу. Я буду спрашивать вас, что вам наиболее запомнилось, что подходит и не подходит, или какие идеи у вас появились, пока вы слушали их беседу”.
Как терапевт, так и семья или команда могут решить, что настало благоприятное время для размышлений команды. Наша обычная практика заключается в том, что через 30-40 минут часового интервью терапевт предлагает приступить к высказываниям команды. Тем не менее, терапевт волен предложить это в любой момент. Эта свобода в особенности полезна для терапевтов, которые только начинают учиться использовать нарративные идеи. Если неопределенность грозит им косноязычием, они могут просто предложить выступить команде. *[Джойс Гудлатт, которая участвовала в нашей учебной команде, рассказала нам, что в прошлом, когда она работала с (изолированной) командой, она часто ощущала себя так, будто команда изучает и оценивает ее. В случае команды наблюдателей-участников, однако, она чувствовала, что вся команда присутствовала там, чтобы помочь ей и работать с ней. “Если я упускала что-то, — отмечала она, — я знала, что кто-нибудь из команды задаст вопросы об этом. Мне не приходилось следить за всем, поэтому я могла расслабиться”.]
Временами члены семей, которые регулярно встречаются с командой, говорят: “Интересно, что об этом скажет команда”, что мы воспринимаем как намек на смену позиций.
Кроме того, сама команда может предложить время для . В нашем центре команда может осуществить это, постучав по зеркалу. Если терапевт и семья соглашаются, команда начинает процесс обсуждения.
Команда, как правило, высказывает свои мнения в течение 10-15 минут. (Мы нацеливаемся на десять, но слишком часто на все уходит пятнадцать.) В нашем центре сигналом к окончанию работы команды служит стук по зеркалу от терапевта, сидящего с семьей. Нам нравится, когда беседа оканчивается с ощущением, что столько еще можно сказать, поэтому терапевт старается постучать, когда беседа еще в полном разгаре. Терапевт может решить постучать раньше, чем обычно, если он ощущает, что для членов семьи этого достаточно, или они находят эти размышления ошеломляющими.
Нас часто спрашивают, может ли размышляющая команда практиковать без зеркала Гезелла. Фактически, некоторые команды предпочитают поступать так, даже если такое зеркало доступно (Wanberg, 1991). Мы предпочитаем использовать зеркало, поскольку, похоже, оно помогает людям легче оставаться в наблюдательной позиции. Тем не менее, если зеркало недоступно, или люди, с которыми мы работаем, не отдают (в оригинале — “отдают”. Очевидно, это опечатка. Прим. перев.)ему предпочтения, мы находим, что работа вместе в одной комнате проходит достаточно успешно. В этом случае, как мы упоминали ранее в этой главе, мы предваряем размышления команды словами: “Теперь мы поговорим друг с другом, как если бы между нами и вами было зеркало Гезелла. Это, как если бы мы не можем видеть вас, но вы можете видеть нас и вольны слушать нашу беседу или думать о том, что вам кажется наиболее уместным. После того, как мы закончим говорить, у вас будет шанс дать нам знать, что проявилось для вас из нашей беседы — что подходит или не подходит, или любые идеи, которые были у вас, пока мы говорили”. После этого члены команды в ходе обсуждения поддерживают зрительный контакт только с другими членами группы.
Другой вопрос, который часто возникает у терапевтов, когда они изучают команды наблюдателей, состоит в том, можно ли использовать эту идею без команды. Другими словами, может ли терапевт играть роль собственной команды? Описывая, как он поступает именно так, Финн Вангберг (1991, стр. 4), член одной из команд, которые первыми развивали эту идею, пишет:
Я говорю им, что я поделюсь с ними не просто моими реакциями на то, что они мне говорят, но также и мыслями, которые стоят за этими реакциями. Вижу ли я одного человека или несколько, я отклоняюсь назад, чтобы создать большую дистанцию. Кроме того, я смотрю в потолок или в окно и говорю скорее о них, нежели с ними.
По тому же вопросу, Том Андерсен (1987, стр. 424) пишет:
Когда команда состоит только из одного человека, этот человек может покинуть комнату на некоторое время; это могут быть минуты, или дни, или недели. Вернувшись, он может сказать: “Пока вас не было со мной, у меня возникли эти идеи, которыми я хотел бы с вами поделиться”, и потом высказать несколько умозрительных соображений, завершив их словами: “Были ли среди этих идей стоящие? Хотелось бы вам поговорить о них?”
Мы тоже находим, что часто мы действуем как наблюдательная команда из одного человека. Наша версия, как правило, имеет вполне непреднамеренный характер. Мы можем сказать что-то вроде: “Когда я обдумываю то, о чем мы говорили до сих пор, мне в голову приходит несколько мыслей. Вы хотели бы их выслушать?” Если ответ положительный, мы начинаем пересказывать что-то, что было сказано в ходе терапевтической беседы, и делиться своими соображениями по этому поводу. Затем мы ориентируем свой комментарий в области своего собственного опыта. Мы можем поразмышлять о некоторых событиях, прежде чем спросить: “Интересны ли вам какие-то из этих событий или идей?”
ПРИМЕР БЕСЕДЫ С ОТРАЖЕНИЕМ ПРОЦЕССА
Представьте себе, что семья приходит на терапию, потому что Адам, девятилетний мальчик, ворует. В ходе интервью он соглашается со своими родителями, что воровство — это не тот образ жизни, который он пожелал бы для себя, но он говорит, что ничего не может с этим поделать. В ходе интервью обнаруживается, что этим утром он видел несколько долларовых банкнот на туалетном столике отца. Он мог бы взять их, но этого не сделал.
Если мы рассмотрим эту проблемно-насыщенную историю как историю о том, как воровство вторгается в жизнь Адама и заманивает его в воровской образ жизни, тогда это событие может относиться к уникальному эпизоду, началу альтернативной истории. Давайте представим, что это яркое событие было упомянуто в беседе, но во время интервью не было обсуждения того, было ли оно предпочтительным событием, и ему не был придан смысл. В этом случае, команда могла бы поразмышлять над ним и задуматься над тем, было ли это предпочтительным направлением развития.
После знакомства и вступительных фраз член команды может завести разговор об этом событии, сказав: “Я был немного удивлен, когда услышал, что этим утром Адам заметил несколько долларовых купюр на туалетном столике отца, но не взял их”.
Другой член может спросить первого: “Почему это вас удивило?”
“Ну, когда они говорили о том, как Адам ведет воровской образ жизни, и когда он сказал, что он ничего не может с этим сделать, у меня начала формироваться идея о том, что как только возникала возможность украсть, Адам обнаруживал, что делает это. У других тоже создалась такая картина?” Несколько членов команды могут согласиться с этим. “А теперь, мне интересно было бы знать, создавалась ли у Адама такая же картина его жизни. Если это так, то интересно, что значит для него увидеть, что этим утром воровство могло взять над ним верх, но он не позволил ему сделать это?”
Кто-то еще может добавить: “Знаете, пока вы описывали эту картину, я задумалась, складывалась ли такая же картина у Джо и Амелии (родителей Адама), или они уже знали, что временами Адам мог преодолевать тягу к воровству?”
Затем другой член команды мог бы сказать: “Да, мне интересно, увидели ли они в том, что случилось этим утром, обнадеживающий знак?” Эти вопросы побуждают Адама и его семью решить, каков смысл этого события, и служит ли оно предпочтительным или нет.
Если эта работа была уже выполнена в ходе терапевтической беседы, и семья действительно признало это событие предпочтительным направлением развития, команда, вероятно, заинтересуется тем, чтобы поднять вопросы, которые побудят членов семьи превратить это событие в историю. Например, один из членов команды мог бы сказать: “Пока продолжалось интервью, я снова и снова проигрывал в уме тот момент, когда Адам понял, что в это самое утро он увидел, что может взять немного денег, и не сделал этого, и он увидел, что хватка воровства не так уж крепка, как он думал. Пока интервью продолжалось, я думал: знал ли Адам все это время, что он может победить воровство таким образом, или это новое направление развития?”
Кто-то еще может вступить в обсуждение, сказав: “Да, мне тоже это любопытно. Интересно, были ли другие моменты, о которых он мог бы нам рассказать, когда он сам, а не воровство, брал ответственность за его жизнь”.
“Г-м, — может добавить кто-то, — что мне было бы интересно по поводу этих моментов, это как он это сделал... как он это сделал, и что для него значит то, что он смог это сделать”.
Первый человек мог бы сказать: “В свете этого, интересно, мог бы он оглянуться назад и увидеть точку поворота, что-то, что изменило ход вещей так, что этим утром он был сильнее воровства, а воровство — слабее его?”
“О, я понимаю, что вы имеете в виду. Если было что-то, что вело к этому, то интересно, замечали ли Джо и Амелия какие-то различия, которые могли иметь отношение к этому”.
В то время, как все это продолжается, члены команды работают над тем, чтобы ориентировать свои комментарии в области собственного опыта и воображения и придать своим мыслям и намерениям прозрачность. Осуществление этого помогает сгладить иерархию. Идеи видятся, как исходящие из личного опыта, а не как “истины”. Это помогает членам семьи учиться, как принимать комментарии и свободно отвергать те, что им не подходят. Вопросы и комментарии, связанные с личным опытом, перемежаются и служат частью беседы.
Соединяя эти элементы вместе, обсуждение команды наблюдателей будет звучать примерно так:
Один из членов команды мог бы сказать: “Пока продолжалось интервью, я снова и снова проигрывал в уме тот момент, когда Адам понял, что в это самое утро он увидел, что может взять немного денег, и не сделал этого, и он увидел, что хватка воровства не так уж крепка, как он думал. Пока интервью продолжалось, я думал: мог ли Адам все это время обладать контролем над своей жизнью в большей степени, чем он догадывался, или это новое направление развития?”
Потом кто-то может спросить: “Почему вас это так интересует?”
“Понимаете, вчера я говорил с одним человеком, который пытается бросить курить, и это напомнило мне о моем собственном опыте. Я курил много лет. В конце концов, я бросил курить двадцать лет тому назад, но это был третий раз, когда я бросал. Первые две попытки были ужасными, и все кончилось тем, что опять закурил. Когда я попробовал снова, я думал, что это будет невыносимо. Тем не менее, все прошло безболезненно. Все это получилось так, как будто я делал это шаг за шагом, даже не сознавая этого. Когда я услышал, как Адам отказался от денег в это утро, я подумал, а что если он тоже делал это шаг за шагом, не замечая этого. Я не знаю...”
Кто-то еще может вступить в обсуждение, сказав: “Да, мне тоже это любопытно. Интересно, были ли другие моменты, о которых он мог бы нам рассказать, когда он сам, а не воровство, брал ответственность за свою жизнь”.
“Что вы имеете в виду, когда спрашиваете это?” — может спросить кто-то.
“Если его опыт похож на опыт Рэнди (член команды, который бросил курить) и происходит шаг за шагом, я подумал, что могло бы быть полезным подмечать эти шаги. Это каждому могло бы прибавить уверенности в том, что вещи движутся в новом направлении”.
“Хорошо, — может добавить кто-то, — что мне было бы интересно по поводу этих моментов, это как он это сделал, и что для него значит то, что в этот момент, как бы то ни было, он перехитрил воровство вместо того, чтобы дать ему перехитрить себя”.
“Почему вам интересно, как он сделал это, Мишель?”
“Одна причина заключается в том, что я работаю в школе, и это отнюдь не исключительная проблема для детей в школе. Я думаю, это могло бы помочь мне помочь им, если бы я знала что-то о том, как одному человеку удалось победить воровство”.
Первый человек мог бы сказать: “В свете этого, интересно, мог бы он оглянуться назад и увидеть точку поворота, что-то, что изменило ход вещей так, что этим утром он был сильнее воровства, а воровство — слабее его?”
“Я понимаю, что вы имеете в виду. У вас есть какие-то соображения по поводу того, что это могло быть?”
“Нет, я действительно не знаю, но мне представляется, что могло случиться нечто, что убедило его в том, что воровство не было его другом”.
Потом другой член команды мог бы сказать: “Если было что-то, что вело к этому, то интересно, замечали ли Джо и Амелия какие-то различия, которые могли иметь отношение к этому”.
Возможно, в этой точке беседа повернет в сторону другого предпочтительного события или возможного начала альтернативной истории. Несколько таких событий, как правило, обсуждаются в ходе размышлений команды.
После окончания размышлений семья и команда снова меняются местами так, что семья и терапевт оказываются перед зеркалом, а команда — за ним.
Затем терапевт по очереди спрашивает членов семьи об их реакциях на размышления команды. Терапевт говорит примерно следующее: “Что запомнилось вам из размышлений команды? Были ли там конкретные вопросы или идеи, которые вызвали у вас наибольший интерес?”
Иногда дети или подростки говорят, что они не помнят, о чем говорила команда. Иногда помогает краткое напоминание (Lax, 1991).
Мы обнаружили, что большинство людей действительно комментируют размышления команды, и что некоторые даже ссылаются на них на более поздних встречах.
Когда член семьи ссылается на конкретный комментарий, терапевт может задать еще несколько вопросов, к примеру, “Чем это вас заинтересовало?”, “Какие мысли и идеи возникали у вас в отношении этого?”, “Вы узнали что-то о себе или ситуации, или пришли к какому-то заключению, думая об этом так?”, “Как вы думаете, какую роль будут играть эти идеи в вашей жизни?” Важно, чтобы все члены семьи получили шанс отреагировать, поэтому терапевту следует быть экономным в отношении завершающих вопросов.
Кроме того, терапевт может прокомментировать то, что ему показалось интересным в работе команды, и упомянуть о том, что в этих комментариях привлекло его внимание.
ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА БЕЗ КОМАНДЫ
Характерная черта нашей терапии — и, вероятно, терапии большинства терапевтов, использующих нарративные идеи — это движение между прямым опытом и размышлением. Даже работая с одним человеком, мы движемся между “ландшафтом действия” (прямым опытом) и “ландшафтом сознания” (размышления над этим опытом). Это движение между прямым опытом и размышлением характерно для нашей работы не зависимо от того, используем мы команду наблюдателей или нет.
Побуждая к откликам на мысли других *[У нас есть некоторые сомнения по поводу применения таких слов, как “самость” и “другой”, поскольку они обычно используются как указания на эссенциалистские сущности. Мы думаем, что процессы размышления могут быть значимы и эффективны исключительно по причине множества возможностей, которые возникают при взаимодействии людей. Другими словами, практика отклика — это особый и мощный случай социальной конструкции самостей и других.]
Когда мы впервые начали заниматься семейной терапией, *[Эти комментарии основаны на нашем прошлом опыте. Мы знаем, что, если мы снова встречались с людьми, с которыми мы обучались в прошлом, их идеи менялись. Джанфранко Сеччин и Луиджи Босколо, к примеру, сегодня используют команды наблюдателей-участников.] мы научились организовывать беседу так, чтобы члены семьи разговаривали напрямую друг с другом, и мы могли бы либо получать информацию о их “паттернах взаимодействия”, либо дать им возможность испробовать новую форму взаимодействия. Этот метод работы имел смысл, когда мы были убеждены, что сможем определить или обнаружить то, что лежит “под” проблемой, и когда мы делали упор на изменение поведения. Когда мы просили людей поговорить друг с другом в процессе терапии, мы создавали контекст либо для сбора информации, которую использовали для оценок, направляющих вмешательство, либо для вмешательства, предлагая людям испробовать новые формы поведения. В ходе терапии такого рода, люди либо занимались активной деятельностью, либо слушали нас. Они, как правило, не имели возможности озвучить свои размышления в процессе терапии.
Когда мы изучали миланский подход, вместо того, чтобы просить людей поговорить друг с другом, мы научились задавать им по очереди круговые вопросы, которые фокусировались на взаимодействии с другими членами семьи. В случае нашего первого метода работы, если ребенок отказывался ходить в школу, мы могли попросить родителей продемонстрировать, как бы они уговаривали его пойти в школу (при нашей поддержке или без нее). При миланском подходе, мы скорее бы задали бы брату/сестре ребенка ряд вопросов, к примеру, “Кого больше всего огорчает, что твой брат не хочет ходить в школу? Кого еще? Когда твоя мама огорчается, что твой брат не ходит в школу, что делает твой папа?”
Круговой опрос в миланском стиле предлагает людям стать слушательской аудиторией для самих себя, своих семей и ситуаций. Слушая ответы других людей, они могут узнать, как их видят другие члены семьи; они могут поразмышлять над взаимоотношениями между другими членами семьи, равно как и между ими самими и членами семьи.
В нашей текущей работе, мы все еще взаимодействуем с одним человеком из семьи, тогда как другие слушают. Находясь под влиянием идеи, что мы не раскрываем то, что уже есть, а со-творим опыт и смысл через социальное взаимодействие, мы надеемся, что наши вопросы откроют пространство для новых, предпочтительных нарративов.
Итак, имея в виду проблему, описанную выше, теперь мы можем спросить мальчика: “В те дни, когда ты ходишь в школу, как ты побеждаешь страх? Что ты сделал, чтобы подготовить себя к борьбе со страхом таким образом? Как другие члены семьи поддерживали и воодушевляли тебя на то, чтобы ты смог сделать это?”
Этот метод работы снова превращает людей в слушателей для друг друга, самих себя и их взаимоотношений, но теперь мы продвигаемся на шаг дальше. Мы просим людей поразмышлять над тем, что они услышали. Мы можем, к примеру, просто обратиться к отцу и сказать: “Какие мысли приходили вам на ум, пока ваш сын говорил?” Или мы можем спросить мать: “Вы были удивлены, услышав, что ваш сын делал эти приготовления, чтобы противостоять страху? Теперь, когда вы знаете это, как это меняет ваше представление о нем?” Вопросы такого рода побуждают людей поразмышлять над новым нарративом по мере того, как он развивается. Их размышления затем становятся частью нарратива, и другие члены семьи могут поразмышлять над “уплотненным” нарративом, тем самым делая его более существенным и более сложным. Этот процесс — яркий пример социальной конструкции реальности.
Когда мы работаем с группами людей, мы обычно проводим довольно продолжительную беседу с каждым человеком. Мы предлагаем другим людям выслушать его с размышляющей позиции и, время от времени, поделиться вслух своими размышлениями.
При побуждении к размышлениям такого рода, первостепенная и наиболее важная задача терапевта состоит в обеспечении того, чтобы люди оставались в позиции слушателя. Иногда этого легко достичь, говоря и поддерживая визуальный контакт лишь с одним человеком одновременно и, если беседа включает ссылки на присутствующих в помещении, говоря о них в третьем лице. Этот режим беседы побуждает людей, к которым не обращаются, слушать из наблюдательной позиции.
Часто в проблемных ситуациях доминирующая история влияет на людей таким образом, что они излишне втягиваются в свои собственные восприятия, описания проблемы и событий, ее окружающих. Это, в свою очередь, может подтолкнуть их к тому, чтобы использовать терапевтические беседы в качестве арены для вовлечение других в рассмотрение и принятие их версий реальности. Беседа, используемая таким способом, может закончиться тем, что все будут говорить, и никто не будет слушать. В такой ситуации колода перетасовывается таким образом, что это затрудняет обнаружение выходов к новым возможностям, которые могли бы выстроить новые нарративы.
Кроме того, семейные обычаи, когда несколько людей говорят одновременно, или предыдущие терапевтические инструкции обращаться друг к другу напрямую, могут осложнить задачу пребывания в позиции слушателя.
Мы обнаружили, что, рассказав людям, каким образом мы хотели бы продолжить работу, мы легко избегаем этих затруднений. Мы, как правило, обращаем наши объяснения к тому человеку или людям, которые хотели бы оставаться в позиции слушателя в первую очередь. Мы говорим примерно следующее: “Что бы я хотел сделать сейчас, это немного поговорить с Фредом о ситуации. Затем мне было бы интересно выслушать ваши мысли о нашей беседе с Фредом. Позже, к концу часа, я поговорю с вами, и у Фреда будет шанс поразмышлять над нашей беседой. Годится?”
Это искренний вопрос. Если у людей есть другие идеи по поводу хода беседы, нам интересно узнать о них. Например, недавно я (Дж. К) работал с мужчиной и женщиной, разведенными в течение нескольких лет, и их семилетним ребенком, который испытывал некоторые затруднения в школе. Скотт, отец ребенка, настаивал на отдельной встрече родителей без ребенка. На этой встрече Скотт, афро-американец, начал с заявления, что хочет сказать Бренде, англо-американке, как он пришел к пониманию того, что расизм сыграл свою роль в их разводе. Он сказал, что не разговаривал с ней об этом в те времена, потому что тогда он этого не понимал, но, поскольку теперь они могут доверять друг другу, будучи родителями, он хочет поговорить об этом. Он сказал, что не хочет, чтобы он говорил со мной, а она слушала (предыдущие беседы были структурированы), но намерен говорить с ней напрямую в контексте присутствия другого. В этом случае, следуя просьбе Скотта, я сидел в стороне и слушал, тогда как двое разговаривали, лишь позже добавляя свои размышления.
Большую часть времени, тем не менее, люди соглашаются на структуру, в рамках которой мы разговариваем с одним из них, тогда как другие занимают позицию наблюдателя.
Даже когда люди имеют представление о предложенном формате и согласились с тем, что имеет смысл продолжать в этом режиме, верх могут взять старые привычки, заставляя их перебивать и предлагать свое описание или оценку конкретного события. Когда это случается, мы даем им понять, что мы заинтересованы в том, что им хочется сказать, и что они будут иметь шанс отреагировать немного позже.
Альтернатива, о которой мы узнали от Харлен Андерсон, в особенности полезная, когда верх берут старые привычки, заключается в том, чтобы пригласить тех участников, которым поначалу полагается быть в позиции слушателя, слушать беседу из-за зеркала. Когда наступает надлежащий момент, они могут поменяться местами с человеком, который говорил первым, и предложить свои размышления.
Подготовка структуры для беседы, похоже, ослабляют хватку проблемно-доминирующих нарративов. Возможно, поскольку те, кто находятся в позиции слушателя, не имеют возможности привносить в беседу доминирующие нарративы, пока другой говорит, они, похоже, свободнее слушают другие описания, что позволяет им придавать смысл событиям, противоречащим проблемно-доминирующей истории.
Вторая важная задача для терапевта, заинтересованного в поощрении откликов на других, состоит в том, чтобы задавать вопросы, побуждающие к этому. В этом контексте, мы задаем вопросы, держа в уме две цели. Первая — просто побудить к общим комментариям в отношении беседы. В таких комментариях люди удостоверяют реальности друг друга. Вторая цель состоит в том, чтобы вызвать размышления о специфических событиях, особенно тех, которые, по нашему мнению, могут открыть менее проблемные ответвления прожитого опыта.
Чтобы побудить общие комментарии, мы обычно обращаемся к кому-то в позиции слушателя и спрашиваем нечто общее, к примеру, “Какие мысли приходили вам на ум, пока мы с Фредом разговаривали?” Простой акт свидетельства, который этим побуждается, имеет очень глубокие последствия.
Например, я (Дж. Ф) в настоящее время работаю с двумя женщинами, которые прожили как пара в течение 14 лет. Карен довольно резко порвала с Дайэн за шесть месяцев до того, как я встретилась с ними, и она почти мгновенно увлеклась кем-то еще. Постепенно, по прошествии шести месяцев, все более и более мощные волны горя и смятения стали накатывать на Карен. Она начала задумываться над тем, не было ли ее решение прекратить отношения ошибкой. Она попросила Дайэн поработать с ней над взаимоотношениями, чтобы понять, не смогут ли они разрешить те проблемы, которые привели Карен к разрыву.
Карен описала наиболее значительную проблему как “почти никакого секса, что сводило меня с ума, а Дайэн, похоже, не проявляла никакого интереса к этому, за исключением тех моментов, когда она думала, что я могу уйти от нее”.
Дайэн переживала огромное горе с тех пор, как ушла Карен. Она была весьма заинтересована в исследовании возможности для них снова стать парой, но каждый раз, когда они начинали разговаривать, между ними вставало столько недоверия, злобы и ревности, что даже возможность пребывания рядом сметалась чувствами отчаяния. Это особенно проявилось тогда, когда Дайэн услышала намеки на фантастическую сексуальную связь, в которую вступила Карен, пока Дайэн предавалась своему горю. Все эти чувства были настолько могучими и угрожающими, что они искали в терапии безопасный контекст, в котором они могли разговаривать.
Хотя они много раз пытались побеседовать друг с другом как к концу их взаимоотношений, так и в последние недели, лишь на первой терапевтической встрече Карен рассказала историю о том, как она порвала эту связь и вступила в новую. Она описала, как Дайэн желала заниматься любовью с ней в начале их отношений, но это все быстро улетучилось. Это привело к сомнениям по поводу чувств Дайэн к ней и к ощущению себя как некрасивой, непривлекательной женщины. Эти переживания превратили видение Карен будущего в “бесцветное и бессодержательное”. Она думала, что “высохнет от недостатка любви и просто постареет”, хотя другие стороны их взаимоотношений были весьма удовлетворительными и замечательными. Повторяющаяся и продолжительная неспособность Карен побудить Дайэн к разговору о их сексуальных отношениях привела к тому, что она поняла, что ничего нового произойти не сможет.
Когда другая женщина проявила романтический интерес к Карен, она увидела в этом свой последний шанс быть любимой. Она наслаждалась своей новой сексуальной связью, но по прошествии времени она поняла, что больше у нее ничего не было. Она поняла, что секс не равнозначен любви, и впервые за многие годы она смогла оглянуться назад и реально осознать, что Дайэн ее любила. Теперь она сожалела, что бросила ее. Она надеялась, что не отбросила навечно те лучшие взаимоотношения, которые когда-либо у нее были.
Находясь в позиции слушателя, Дайэн плакала в течение всей беседы Карен со мной. Когда я спросила ее, о чем она думала, пока мы с Карен беседовали, она сказала: “Я никогда не догадывалась, что ей было так тяжело. Каждый раз, когда она пыталась рассказать мне, я бросала ей в лицо ее другую связь и говорила о предательстве. Я не могла вынести, что она была с кем-то еще. Я никогда не понимала, каково было ей все эти годы не быть со мной в этом смысле”.
Карен была от всей души благодарна Дайэн, что та делилась своей болью и отчаянием. Когда мы с Дайэн размышляли о новом понимании Карен в представлении Дайэн, Карен, теперь в позиции слушателя, выглядела все более и более смягченной, расслабленной. То, что я поддерживала фокус на Дайэн, помогло Карен выслушать о чувствах боли и предательства, не уходя в оборонительную позицию. Этот опыт оказался настолько важным для Дайэн, что это расчистило для нее путь рассказать о сексуальном насилии, которое оно пережила в детстве и его последствиях для нее, включающих затруднения с сексуальными чувствами в зрелом возрасте. Став свидетелем истории Дайэн, Карен, в свою очередь, позволили ей по-новому интерпретировать затруднения в их сексуальных отношениях.
В целях осуществления нашей второй цели, побуждая к размышлениям, которые подтверждают и развивают начала историй или новые нарративы, мы можем начать задавать вопросы, призванные привлечь внимание к событиям, которые противоречат проблемно-насыщенной истории. “Вы были удивлены тем, что сказала Карен?” или “Что показалась вам ободряющим в той беседе, которую мы только что провели?” — вот некоторые примеры. Затем мы могли бы задать вопросы, чтобы развить историю или поразмышлять о смысле того, что проявилось или оказалось удивительным. Это могут быть вопросы типа “Почему это вышло для вас на первый план?” и “Что вы узнали о Дайэн, что вы могли бы и не знать, если бы это событие не вышло на свет? или “Какие из качеств Дайэн, похоже проявились, когда мы услышали, что она в силах оставить прошлое позади во многих отношениях?” — вот возможные вопросы для осмысливания.
Кроме того, кроме постановки общих вопросов для людей в наблюдательной позиции, которые предназначены привлечь внимание к вещам, противоречащим доминирующей истории, мы можем в более прямой манере обратить внимание на возможный уникальный эпизод и сказать: “У меня создается картина, что недостаток секса окрасил взгляд Карен на все ваши взаимоотношения. Что касается меня, высказывание Карен о том, что секс неравнозначен любви, выпадает из этой картины. Что это значило для вас — услышать, что она говорит об этом?”
Если люди реагируют на первоначальные вопросы подобного рода, мы можем расширить идеи, которые прозвучали, или предложить поразмышлять над другими аспектами этой беседы. Затем мы можем попросить человека, с кем мы говорили сначала, поразмышлять над этими размышлениями — “Карен, какое влияние оказало на вас то, что вы услышали, что Карен признает эти вещи в вас?”
Побуждая к откликам на нарождающиеся нарративы людей
Люди могут также размышлять над своими собственными нарождающимися нарративами. Они могут осуществлять это в присутствии или отсутствии других людей на встрече. Вопросы типа “Размышляя над сегодняшней беседой, какие новые направления развития в выявляете для себя?” или “Когда вы сравниваете, как бы вы обращались с этой проблемой шесть месяцев назад с тем, что вы делаете сейчас, что вы узнаете о себе?” поощряют этот процесс.
Вопросы такого рода побуждают людей оценивать свои переживания и процесс терапии, не отдавая оценку на откуп терапевтам. Под этим мы не подразумеваем, что мы побуждаем их к самокритике. Наоборот, мы просим людей решить, являются ли(а если являются, то каким образом) события значимыми, и просим их решить, направляет ли их эта работа в полезные направления. Эта практика отражает баланс силы в терапии. Когда экспертная позиция терапевта деконструирована, голоса людей, с которыми мы работаем, приобретают более весомое значение.
Когда мы приглашаем людей поразмышлять над своими собственным возникающими историями, мы, как правило, рассеиваем эти размышления по всему ходу беседы. Таким образом, мы побуждаем людей включаться в процесс размышления над личными нарративами и выходить из него по мере того, как они разворачиваются. Для нас, размышление служит более автономной и определенной деятельностью, когда мы просим людей поразмышлять над историями других, чем когда люди размышляют над своими собственными развивающимися нарративами. Само-размышление может включиться как реакция лишь на один вопрос, заданный в потоке множества других типов вопросов. В случае само-размышления, в таком случае, беседа протекает среди деконструкции, начала историй, развития истории и размышления. * [Как вы, возможно заметили, этот список соответствует нашему списку типов вопросов, за исключением того, что смысл заменяется на размышление. Вопросы смысла не побуждают к размышлению, как это происходит в случае других, более открытых вопросов типа “Когда вы обдумываете то, о чем мы говорили до сих пор, что выходит для вас на первый план?”] Оно движется среди этих сфер, при чем ни одна из них не изолируется или обязательно выделяется.
Когда люди смещаются от самой беседы к размышлению над ней, они становятся слушательской аудиторией для самих себя. Это помещает их в лучшее положение для представления смысла их собственных нарождающихся нарративов.
Мы держим в уме те же самые цели, когда мы предлагаем людям поразмышлять над их собственным опытом, как и в том случае, когда мы побуждаем их откликнуться на опыт других. То есть, (1) мы заинтересованы в том, чтобы предложить им возможность сделать общие замечания по поводу терапевтической беседы и того, что возникает во время ее, и (2) мы заинтересованы в том, чтобы услышать их идеи по поводу возможных начал историй и того смысла, который они им придают.
“Как вы думаете, какая из обсуждаемых нами вещей является наиболее значительной?”, “Если вы оглядываетесь назад и видите, как далеко вы продвинулись с тех пор, как вы начали бороться с этой проблемой, что вы замечаете в себе?” — это примеры достаточно открытых вопросов, которые мы можем использовать, чтобы пробудить размышление.
Более специфические вопросы включают: “Что вы узнали о себе, добившись этого?”, “Вы понимаете, что для меня, эта новая линия развития означает, что вы намного продвинулись вперед? Как вы думаете, что я вижу?” и “Какие качества вы проявили при достижении этого?”
Способ побуждения размышлений вслух у детей, который мы узнали от Мишеля Дюррана, для терапевта состоит в том, чтобы выразить свое мнение и потом спросить ребенка, думает ли он о себе так же. Например, услышав, что ребенок спал всю ночь, а не позволял страхам нарушать его сон, терапевт может прокомментировать это так: “Похоже, ты становишься смелее! Это так?”
Работая с маленькими детьми, мы задаем меньше вопросов, и они более простые, полагаясь более на тон голоса и выражение лица, приглашая их осмыслить развивающийся нарратив. Мы также даем им обширные подсказки. То есть, мы можем выразить восторг или волнение, слушая о новых достижениях ребенка, и только потом предложить ему ответить собственными чувствами по поводу этого. Мы понимаем Майкла Уайта, который, в одной из фаз своей практики, прославился тем, что падал со стула, акцентируя новый нарратив!
Мы также обнаружили, что есть некоторые взрослые и подростки, которые поначалу, похоже, не реагируют на вопросы, которые побуждают к размышлению. Работая с ними, мы сначала предлагаем собственные размышления и только после этого просим прокомментировать наши соображения. Мы осуществляем это, задавая то, что Майкл Уайт (1988а) называет косвенными вопросами. Это вопросы типа “Вы можете понять, что для меня означает то, что вы сделали большой шаг в противостоянии тревожности?” За этим вопросом следует примерно такой: “Как вы думаете, что я такого заметил, что заставило меня так думать?”
Еще один способ того, как мы поступаем в случае кажущегося отсутствия отзывчивости на наши вопросы, состоит в том, чтобы предложить выбор. Например, мы можем спросить: “Как вы думаете, это достижение больше связано с вашей решимостью преодолеть эту проблему или с вашей творческой реакцией на то, что предлагает жизнь?” К счастью, часто люди разом отвергают наш выбор и предлагают вместо этого свои собственные идеи!
8 СЮЖЕТ УПЛОТНЯЕТСЯ
... слова в письме не угасают и не пропадают, как это случается в беседе; они продолжают существовать во времени и пространстве, они удостоверяют работу терапии и дают ей вечную жизнь.
— Дэвид Эпстон, 1994, стр. 31
Именно в исполнении выражения мы пере-живаем, пере-созидаем, пере-сказываем, пере-конструируем и пере-моделируем нашу культуру. Исполнение не раскрывает пред-существующего смысла, скрытого в тексте. Скорее, само исполнение обладает учреждающей властью.
— Эдвард Брунер, 1986a, стр. 11
После посещения первого семинара Майкла Уайта *[На этом однодневном семинаре Уайт интервьюировал семью и рассказывал о некоторых из своих идей. Это было задумано как введение в нарративную терапию, а не как семинар по совершенствованию мастерства.] мы решили использовать его идеи в работе с семьей, с которой мы тогда встречались. Эта семья пришла на терапию из-за беспокойства, связанного с 11-летней Лайзой. Джэн, мать Лайзы, и Маргарет, партнер Джэн в течение восьми лет, описывали Лайзу как испытывающую страх и неуверенность. Похоже, она с неохотой посещала школу и устанавливала социальные связи с друзьями. Лайза согласилась тем, как ее описывали Джэн и Маргарет. Во время первого интервью она сидела, уставившись в пол, тихонько поерзывая и односложно отвечая, лишь когда к ней обращались.
В промежутке между первой и второй встречей мы посетили семинар Майкла Уайта. Мы решили, что на второй встрече мы попытаемся экстернализовать проблему, используя вопросы относительного влияния. Мы были восхищены тем, как прекрасно прошло это интервью. Все члены семьи говорили о том, как страхи развивают особые привычки. Беседа породила историю о том, как страхи оказывали влияние на Джэн и Маргарет, равно как и на Лайзу.
На третьей встрече Маргарет продолжала рассказывать о том, как страхи развивали привычки в промежутке между встречами, и о том, как она начала понемногу догадываться о том, как она может избежать некоторых привычек, которые страхи взрастили в ней. Джэн снова говорила о страхах и неуверенности Лайзы и беспокоилась по поводу того, что она как мать могла делать что-то не так. Лайза молчала.
Мы не имели представления о том, как продолжать беседу. Потолкавшись вокруг некоторое время, мы отказались от экстернализующей беседы и вернулись к тому, чем мы намеревались заниматься до того, как мы встретились с Майклом Уайтом. К концу встречи Маргарет тоже оставила экстернализующую беседу.
Оглядываясь сегодня на тот курс терапии, мы поражены тем, что одна беседа, в которой мы использовали некоторые нарративные идеи, прошла так замечательно. Мы не понимали, что эти идеи срабатывают в контексте мировоззрения и набора установок. Наименее важная часть здесь — техника. Мы также не понимали того, насколько устойчивыми могут быть проблемные истории. Как правило, люди живут ими в течение долгого времени. Часто их локальная культура включает установки и практики, которые поддерживают проблемно-насыщенную историю. Когда альтернативная история угасает в промежутке между терапевтическими встречами, это не такой уж необычный случай.
Сказав это, мы также обнаружили, что есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы эта история продолжалась. В этой главе одна из наших двух целей — описать те идеи, которые были наиболее полезны нам в поддержании жизни историй, как во время интервью, так и между ними.
Наша вторая цель состоит в том, чтобы описать возможности помочь людям сделать истории, которые они сочиняют, более плотными и разветвленными. Некоторые из этих вещей, похоже, случаются автоматически. Брунер (1990), к примеру, предполагает, что, конструируя само-нарративы, мы выискиваем в своем прошлом маленькие истории, которые помогли бы объяснить эти нарративы. Вдобавок к тому, что этот процесс происходит автоматически, мы уже описывали, как через постановку вопросов мы предлагаем людям уплотнить и усложнить возникающий альтернативный нарратив, сопрягая его с историями событий прошлого и гипотетического будущего. Мы рассматриваем эти поддерживающие истории и их смысл как средства уплотнения наших нарративов и обогащения их новыми поворотами. Мы обнаружили, что повторение и доскональность, особенно в контексте (1) осведомления о деталях, (2) включения большего числа людей и (3) включения различных углов зрения — исключительно полезны. В этой главе мы описываем ряд практик, которые могут работать вместе с идеями развития истории, которые мы описывали в Главах 4 и 5.
Мы хотим подчеркнуть, что ни одна из этих практик не является для нас стандартной или шаблонной. В случае некоторых людей, мы используем множество из них; в случае других, ни одна из них не применяется. Первая описываемая нами идея, к примеру, состоит в том, чтобы начинать терапевтическую беседу с краткого резюме предшествующей беседы. Недавно, когда мы встречались с одной парой, один из них попросил нас начать с резюме, сказав: “Это так помогало, когда вы делали это раньше. Так мы можем начать с того места, где мы были с тем, что случилось раньше, и связать это с нашими идеями о том, что важно именно сейчас”. Другие люди входят вполне сфокусированными на том, как они хотят провести это время дня. В этой ситуации, резюме предыдущей встречи может быть восринято как затрудняющее процесс и подавляющее некоторые вещи. Так происходит и с большинством из этих идей. Они полезны лишь тогда, когда они полезны. Мы спрашиваем людей, если эти идеи кажутся подходящими, и продолжаем использовать их, лишь если они интересны людям.
НАЧИНАЯ ИНТЕРВЬЮ С РЕЗЮМЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВСТРЕЧИ
Мы спрашивали себя, что случилось бы, когда мы, встретившись с Лайзой, Джэн и Маргарет после нашей “нарративной” беседы, начали бы интервью словами: “В прошлый раз мы разговаривали о привычках, которые подпитываются страхами, и о том, как эти привычки повлияли на каждого из вас и на вашу совместную жизнь. У вас появились какие-то другие мысли об этом, или вы заметили другие аспекты их влияния на вашу жизнь?... С тех пор как мы встречались, не удалось ли вам подметить моменты , когда одна из этих привычек могла взять верх, но вы могли ей противостоять?”
Когда человек вступает в альтернативную беседу, его восприятия себя, его взаимоотношений и дилемм, с которыми он сражается, иногда могут сместиться так, что он очень быстро будет жить новой историей. В ситуации, которую мы описываем, восприятия Маргарет сместились таким образом, что после нашей экстернализующей беседы она стала обращать внимание на вещи таким новым образом. В период между встречами она увидела, как страх поддерживает привычки, и она понемногу начала понимать, как ей избежать некоторых привычек, вскормленных в ней страхом. Она начала жить альтернативной историей, которая предлагала альтернативные смыслы и решения. Живя этой альтернативной историей, она более не видела Лайзе как пугающуюся и растерянную. И она не рассматривала Лайзу как проблему.
Хотя Лайза и Джэн участвовали в той же беседе, что и Маргарет, они не пережили сдвига в восприятии такого же рода. Мы думаем, что, разговаривая с нами, они видели вещи по-другому, но эти новые восприятия не длились долго. Могли быть отдельные отрезки времени, когда одна из них или они обе действительно жили альтернативной историей, и, спроси мы об этом, мы, возможно, смогли бы узнать об этих моментах. Однако мы не заинтересовались этим, и история угасла.
Что касается многих людей, то в начале терапии случаются моменты и контексты, когда они живут альтернативными историями, которые они начали коструировать в ходе терапии, и другие моменты и контексты, когда они снова погружаются в проблемные истории. Для других людей, хотя они могут уловить проблески альтернативных историй в процессе терапевтического интервью, эти проблески, по их мнению, не имеют влияния на них в период между встречами.
В обеих ситуациях мы обнаружили, что весьма полезно начать интервью с некоторых упоминаний о ярких событиях предыдущей встречи. Иногда полезен обзор нарратива, который возник в ходе всей нашей работы. Начало в таком стиле ориентирует беседу на процесс пере-сочинения и побуждает к продолжению пере-описания и пере-живания альтернативных историй.
Ссылки на предыдущие встречи могут принять ряд форм. Иногда мы спрашиваем: “Интересно, какие-либо идеи или достижения, о которых мы говорили в прошлый раз, играли значительную роль в ваших мыслях и жизни с тех пор, как мы встречались последний раз? Появились ли у вас новые идеи о них, или были они в некоторой степени важными?” Мы можем добавить что-то специфическое, к примеру, “В особенности, я размышлял о понятии, которое вы сформулировали как “новый тип родителя”. Оказались ли это понятие и идеи, которые с ним связаны, полезными?”
На выбор, мы можем предложить более обширный обзор предыдущей встречи, предлагая людям снова войти в беседу с нами, чтобы они могли рассказать, как все развивалось дальше.
Часто с наблюдательного пункта такого обзора люди могут взглянуть на промежуток между встречами и обнаружить, что действительно имели место уникальные эпизоды. Резюме нарождающегося нарратива напоминает людям, какую им размещаться внутри него. Глядя изнутри нового нарратива, они могут увидеть жизненные события, которые прошли незамеченными. После этого терапия может продолжиться превращением этих событий в истории. Если люди не обнаруживают уникальных эпизодов в этом процессе, они, вполне вероятно, могут назвать различные аспекты проблемы. Эти аспекты проблемной истории затем могут быть деконструированы.
Даже для людей, которые начали основательно жить альтернативными историями, начало сеанса со ссылок на более ранние встречи или с резюме сохраняет свою полезность. По мере того, как пересказываются альтернативные истории, они уплотняются и принимают новые повороты, позволяя людям ощутить их влияние и более основательно понять их значение.
Далее следует стенограмма начала интервью между Джоном, который отвоевывал свою жизнь у булимии, и мной (Дж. Ф). Мой вклад в эту беседу состоял в том, чтобы предложить резюме предыдущей беседы. Джон использовал резюме как возможность развить историю, которую он уже начал сочинять. Беседа была такой успешной, и у Джона было столько чего добавить, что все закончилось тем, что это резюме и его добавления и составили всю беседу.
ДЖИЛЛ Я перечитывала свои заметки о нашей последней встрече, и должна сказать, происходят некоторые весьма волнующие вещи.
ДЖОН У-гу.
ДЖИЛЛ Перечитывая это все, я обратила внимание на одну вещь... Вы рассказывали мне, как поехали на эту свадьбу в Канзас-Сити...
ДЖОН Ах, да. Да, да, да. О’кей. Может, вы мне напомните...
ДЖИЛЛ Хорошо. Я просто прочитаю это вам, о’кей? Вы говорили, что были действительно удивлены тем, как ловко вы отскочили назад.
ДЖОН О, да.
ДЖИЛЛ Даже несмотря на то, что вы прошли через все это и положили конец обжорству, и хотя вы положили этому конец недавно, вы ощутили, что как бы находитесь в той же точке, в которой находились до того, как булимия установила над вами свой контроль. А потом вы привели мне кучу примеров... некоторые вещи были воистину замечательными и они подтвердили, насколько преданны вы были желанию покончить с обжорством. Вроде того, как, хотя четыре чертовых пирога были в вашем холодильнике в течение 24 часов...
ДЖОН (смех) Да!
ДЖИЛЛ ... вы не...
ДЖОН Верно! На свой день рождения я испек сырный пирог, чтобы отнести его на работу, и на него я тоже не позарился!
ДЖИЛЛ Ух, ты! И булимия не уговорила вас на то, чтобы слопать этот чертов пирог, который был у вас на следующий вечер. Итак, я спрашиваю вас, как вам удалось добиться этого...
ДЖОН И он тоже был здоровенным.
ДЖИЛЛ И вы сказали, что вы добились этого силой воли. Вы говорили, что что-то у вас внутри говорило “нет”, и потом вы просто не...
ДЖОН Да, что, по мне, и не такая уж сила воли, потому что сила воли... Вы сказали, что я сказал, будто сделал это силой воли, а когда я думаю об этом, это было вроде битвы, в которой тебе надо продолжать сражаться.
ДЖИЛЛ У-гу.
ДЖОН Понимаете, что я имею в виду?
ДЖИЛЛ Да, я полагаю, да.
ДЖОН Сила воли предполагает, что это была продолжающаяся битва, которую ты...
ДЖИЛЛ Так что вы говорите, это было? Не сила воли, а что?
ДЖОН Ну, даже тогда я сказал, что если идея взбредет мне в голову... знаете, что это такое? Не сила воли, а самозащита.
ДЖИЛЛ Самозащита.
ДЖОН Это — самооборона. Потому что, по некоторой причине, я смог прийти в ту точку, когда, если это приближается, твой ум просто смещается. И поэтому это не сила воли, если иметь в виду такую борьбу. Это больше самозащита, как — нет, я не могу — и, знаете, это не выбор. Я даже не хочу думать об этом, потому что я с этим не справляюсь.
ДЖИЛЛ У-гу. Хорошо, мне это интересно.
ДЖОН Это больше вроде как самозащита, скорее это, чем сила воли, потому что это имеет не так уж много общего с силой воли.
ДЖИЛЛ О’кей. Да, думаю, я понимаю.
ДЖОН Рассчитывать на силу воли, нет, это не похоже на это.
ДЖИЛЛ Хорошо. И последний раз я спрашивала вас, как вы думали, что самозащита стала встроенной?
ДЖОН Знаете, на самом деле, я думаю, что это во многом связано с моим пребыванием у Теда и Анны, потому что я почти вроде как повернулся спиной к булимии, живя там месяц, и я стал смиряться с тем, что я не могу сделать это. Знаете, я поставил себя в эту ситуацию.
ДЖИЛЛ Хорошо, вы имеете в виду, когда вы говорите “я не могу”, вы подразумеваете, что это не выбор, выбора нет?
ДЖОН Да.
ДЖИЛЛ Итак, похоже, что вы создали привычку к тому, что это — не выбор?
ДЖОН Я создал окружение, которое не давало бы мне выбора.
ДЖИЛЛ А потом вы уже не были в этом окружении, но это стало встроенным в результате пребывания там. Вы об этом говорите? Потому что...
ДЖОН Ну, с тех пор, пока я был с Тедом и Анной...
ДЖИЛЛ Верно, но, как я понимаю, вы создали это окружение, проведя месяц с Тедом и Анной, так что вы знали, что там не было возможности для булимию пересилить вас...
ДЖОН Нет. Это было, когда этот механизм самозащиты врубился, я так понимаю. С тех пор, как я создал это окружение, где не было выбора, я думаю, тогда мне в голову пришла мысль, вроде того, что я не хочу делать это.
ДЖИЛЛ Верно.
ДЖОН Потому что в этот момент, это как будто, зачем бороться с этим? Я не могу сделать это.
ДЖИЛЛ Хорошо. О’кей. А теперь, что я...
ДЖОН Ну зачем мучить себя этими мыслями? К чему говорить “Я хочу сделать это”, когда ты этого не можешь?
ДЖИЛЛ У-гу. Вы бы сказали “нет” этим мыслям?
ДЖОН Я так думаю. Я думаю, это было, когда это действительно врубилось.
ДЖИЛЛ Но мой вопрос заключается в том, что эти другие примеры были после того, как вы сами дали задний ход. Итак, как получилось, что случилось так? Вот почему я спрашиваю, стало ли это привычкой, обладать этой самозащитой — так вы это описывали?
ДЖОН Я думаю, это подкрепляется тем фактом, что... ну, это вроде снежного кома, потому что я мог делать вещи, которые, как я полагаю, были действительно хорошими — ты не хочешь это потерять — и я думаю, что на этот раз я смог действительно быстро получить хорошее чувство от того, что бросил обжорство, потому что в прошлом, когда я завязал, когда я стал... когда я снова получил контроль, забрав его у булимии, это было не так просто.
ДЖИЛЛ У-гу.
ДЖОН И я даже не был способен получить хорошее чувство от этого. Может, от того, что все время шла такая борьба.
ДЖИЛЛ О’кей.
ДЖОН Знаете, от этого нет особо хороших чувств. Это вроде, как будто ты не можешь гордиться собой, потому что все время идет эта проклятая битва. Это вроде того, как ты можешь чувствовать себя хорошо, когда тебе все время приходится сражаться? Понимаете?
ДЖИЛЛ Итак, я просто хочу убедиться в том, что правильно это понимаю. Это вроде, когда вы находитесь в ситуации, когда есть такие... когда булимия заговаривает с вами и говорит: “Можешь объедаться”, как тогда, когда в холодильнике есть четыре пирога, и вы в этот момент говорите “Нет”. И вы не уверены, что вы сделали достаточно, и не столь этим удовлетворены этим, и важно, чтобы это продолжалось. А чувствовать себя прекрасно поэтому поводу и видеть, как много вы сделали, и это врубающаяся самозащита — все это придает этому легкость, непринужденность. Так примерно это работает?
ДЖОН Да. Понимаете, я полагаю, вчера было что-то вроде битвы, но я имею в виду, это была не главная битва, а что-то вроде битвы. И не было похоже, чтобы я сказал “Нет”, и больше об этом не думал, потому что я думаю, вчера это было немного труднее. Просто так было.
ДЖИЛЛ Но, как бы то ни было, вы сделали это.
ДЖОН Да, сделал.
ДЖИЛЛ О’кей. Хорошо, вы хотите поговорить об этом? Мне интересно, как вам удалось контролировать ситуацию, хотя и шла борьба, или вы хотите, чтобы мы с этим закончили?
ДЖОН Это замечательно (указывая на записки).
ДЖИЛЛ Итак, вы сказали после того, как вы привели все эти примеры, вы сказали, что вы гордитесь тем, как хорошо все у вас получается. И вы рассказали мне о том, как поехали на эту свадьбу в Канзас-Сити, где вы делали покупки...
ДЖОН Да.
ДЖИЛЛ ...бродили вокруг, наслаждались своим свободным временем.
ДЖОН У-гу.
ДЖИЛЛ И я спросила вас, какие заключения вы сделали в отношении себя, будучи способным наслаждаться этим временем в одиночестве, и распоряжаясь им без вмешательства булимии. И вы сказали... заключение, которое вы вывели из этого, было это был человек, который нравится самому себе.
ДЖОН У-гу.
ДЖИЛЛ Вы могли ввергнуть себя в накачивание подавленного состояния, потому что булимическое мышление навязывало вам подсчет калорий и попытки быть...
ДЖОН У меня была небольшая навязчивость.
ДЖИЛЛ Однако, вы сказали себе: “Это должно отступить. Тебе действительно все хорошо удается”. И вы позволили чувствовать себя хорошо, хотя ваше внимание тянулось к калориям.
ДЖОН Да, гм-м.
ДЖИЛЛ И это выглядело, как маленький прорыв, потому что в прошлом вы вгоняли себя в большую депрессию по этому поводу. Это так, или нет?
ДЖОН Да, да, я полагаю, да. Или я мог просто позволить этому продолжаться...
ДЖИЛЛ Да.
ДЖОН ... думая, о Боже, дела действительно никудышные, и, знаете, вот так я сидел и думал. Но когда я дал себе осознать это “о, Боже”, прошел ведь только месяц, понимаете, и был вправе просто гордиться тем фактом, что я делаю то, что делаю, всего лишь спустя месяц. Да!
ДЖИЛЛ Это паттерн возможности признать то, как хорошо вы поступаете в определенном контексте, вместо того, чтобы отдать себя на растерзание своего рода перфекционизму, для вас это новая форма триумфа?
ДЖОН Я полагаю, это так, на самом деле. Да, я думаю, это так. Да, я полагаю так, потому что, да, то есть, мне нужно это обдумать, но все же я думаю, так и есть.
ДЖИЛЛ А есть ли другие контексты в вашей жизни, где бы это могло стать новым способом обращения с разнымивещами?
ДЖОН Ну, да, потому что, помните, я говорил о своих упражнениях? Я пытался быть немножко последовательнее по отношению к этому, даже если это означало, что моя энергия была... Я скажу вам, что это такое. Это все выбивает из колеи, когда я думаю, что мне надо заниматься тренировками, как настоящему мужчине, понимаете, типа тянуть себя за уши, понимаете, изнурять себя, заставляя заниматься тренировкой. Это превосходит мои силы и, вероятно, не очень хорошо для здоровья. Я не знаю. И просто сказать себе: “Я сделаю то, что мне по силам”. И даже если это означает делать меньше того, что мне хотелось бы, или меньше того, что я обычно делаю, по крайней мере, я что-то сделал...
ДЖИЛЛ Хорошо, вы уже делаете это, в контексте упражнений!
ДЖОН Я стараюсь. И иногда, даже если... ох, я делаю иногда меньше, чем мне удавалось в прошлом. Потому что в прошлом я занимался этим так, что, если я не тренировался менее полутора часов и не тянул себя за уши, и не выжимал Х фунтов Х раз, тогда я, на самом деле, ничего не делал, понимаете? А теперь, если я сижу там и говорю: “Да, я чувствую, что, похоже ничего не делаю”, тогда я действительно что-то немного делаю. По крайней мере, ты что-то сделал.
ДЖИЛЛ Да. Как вы думаете, то, как вы делаете это, это больше ваш путь или путь булимии?
ДЖОН Мой путь.
ДЖИЛЛ Итак, вы действительно так разговариваете с собой, не правда ли? Вы говорите себе какие-то вещи, чтобы действительно подтвердить то, что вы делаете?
ДЖОН О, да. И в субботу я вышел прогуляться с другом, и мы пошли в одно уютное местечко, и я как бы сказал себе, что я намерен расслабиться, не быть таким педантичнм и заказать что-то такое, что я обычно ел раньше, здесь, на самом деле, не было каких-то ограничений. И, знаете, у них в меню был салат, и это было то, что мне действительно хотелось — съесть салата. Это то, что я бы сделал. Но вместо этого, мы закусили в баре и съели по порции сладкого жареного картофеля. Я был так голоден. Правда. И мы уселись за стол и нам так понравилось это блюдо, что мы заказали еще порцию и поделили ее. Мы заказали маленькую порцию цыпленка с макаронами, но мы ее разделили тоже, понимаете? И для меня это было хорошо, потому что жареная картошка — это не то, что я бы съел. Блюдо с макаронами — это было что-то, чего я, вероятно не заказал бы. Как я сказал, в меню были салаты, и мне пришлось насильно отказаться брать салат, потому что я всегда так делаю.
Беседа продолжается. Мы продолжаем сплетать вместе фрагменты из предыдущего резюме и новые линии развития по мере того, как Джон пере-сочиняет свою жизнь.
СВЯЗЫВАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ С ПРОБЛЕМАМИ И ПРОЕКТАМИ
Пере-сочиняя свои жизни, многие люди говорили нам, что поименование проблем и проектов или сюжетов и контр-сюжетов оказывается полезным. Как только они получают имя, люди легче распознают, когда кругом враги, и когда они сами входят на предпочтительную территрию. Обладая такой способностью к распознаванию люди чаще ощущают, что они способны выбрать, что делать.
Вопросы, которые мы используем, прося людей назвать сюжет и контр-сюжет или проблему и проект, довольно прямолинейны. Вопросы такого рода предлагают людям дать название сюжету:
* Эта проблема, о которой вы рассказывали мне, как мы ее можем назвать?
* Могли бы вы сказать, что это непонимание встает между вами двумя? Справедливо ли так называть это?
Если история человека менее прямолинейна, при поименовании проблем иногда полезно спрашивать об ограничениях:
* Что мешает вам реализовать те мечты, которые вы упомянули?
* Что встает на вашем пути, когда вы намереваетесь найти работу?
Также полезно поименовать контр-сюжет. Это поименование часто приходит позже в процессе. Вот примеры вопросов, предлагающих людям назвать контр-сюжет:
* Вы избежали соблазнов проблемы по крайней мере в двух случаях на прошлой неделе. Если бы вам пришлось дать имя тому новому направлению, которое вы принимаете, как бы вы его назвали?
* Похоже, что новые направления в вашей жизни представляют собой проект, за который вы беретесь, это так? Есть ли у этого проекта название?
Если согласовано значимое поименование, вокруг этого можно организовать значительную часть терапии. По мере того, как события пересказываются или представляются в помещении для терапии, людям можно задавать вопросы, которые сортируют их на сюжеты и контр-сюжеты.
* Это поведение было больше на стороне борьбы или на стороне близости?
* Как вы думаете, это говорило сомнение в себе или доверие?
Даже если люди не назвали явным образом проблемы, с которыми они борются, и проекты, в которые они вовлечены, мы можем ссылаться на проблемы и проекты, предлагая потенциальные названия. Например, мы можем сослаться на “про-страх” и “анти-страх”. Со временем, когда человек начнет реагировать на эти названия, они могут эволюционировать и быть усовершенствованы в “жизнь в зоне войны” и “гармонию”. Эти названия позволяют нам спрашивать, находятся ли конкретные события на стороне проблемы или на стороне проекта.
На нашей первой встрече Вильям описал, как рос вместе с крупным кредитным фондом. Он думал, что кредитный фонд создал питательную почву для “откладывания на потом” и других привычек, которые втянули его в состояние бездеятельности. Бездеятельность, в свою очередь, создало огромное пространство для бедствий в его жизни. Мы говорили о роли культурных и семейных ожиданий в том, что ни одно из предпочтений, о которых думал Вильям, не казалось достаточно хорошим. В условиях такого окружения, откладывание на потом, похоже, часто оказывалось желательным способом избегания конкуренции. Недавно 38-летний Вильям развелся. Он не работал в течение нескольких лет с тех пор, как его компания обанкротилась. Отсутствие направления казалось основной чертой его жизни. Он назвал эту проблему “старые привычки втягивают меня в бездеятельность”, а проект — “отобрать мою жизнь у привычек”.
В промежутке между нашей первой и второй встречей Вильям переехал из квартиры в дом. (План, связанный с этим переездом, начал осуществляться еще до того, как началась терапия.) В начале второй встречи, рассказывая о переезде, вильям сказал, что его дети приезжали к нему на выходные, а он еще не купил телевизор. Я (Дж. К) спросил: “Покупка телевизора будет на стороне старых привычек или на стороне возвращения вашей жизни?”
Вильям задумался над вопросом и ответил: “ТВ анестезирует меня. Оно делает меня недееспособным”. Он продолжал, представив контраст между тем, чего он добился в работе по дому прошлым вечером, с тем, что бы он сделал, будь у него телевизор. Хотя сначала он упомянул об отсутствии телевизора как о чем-то, что могло бы разочаровать его детей, теперь он начал размышлять о том, не создаст ли это отсутствие новые возможности для установления с ними других взаимоотношений. Телевизор, как он решил, был на стороне старых привычек. Хотя откладывание на потом сыграло свою роль в том, что он не купил телевизор неделю назад, на нашей встрече он решил не покупать его, включив этот поступок в проект возвращению своей жизни себе.
То, что могло стать просто отчетом о его переезде, стало поводом для обнаружения уникального эпизода. Этот повод дал лишь один вопрос: “Покупка телевизора будет на стороне старых привычек или на стороне возвращения вашей жизни?”
Как отмечает Дэвид Эпстон (1989b), наши вопросы могут предложить людям выбор: связывать себя с проблемой или проектом. Когда люди решают связать себя с проектами, они конструируют альтернативные истории, в которых они ощущают личное участие. Карл Томм (1993) утверждает далее, что эти вопросы (которые он называет “вопросами бифуркации (разветвления)”) мобилизуют эмоциональные реакции людей, связывая позитивные эмоции с проектом (при условии, что человек предан проекту), а негативные — с проблемой, что может помочь в противостоянии ей.
Размещение дилемм между проблемами и проектами позволяет как терапевтам, так и людям, с которыми они работают, придерживаться направления, связанного с пере-сочинением. Если кто-то запускает историю события, которое, по ощущению терапевта, направлено по касательной, он может спросить: “Как по вашему, то событие, которое вы описываете, находится на стороне депрессии или направлено против него?” Чтобы ответить на вопрос, человек должен каким-то образом связать это событие со своей борьбой с депрессией, и процесс пере-сочинения может продолжиться.
Еще одно преимущество вопросов о том, находятся ли события, мысли, чувства и пр. на стороне проблемы или на стороне проекта *[Похоже, эти вопросы наиболее эффективны тогда, когда они соответствуют форме выражения, которую люди, с которыми мы работаем, используют для описания своих альтернативных взаимоотношений с проблемами. Здесь мы используем язык, которые предполагает, что человек и проблема находятся по разные стороны. Мы можем использовать язык, предполагающий, что человек может преобразовать свои взаимоотношения с проблемой. Например, мы можем сказать: “Эта новая музыка, которую вы слушаете, как по вашему, она поддерживает ваше обучение у посланника страха, или она способствует тому, что страх ударяется в панику?” См. Freeman and Lobovits (1993), где обсуждается влияние использования различных метафор для взаимодействия с проблемами.] состоит в том, что ответы предоставляют возможности уплотнить развивающиеся нарративы. По мере того, как люди сортируют беседы, телепрограммы, комментарии, книги, виды деятельности и т.д. по этим категориям, напряжение между сюжетом и контр-сюжетом распространяется по укромным уголкам и щелям их жизни. Поступки повседневной жизни превращаются в решения, посредством которых они должны соединить себя с альтернативными, либо проблемными историями. Это превращает жизнь в возможность для драматического представления предпочтительных нарративов.
Постановка дилемм также делает людей более внимательными в отношении ловушек, которые может расставить проблема, и шагов, которые они делают в направлении решений. Часто люди принимают этот процесс как свой собственный и задают себе вопросы типа: “Будет ли приход на это свидание про-запугиванием или анти-запугиванием?”или “Это действительно то, о чем я думаю, или это говорит голос ненависти к себе?” Когда люди начинают спрашивать себя и отвечать на вопросы такого рода, они склоняются к тому, чтобы выбирать поведение, поддерживающее их предпочтительные нарративы, тем самым создавая новые поддерживающие события для этих нарративов.
Например, к нам пришла семья, потому что администрацией школы была рекомендована терапия для девятилетнего Джереми, которого постоянно посылали в кабинет директора за вспышки злобы. Во время третьего интервью Норин рассказала нам, что за день до этого Джереми ввалился в кухню на 45 минут раньше, чем его ожидали дома. Когда она увидела выражение его лица, Норин немедленно охватили тревожные предчувствия. Эти предчувствия убедили ее в том, что раздражительность Джереми, должно быть, снова навлекла на него неприятности.
“Ма! — воскликнул Джереми. — Та игра, в которую играли ребята, была на стороне раздражительности. Ты бы видела это!” Когда Норин попросила Джереми пояснить это, он сказал: “Никто ни с чем не соглашался! Все орали друг на друга и обзывались. Эта игра была на стороне раздражительности, поэтому я просто ушел”. Этот восхитительный поворот событий стал фокальной точкой терапевтической беседы. Это была точка поворота во взаимоотношениях Джереми с раздражительностью. Теперь семья увидела, что раздражительность была чем-то, к чему Джереми может повернуться спиной. Воодушевленная представлением Джереми этих альтернативных взаимоотношений, Норин решила, что она может повернуться спиной к своим тревожным предчувствиям в отношении Джереми, тем самым добавляя еще одно ответвление к истории.
ВЕДЕНИЕ ЗАМЕТОК
Одна из вещей, которую мы заметили (и скопировали), наблюдая за работой Майкла Уайта и Дэвида Эпстона, это то, как они вели заметки, фиксируя и повторяя не свои собственные идеи, но те из наиболее важных, на их взгляд, слов, которые произносили люди, с которыми они работают.
Давайте используем гипотетический пример в качестве иллюстрации: Путем запугивания женщину удерживали, даже в ее мыслях, от заявлений о своих правах на свое собственное мнение. На третьей встрече она неуверенно говорит: “С тех пор, как мы виделись последний раз, у меня действительно было мнение, которое я подумала про себя”. Терапевт может сказать: “Вопреки всему этому, у вас действительно было мнение, и вы позволили себе его знать?” Затем женщина может сказать: “Верно. Я позволила.” Потом терапевт может сказать: “Вы не будете против, если я запишу это? Я люблю получать точные слова”. Женщина отвечает согласием и повторяет: “У меня было мнение, которое я позволила себе знать”. После этого терапевт говорит: “Я хочу, чтобы это было записано (делая записи и медленно произнося слова). У вас было мнение, и вы позволили себе знать его”. Женщина кивает головой и говорит: “Да, позволила”.
В течение этого процесса одно событие оглашается четыре раза. Нам кажется, что одно только это повторение представляет ценность для придания истории большей реальности.
Люди, с которыми мы работаем, говорят нам, что это совершенно другой опыт — услышать что-то, чем сказать это. Этот процесс допускает обе перспективы. Кроме того, каждое повторение может сопровождаться различными мыслями и ассоциациями. Итак, каждое повторение уплотняет историю. Заметки, которые мы ведем в ходе этого процесса, становятся “официальной записью” контр-сюжета.
Однажды, когда мы сидели за зеркалом Майкла Уайта в Центре Далвича, мы слышали, как одна женщина противопоставляла опыт чтения заметок Уайта об их совместной работе с опытом чтения истории болезни из больницы, где она годами была сменным пациентом. Она сказала, что когда она читала свою больничную карту, она чувствовала себя старой, маленькой и обманутой. Она ощущала себя даже не человеком, а хроническим психическим пациентом.
Потом она рассказывала о том, как читала заметки Майкла Уайта. Она сказала, что чем больше она читала, тем более живой она себя ощущала. Она смогла увидеть движение в своей жизни. Она ощущала себя человеком, которого ценят, и который улучшает ее жизнь с каждым днем.
С нашего наблюдательного пункта за зеркалом, эта женщина, проводя это сравнение, выглядела как два разных человека. Рассказывая о больничной карте, она говорила и двигалась медленно и казалась какой-то сморщенной и вялой. Когда она рассказывала о заметках Уайта, мы увидели преображение. Она сияла.
“Долговременная запись”, состоящая из наших заметок по поводу проектов людей, может стать священным текстом, который обрамляет предпочтительную историю человека, делая ее канонической и “реальной”. (Подробности о ведении заметок см. на стр. ** — **.)
ВИДЕО- И АУДИОПЛЕНКИ
С согласия людей, мы иногда делаем видеозаписи терапевтических бесед. Когда мы делаем это, то понимаем, что эти пленки принадлежат людям, с которыми мы работаем, в той же степени, что и нам (или в большей, в том смысле, что они в любой момент могут запретить нам использовать их). Иногда люди просматривают пленки, а потом возвращают их. Иногда они их оставляют себе. Мы работали с людьми, которые просматривали каждую беседу, с другими, которые просили конкретную запись, и с еще одними, которые решили совсем не просматривать пленки.
Для тех, кто действительно просматривает пленки, этот опыт представляет собой расширенную версию выслушивания своих высказываний, повторенных другими. Они могут посвятить больше времени, обдумывая конкретный вопрос. Или, просматривая пленку, они могут поразмышлять над смыслом того, что они сами говорят. Сочинение, которое начинается на сеансе, часто продвигается немного дальше, пока они смотрят пленку. Не так уж редко люди приходят на следующую встречу с идеями и вопросами, которые появились при просматривании ими пленки.
Временами люди находят полезным просмотреть какую-либо пленку наших ранних встреч. Делая так, они часто размышляют над отличием человека, которого они видят на пленке, от человека, которым они себя теперь ощущают. Они могут узнать, как далеко они ушли, придавая своим развивающимся историям ощущение движения во времени.
Как бы нам ни хотелось отрапортовать, что люди, с которыми мы встречаемся, всегда неизменно движутся только вперед, наш реальный опыт состоит в том, что люди входят в новые истории и выходят из них. Для того, кто переживает отход от новой жизни, просмотр пленки, которая документирует опыт его жизни в более предпочтительном стиле, может быть весьма полезен. Слышать и видеть самих себя разговаривающими о том, как основать предпочтительные версии своей жизни — это гораздо более воодушевляющий опыт, чем слушать отчет кого-либо другого о своих собственных действиях.
Хотя мы никогда не использовали аудиозаписи, ими можно воспользоваться в тех же целях.
ПИСЬМА
Согласно Майклу Уайту (1995), Дэвид Эпстон провел информационный опрос людей, которые работали с ним, и выяснил, что, в среднем, они считают, что письмо стоит 4,5 сеансов хорошей терапии. Дэвид Нилунд (Nylund &Thomas) также опросил 40 людей, которые с ним работали. Его результаты показали, что в среднем письмо стоит 3,2 интервью. В таком случае, похоже, что письма полезны для продолжения историй и уплотнения их.
Письма от терапевтов использовались некоторое время и по множеству разных причин (Elkaim, 1985; Pearson, 1965; Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, & Prata, 1978; Shilts & Ray, 1991; Wagner, Weeks, & L’Abate, 1980; Wilcoxon & Fenell, 1983; Wojcik & Iverson, 1989; Wood & Uhl, 1988). Единственным пределом здесь служат творческие рамки терапевта. *[Что касается идей об использовании писем и документов в терапии, мы настоятельно рекомендуем White & Epston (1990), Epston (1994), “Therapeutic documents revisited” в White (1995) и Nylund and Thomas (1994).]
Письма не только уплотняют историю и помогают людям, с которыми мы работаем, оставаться погруженными в нее, но также более основательно вовлекают нас в процесс соавторства, давая нам возможность задуматься над языком и вопросами, которые мы используем. Мы находим, что при написании письма к нам приходят идеи, которые не пришли бы ни в каком другом случае. Возможно, это от того, что мы пишем письма сразмышляющей позиции. Мы выходим из реальной терапевтической беседы, но вспоминаем о ней и ссылаемся на нее.
Что касается нас, то письма служат трем основным целям: (1) подвести итог нашим встречам и дать свежий взгляд на них, (2) развернуть идеи или истории, которые зародились в терапевтической беседе, и (3) включить в процесс людей, которые не посещали встречу.
Итоговые встречи
Мы пишем письма непосредственно на основе наших заметок. Поэтому, те резюме, которые мы предлагаем в письмах, представляют собой в крайней степени избирательные и отредактированные версии терапевтических бесед. Поскольку нарративная метафора направляет нашу работу, и мы последовательно выверяем предпочтения людей, письма могут дать, по сравнению с пленками, преимущество в том, что они высвечивают те аспекты беседы, которые строят и укрепляют предпочтительные истории.
Эффективное написание такого письма требует ведения очень хороших заметок. *[Мы полагаем, что очень подробное запоминание могло бы способствовать этому процессу, но, поскольку ни один из нас не обладает соответствующей способностью, мы, на самом деле, не можем обсуждать эту возможность.] Мы организуем наши заметки в рамках нарративной метафоры, следя за развитием сюжета и контр-сюжета. На левом поле страницы мы отмечаем вещи, которые имеют отношение к проблемной истории (или сюжету). Мы ведем эти записи на экстернализованном языке. То есть, если кто-то говорит: “Мы не можем поладить друг с другом. У нас ни в чем нет согласия. Когда у нас бывают люди, это чрезвычайно стеснительно, потому что мы постоянно сражаемся”, мы записываем
несогласие
сражение
стеснение
изоляция? (Обратить внимание на графические знаки. Прим. перев.)
Эти заметки облегчают нам постановку деконструктивных вопросов типа “Итак, несогласие и сражения взяли верх в ваших взаимоотношениях, это так? И временами это приводит к стеснению?... Вы говорили также, что стеснение приводит к изоляции?”
На правом поле страницы мы прослеживаем ход альтернативной истории, которая развивается. Когда мы отмечаем что-то как уникальный эпизод, мы ставим звездочку перед этим. На правой стороне бумаги мы склонны записывать точные слова людей с тем, чтобы мы могли вернуться и спросить о них или сослаться на них, предлагая выбор слов, которые кажутся подходящими для названия проекта. Фиксирование точных слов людей также позволяет нам цитировать их в письмах.
В приведенном выше примере, когда пара рассказывает нам, что у них действительно есть хорошие друзья, Боб и София, с кем они постоянно встречаются, мы можем записать
несогласие *хорошие друзья, Боб и София
сражение
стеснение
изоляция? (Обратить внимание на графические знаки. Прим. перев.)
Затем мы можем задать вопросы о том, как им удается поддерживать отношения с Бобом и Софией, а не прекратить их под влиянием стеснения и изоляции. По мере того, как излагаются подробности истории их отношений с Бобом и Софией, мы делаем пометки на правом поле страницы.
Когда мы пишем письмо, перед нами лежат наши заметки. Мы пишем, задаваясь идеей помочь людям погрузиться в новую историю или уплотнить и добавить новые повороты к развивающейся истории. Далее следует пример письма, которое я (Дж. Ф) послала 15-летней Ронде после нашей первой встречи. *[Для того, чтобы быть эффективными и стоящими, письма отнюдь не должны быть такими длинными, как это. Большинство писем, которые мы пишем, короче этого. Мы выбрали это письмо, поскольку оно основательно подводит итог предпочтительным событиям в одном единственном интервью.]
Дорогая Ронда!
Было приятно познакомиться с тобой на первой встрече. Вот мое понимание того, о чем мы говорили. Пожалуйста, дай мне знать, если я в чем-то ошиблась или упустила что-то важное.
Ты сказала мне, что твою жизнь охватило “подавляющее чувство одиночества, которое пытается уговорить тебя поверить в то, что ты никому не нужна, и что у тебя нет своего места в жизни. Это чувство временами убеждало тебя, что никто не хочет быть рядом с тобой. Оно осуществляло это, закладывая тебе в голову мысли, вроде: “Я им не понравлюсь” или “Они подумают, что я навязчива”, или “Почему они со мной не разговаривают?” Эти мысли заставляли тебя отступать и уходить в себя. Они удерживали тебя от того, чтобы заговорить с людьми, и даже от того, чтобы верить в себя и ценить себя. Похоже, эти мысли прочно укрепились в твоей жизни, когда ты занималась спортом после школы, а твои друзья проводили время без тебя. Мысли начали говорить тебе: “Они были близки тебе. Теперь ты на обочине”.
Ты, должно быть, была уязвлена этими мыслями, поскольку в школе тебе приходилось часто переживать, когда мальчишки издевались над тобой и унижали тебя, называя тебя жирной и уродливой. Не все ребята занимались этим, или не все, по твоему мнению, могли бы этим заниматься. Когда я спросила тебя, что, по-твоему, могло подвигнуть ребят на такие установки, позволяющие подобное поведение, ты сказала: “Журналы, телешоу, афиши. Везде показывают стройных женщин. Вот на чем мы воспитывались”. Однако ты можешь понять и согласиться с тем, что эти образы нереальны и недостижимы. Даже если бы они были достижимы, стало бы это оправданием для того, чтобы обращаться с кем-то еще подобным образом? Как ты думаешь, какие установки уговаривают некоторых мальчиков так обращаться с девочками?
Нереальные перфекционистские образы повернули твои мнения против тебя самой. Они вскормили критический голос, который говорит тебе: “Я уродлива. У меня никогда не будет парня”. Все это приходит, как ты сказала, к “важности того, чтобы кто-то хотел быть с тобой”. А все эти перфекционистские образы и сопровождающие их мысли и чувства заставили тебя думать: “Я никогда никому не понравлюсь”.
То, что тебе бы хотелось, это “возвратить твое мнение о себе самой”. Ты назвала проект, над которым ты будешь работать со мной “Лучше относиться к себе и перестать унижать себя”.
Что касается этого проекта, на твоей стороне уже есть кое-что. Во-первых, хотя мысли говорят тебе: “У меня никогда не будет парня”, ты сказала: “Это глупо”. Каким-то образом тебе удалось стать тем, кто может дать оценку этим мыслям, вместо того, чтобы мысли постоянно оценивали тебя. Как ты думаешь, оценивать мысли — это хорошая идея?
Ты сказала, что эти мысли былиглупыми, потому что “парни — это не самая важная вещь. Нравится себе — вот что важно”. Как ты думаешь, почему девочки и женщины пришли к убеждению, что отношения с мальчиками и мужчинами — это самая важная вещь? Как тебе удалось избежать такого типа мышления и решить, что гораздо важнее нравиться себе?
Эти мысли не смогли закрыть тебе глаза на то, что у тебя есть друзья и семья, которым ты нравишься, и которые любят тебя. Миган, к примеру, звонит тебе по телефону. Если бы мне пришлось интервьюировать Эмму, она бы сказала: “Ты милая. Ты хорошенькая. И ты сообразительная!” Мне было бы интересно узнать больше о роли твоих друзей в проекте “Лучше относиться к себе и перестать унижать себя”. Поскольку я немного старше тебя, я уверена, что некоторые вещи я пойму неверно или не пойму вовсе, пока мы будем работать над этим проектом. Меня волнует то, что я могу узнать от тебя о познаниях подростков (однако, пожалуйста, не думай, что обучать меня — это твоя обязанность). Но может быть, ты думаешь, нам следует пригласить еще одного подростка, чтобы убедиться наверняка, что познания подростков полностью представлены на нашей встрече? Могли бы Миган или Эмма стать кандидатами на эту роль?
Еще одна вещь, с которой ты входишь в этот проект состоит в том, что эти перфекционистские образы не заманили тебя в убеждение, что в мальчике важна внешность. Есть много приглашений поговорить о том, как выглядят мальчики, но ты их не принимаешь. А иногда ты даже предлагала, чтобы другие люди не обсуждали внешность! Откуда ты взяла эту идею? Фактически, ты сказала мне, что, по твоему мнению, ты достойна стать кандидатом в штатные члены “Команды Бойцов за Социальную Справедливость и Хорошие Чувства”.
Другие говорили тебе, что “ты — милейший человек”. Ты думаешь, что они имеют в виду, что ты действительно живешь ради людей и всегда пытаешься глядеть на мир положительно. Мне страшно интересно услышать о тех временах, когда ты жила для кого-то еще. Мне особенно интересно просто услышать о том, что ты делала, и как тебе пришло на ум это делать. Ничего, что я спрашиваю об этом? Ты не думаешь, что этот опыт мог бы сделать тебя правомочным кандидатом в штатные члены “Команды Бойцов за Социальную Справедливость и Хорошие Чувства”, или есть ли еще другие воспоминания, которые ты могла бы добавить, или сначала надо сделать нечто большее? Служит ли для тебя получение членского билета частью проекта “Лучше относиться к себе и перестать унижать себя”? Ты сказала мне, что глядеть на этот билет и напоминать себе, что это тот, кем ты хочешь стать, было бы весьма полезным. В какой момент, по-твоему, тебе следует получить членский билет?
У меня есть еще два замечания по поводу шагов, которые ты уже сделала для своего проекта.Одно — это то, что ты обнаружила, что скорее всего тебя охватывают дурные чувства, если ты не высказываешь свои чувства. Высказывание своих чувств мне — это часть сообщения людям о том, что происходит, и шаг в сторону того, чтобы лучше относиться к себе и перестать унижать себя. Мне будет интересно выяснить последствия наших бесед.
Второе замечание состоит в том, что ты решилась на то, чтобы не позволять мыслям, посылаемым одиночеством и перфекционистскими образами, править бал. Вместо этого, ты хочешь думать сама. Ты решила высказать себе контр-мысль: “Я могу и не иметь совершенного тела, но мне удается множество вещей. Я преуспеваю в школе и у меня куча друзей и семья”. Мне было бы интересно узнать, что нового приносит эта мысль.
Жду нашей следующей встречи,
Джилл
Письмо к Ронде следует за течением той беседы, которая у нас состоялась, высвечивая те части, которые казались наиболее важными в контексте проблемы и проекта, и добавляя вопросы для продолжения истории. Тем не менее, письма не обязательно должны относиться к одной единственной беседе. Были случаи, когда мы писали письма, подводящие итог нескольких бесед.
Следующее письмо адресовано Джулии. Когда я (Дж. К) писал это письмо, я уже встречался с Джули примерно в течение трех лет, и она все еще вела борьбу не на жизнь, а на смерть с ненавистью к себе и сомнением в себе. Сколько Джули себя помнила, ощущение, что она, на самом деле, не человеческое существо, густо окрашивало ее жизнь. Она никогда не испытывала чувства принадлежности чему-то, которое, похоже, ощущали “настоящие” люди. Джули подумывала о том, не было ли это чувство частично связано с тем, что она была приемной дочерью.
Большую часть ее детства, приемный отец испытывал к алкоголю большую тягу, чем к ней, и ни один из родителей не имел достаточно опыта по части теплоты или близости. Когда Джули было 12, болезнь вынудила ее оставаться дома в течение трех месяцев. Страх возвращения в школу вкупе с отсутствием настойчивости и способности направлять со стороны родителей привели к тому, что она не посещала школу два года, занимаясь с домашним учителем. Когда она снова пошла в школу, Джули почувствовала себя одинокой и растерянной.
На последнем курсе колледжа Джули сошлась с человеком, который через шесть месяцев начал изощренно ее унижать. Она оставалась в этих отношениях четыре года, будучи убежденной в том, что она заслуживает не любви, а унижений.
С тех пор, как эта связь закончилась, она жила, по ее словам, “как незнакомка, квартирант” в доме ее родителей. Она закончила колледж и работала на нескольких (опять по ее словам) “тупиковых работах”. Теперь ей сорок.
Проект “пере-удочерения”, на который я ссылаюсь в этом письме, продвигался рывками, и Джули серьезно подумывала о том, чтобы сделать перерыв в терапии. Я думал, что это ее безусловное право — решать, когда встречаться со мной и встречаться ли вообще, и я хотел поддержать ее в принятии решений для себя. Тем не менее, я не был уверен в том, кто на самом деле выступал в пользу перерыва — Джули или ее ненависть к себе. Временами она говорила так, как если бы перерыв стал для нее каникулами, которые она смогла использовать для практикования рассчета на собственные силы. В другие моменты казалось, что ненависть к себе убеждала ее в том, что ее ситуация настолько безнадежна, что говорить со мной, или с кем-то вроде меня, бесполезно. В эти моменты казалось, что ненависть к себе могла быть близка к тому, чтобы уговорить ее сделать перерыв в самой жизни.
Я написал это письмо, чтобы поддержать ее в принятии решения в отношении ее действий. Рассматривая это как часть этого процесса, я надеялся, что она, возможно, поразмышляет над историей своей борьбы, которую мы не так давно сконструировали во время наших встреч. С этой целью, я ссылаюсь на историю ее борьбы со “старыми чувствами” сомнения, ненависти к себе и безнадежности, мягко предлагая ей деконструировать их, когда я пересказываю и соединяю те многочисленные яркие события, о которых она мне рассказывала.
Дорогая Джули!
Во время нашей последней встречи было похоже, что некоторые из старых чувств, с которыми вы так долго боретесь, взяли верх. Я знаю, что эти чувства могущественны и знакомы, настолько могущественны и знакомы, что они легко затмевают менее знакомые чувства.
Мое намерение, когда я пишу это, не заключается в том, чтобы действовать так, как если бы старые чувства не были важны, или пытаться убедить вас, что они менее значительны, чем они есть на самом деле. Они как значительны, так и важны. Тем не менее, мне кажется, что, если вы все еще заинтересованы в проекте по пере-удочерению себя, важной частью этого проекта могли бы стать забота и вскармливание новых чувств и идей о самой себе. Поэтому я подумал, что опишу некоторые из вещей, которые время от времени возникали в наших разговорах, и которые, как кажется, служат исключениями из старых знакомых мыслей и чувств.
На встрече, которая происходила в феврале 1993, вы рассказывали о двух примерах взаимоотношений, которые доставляли вам радость: одни — с вашей лошадью, Эйнджел, и другие — с вашей кузиной, Маргарет. Как вы знаете, мы говорили об этих взаимоотношениях и после этого. В той же беседе вы тепло рассказывали о пребывании на ферме в Миннесоте, когда вам было 11. Тогда вы сказали, что окончание колледжа было большим достижением, которое доставляло вам удовольствие. Вы также сказали, что примерно 10% позитивных суждений, которые люди выносят о вас, действительно пробиваются к вам и вызывают некоторые изменения в вашем самовосприятии, и вы сказали, что вам хотелось бы бросить привычку, связанную с самокритикой. Это наводит меня на размышления о том, что, если бы вы позволили пробиться к вам позитивным суждениям Маргарет о вас, какими они могли бы быть?
В марте вы рассказывали о том, как вы смотрели на людей, которые окружали вас на работе, и говорили себе невообразимые вещи: “Я могу делать то, что делают они”. В апреле вы говорили о том, что поняли, что ваши сотрудники не справляются с работой лучше, чем вы, во всех областях. Кроме того, вы сказали, что поведение ваших начальников не определяло, кто вы есть. (Если они были лишенычувствительности, то этот комментарий относится к ним, а не к вам.) Вместе с этими гранями опыта к вам пришли некоторые ощущения своей собственной значимости и качества, которые вы обнаружили в себе. Вы предпочли не называть их, однако не было бы полезным назвать их для себя снова?
В мае у вас была собственная квартира, вы окончили один курс по программе Эм-Би-Эй и готовились начать другой, вы также присоединились к группе для одиноких людей. Вы выполняли условия, состоящие в разговорах с членами группы по телефону, посещении кино и т.д. Вы пошли в оздоровительный клуб и начали брать уроки плавания. Вы рассказывали о том, что обладание собственной квартирой помогло вам увидеть себя “взрослой, компетентной и зрелой”. Вы сказали, что более взрослые чувства уменьшили вашу подверженность страху. В июне вы говорили о том, как вы учились рационально противостоять негативному самообсуждению и превращению ситуации в катастрофу. Я знаю, что, когда старые чувства берут верх, трудно разглядеть сквозь них то знание, которого вы добились, однако мне интересно, что бы вы, “тогдашняя”, посоветовали бы сейчас?
В августе, несмотря на некоторые препятствия, которые включали не оправдавшие надежд взаимоотношения и перелом лодыжки, вы закончили курс по маркетингу. Вы сказали, что подумывали о самоубийстве, однако, встав лицом к лицу с этим решением, вы предпочли ему альтернативу в виде продолжения карьеры в качестве ответственного человека. В октябре, хотя трудностей было очень много, вы держались знания, что вы можете работать и содержать себя. Вы рассказывали о том, как способность работать и содержать себя была значительным шагом к тому, чтобы стать ответственным человеком. На протяжении осени и зимы вы боролись с ощущениями стыда, негодности и неспособности быть любимой. Вы можете понять, что в те времена для меня на первый план выходило то, что вы продлжаете сражаться, что вы не смиряетесь?
Даже в это трудное время вы были способны восхищаться, по крайней мере слегка, мальчиками своего брата. Вы рассказывали, как проводили с ними праздники и ценили в них, что они “настоящие”, не фальшивые или лицемерные. Вы собрались работать в детском саду. Вы говорили, как замечательно видеть свою кошку вечером. Вы сказали, что вам действительно нравится включать на полную мощь радио в автомобиле по дороге с работы домой. Вы рассказывали о позитивных воспоминаниях: закопаться головой в гриву лошади, встреча рассвета на повозке с сеном.
Вы легли в больницу вместо того, чтобы сдаться голосам сомнения и ненависти к себе. Вы использовали перерыв, который предоставила вам госпитализация, для того, чтобы решить оставить работу, которая стала в высшей степени деморализующей и мерзкой. Вы почти сразу заговорили о том, как здорово не ходить на “эту работу” каждое утро. Мы разговаривали о проникающей силе и могуществе идей никчемности и стыда и привычек, связанных с пассивностью, о том, как вы решились противостоять этим семейным традициям.
Когда возникли заботы по поводу поиска новой работы, вы вспомнили, что однажды вы попали в число трех человек из 500 претендентов, которые были приняты на определенную работу. Вы также вспомнили, что наниматели сказали вам, что вы относитесь к 5% людей, у которых наивысшие шансы быть принятыми на работу.
В феврале 94-го вы рассказывали о том, как вы приняли установку “Мне все равно” в оздоровительном центре, чтобы не позволить себе поддаться самокритике. Вы продолжали говорить о способности представить себя на работе с установкой “Мне все равно” такого же рода. Позже в феврале вы сказали: “Я не думаю, что измениться невозможно, это просто трудно”. Вы сказали, что вы хотите пересилить страх, которому вы научились через образ жизни вашей семьи, и найти привязанность и одобрение, которых не могли вам дать родители. Разве вы не видите, как эти заявления, по крайней мере в моем представлении, соответствуют вашему проекту пере-удочерения?
Той зимой вы получили высшую оценку в своем классе на экзамене по бухгалтерии. Вы восприняли это как подтверждение того, что ваш мозг все еще способен функционировать. Вспоминая свою старую работу, вы начали понимать, как подло они с вами обошлись, и сказали, что рассматриваете уход с этой работы как позитивный шаг. Вы говорили, что у вас нет сожалений по поводу ухода, нет задних мыслей, и что это много значит для вас.
В апреле у вас был день, когда вы сыграли в ракетбол, купили учебники для новых занятий, записали учебную кассету и пошли на собрание АА (Анонимных алкоголиков ??). У вас все еще сохранялось хорошее настроение от всего этого, когда вы пришли на нашу встречу на следующий день. На этой встрече вы сказали, что идея о том, что плохое настроение в настоящем не должно остановить ваше движение к лучшему будущему, была для вас полезной и мотивирующей. Позже, в тот же месяц, вы сказали, что убеждены в том, что стали более зрелой, более настойчивой и более искренней, нежели вы были раньше.
В мае вы смогли дать себе высокую оценку за четыре недели работы в _______ , за правильное питание и за преодоление тяги к обжорству и выпивке. Вы сказали, что уделяеете меньше внимания тому, как вы выглядите, больше внимания — тому, что вы думаете о себе, и меньше внимания — тому, что о вас думают другие. Вы практиковали разговоры с людьми и отказ от черно-белого мышления типа “или-или”.
В июне вы сказали: “Я научилась функционировать в ситуации на работе”. “Я могу, по крайней мере, быть более ответственной, чем мой брат”. Вы ценили то, что выбрали ответственный стиль жизни.
В июле вы рассказывали, что лучше контролируете ситуацию и чувствуете себя не так плохо. В Четверг, перед нашей беседой, вы побороли искушение не идти на работу. Вы сказали, что пришли к пониманию того, что выслушивание мнений других людей на работе не создает ситуацию, угрожающую жизни. Вы говорили о том, что учитесь отстраняться, отбрасывать ожидания, связанные с вашими родителями. Вы также сказали, что стали разговаривать с собой по-другому. Что вы помните об этом сдвиге? Как бы вы могли укреплять те вещи, которым вы научились тогда?
Позже, в июле, вы продолжали рассказывать о сдвигах в ваших мыслях и чувствах. Вы сказали, что укрепилась ваша способность разговаривать с собой в течение неудачного дня на работе, что вы знаете, что, когда вы ощущаете негативные вибрации, это не обязательно должно значить, что люди действительно считают вас плохой. Вы сказали, что начали меньше регировать на других, не давая им установить власть над собой. Вы говорили о некоторых позитивных переменах в ваших взаимоотношениях с отцом — как вы пытались меньше реагировать на него, и как он понял, что вы более способны и заслуживаете больше доверия.
К августу вы говорили о том, что получаете позитивную обратную связь на работе. Люди говорили вам о том, что вам следует задуматься над продвижением вверх по служебной лестнице. Вы сказали, что приятно получать такую обратную связь, что хорошо получать некоторое “обучение основам реальности”. Вы начали понимать, что на работе никогда не было так плохо, как это вам иногда представлялось, и вы говорили, что эти позитивные послания поддерживали идею о том, что вы можете выжить, если сами будете проявлять активность.
Это как раз подводит меня к тем вещам, о которых я писал в письмах, начиная с ноября. Интересно, какие мысли и чувства возникают у вас, когда вы читаете эту в высшей степени отредактированную подборку тех вещей, которые вы рассказывали мне о своей жизни. Вы понимаете, что я мог бы прочитать это как историю прогресса? Что касается истории вашего прошлого, я знаю только то, что вам время от времени было полезно выходить из терапии на некоторое время, пока вы не чувствовали готовность сделать следующие шаги. Как видится с моего наблюдательного пункта, тот успех, которого вы добились в _______ , и то, что вы начали укреплять свои позиции на новом месте — все это крупные шаги. Вы, вероятно, заслуживаете некоторого времени, чтобы оценить их и укрепить свои достижение, прежде чем ставить перед собой новые задачи. Как вы думаете, чтобы вы могли сделать, чтобы наиболее эффективно противостоять старым привычкам, сомнениям и страхам, пока вы обустраиваетесь в новой ситуации? Помогают ли вам размышления над прошлым прогрессом и приятными воспоминаниями? Я верю, что вы дадите мне знать, когда придет время.
Сердечно Ваш,
Джин
Джули все еще консультируется со мной. Некоторое время после этого письма она неуклонно прогрессировала в отстранении себя от сомнения и ненависти к себе. (См. письмо, которое я ей написал, в следущем разделе, “Расширяя идеи и истории, которые начались в ходе терапевтической беседы”, где приводятся некоторые примеры альтернативной истории, которую она начала сочинять в то время.) Затем одновременно произошло два несчастья. Компания, где она наконец нашла работу, которая казалась приемлемой, с гуманной политикой и начальником, которого она находила рассудительным, была поглощена более крупной и менее порядочной компанией. Начальника Джулии сменил некто, кого она охарактеризовала как “бездушный молодой автомат”. Людей увольняли напрво и налево. Оставшиеся старые сотрудники подвергались оскорблениям и загружались работой сверх нормы, что создавало атмосферу злобы, повиновения и безнадежности. Джули несколько месяцев держалась за свою работу, прежде чем решилась уволиться. Хотя ее уход произошел в результате решения не подвергать себя воздействию бесчеловечной атмосферы, он превратил ее в безработную.
На пике случившегося распались казавшиеся перспективными отношения с одним мужчиной. Когда отношения подходили к концу, я увидел, что Джули отстаивает тот тип взаимоотношений, который она считала приемлемым. Она же увидела в этом пример мужчины, которому нельзя доверять, и дальнейшее подтверждение того, что ее невозможно полюбить.
Эти события привели к тому, что в жизнь Джули вернулись сомнение и ненависть к себе и убеждение, что она — неполноценное человеческое существо. Она оставила свою квартиру и вернулась в дом своих родителей. Она изолировала себя от людей, работая на агентство “временных работников”, где она не остается на одном месте достаточно долго, чтобы можно было завести друзей.
В настоящее время она находится в рискованной ситуации. Она поступила на курсы для аспирантов, что может помочь ей найти лучшую работу в ближайшие годы. Она очень осторожно исследует некоторые коллективные виды деятельности. Она очень активно начала читать, пытаясь найти духовный/моральный/этический путь, который бы ее устроил. Она начала устанавливать отношения нового рода со своим отцом, такие, в которых, по ее мнению, они относятся друг к другу, как настоящие люди. Однако она все еще ведет достаточно изолированный, одинокий образ жизни. Идеи о том, что ей принципиально недостает чего-то, что есть у всех людей — некоего социального умения, или чувства принадлежности чему-то, или социальной привлекательности — постоянно угнетают ее, превращая каждый шаг в направлении установления контакта медленным, пугающим и болезненным. За долгое время эти убеждения уверили ее том, что ей не выкарабкаться до конца жизни.
Когда мы работали над рукописью этой главы, Джилл, которая консультирует Джули вместе со мной, предположила, что мы могли бы предложить вам, читателям этой книги, написать Джули. Я подумал, что это великолепная идея! Тем не менее, проблемная история так крепко держала меня, что я несколько недель не решался заговорить с Джули об этом. Я был убежден, что Джули либо, смутившись, отвергнет эту идею, либо посмеется надо мной, услышав что я предлагаю нечто дурацкое.
Когда я наконец упомянул что мы можем, с ее позволения, попросить читателей этой книги написать ей, она выразила сомнение, что кто-то откликнется, но также и любопытство, что могут сказать люди, если они действительно ей напишут. Ее готовность прислушаться к вашим мыслям, чувствам и реакциям, вызванным моим письмом и описанием ее истории, означает для меня ее растущую готовность общаться с людьми. В свете ее сегодняшнего жизненного опыта, я преклоняюсь перед ее бесстрашием, проявляющемся в открытости для писем. Помимо ваших реакций общего рода, есть ли вещи, которые вас особенно заинтересовали? Испытывали ли вы (или кто-то из других людей) переживания, связанные с недоверием к себе и ненавистью к себе? Могли бы некоторые люди, которые консультируются с вами, вместе с Джулией основать лигу “Да — человеческим связям, нет — ненависти к себе” (см. стр. ** — **)? Вы можете связаться с ней по адресу:
“Julie”
c/o Gene Combs
Evanston Family Therapy Center
636 Church St., #901
Evanston, IL 60201
США
Расширение идеи или истории, которые зародились в ходе терапевтической беседы
Письма не обязательно должны следовать за последовательностью беседы или ряда бесед. Они могут больше фокусироваться на усилении идей или историй, которые начались в интервью. В следующем письме я (Дж. К) группирую вместе несколько высказываний Джули, поскольку я надеялся, что, будучи собранными вместе, они будут иметь больший вес.
Дорогая Джули!
Просматривая свои заметки с нашей последней беседы, я чувствую как мое лицо и моя душа расплываются в улыбке. Что касается меня, очень приятно слышать, когда вы говорите вещи, подобные этим:
“Я не думаю, что я так плоха, как думаю”.
“Я не думаю, что я так беспомощна и некомпетентна, как думаю”.
“Я не могу быть такой плохой, как я думаю”.
“Я, может, и плоха, но не в такой степени”.
“Я в большей степени чувствую, что моя жизнь важна, я значу не меньше, чем любой другой”.
“Уже давно было пора расстаться со своими родителями. Мне нужно жить ради себя. Там [в доме родителей] нет никого, кто бы мог поддержать или воодушевить меня на это — там мне более одиноко, чем если бы я жила одна”.
“Я решила, что мне нужно двигаться вперед и сделать некоторые из этих вещей. Я устала быть своим злейшим врагом”.
Вы определенно не кажетесь мне своим злейшим врагом ни в одном из приведенных выше высказываниях. Все, что я взял в кавычки, настолько близко к тому, что вы действительно сказали в нашей беседе, насколько я смог это точно записать. Интересно, каково вам перчитывать свои слова в этой отредактированной и концентрированной форме? Склоняет ли вас этот опыт скорее к пробуждению старых привычек к неверию в себя и самокритике, или подталкивает вас к продолжению вашего проекта “двигаться вперед и сделать некоторые из этих вещей”?
Сердечно Ваш,
Джин
Мы можем также помочь людям уплотнить историю посредством гораздо более короткого письма, в котором, возможно, задаются вопросы об одном уникальном эпизоде или вопросы, которые предлагают человеку сделать новый шаг.
Дорогие Сюзен и Мел!
После того, как вы ушли, я просматривал свои заметки. Я записал, что вы совместно решили, что делать в отношении трудностей, связанных с возвращением Рэймонда в школу. Мне интересно, была ли это ситуация, над которой мог довлеть конфликт и дурные чувства, но этого не случилось? Могли бы вы рассказать мне, как вам это удалось, когда мы встретимся снова?
Джилл
Включение в работу людей, которые не посещали встречу
Когда кто-то из участвующих в терапии пропускает втречу, мы часто пишем письмо, чтобы поддержать вовлеченность этого человека в историю и сообщить ему о последних направлениях ее развития. В то же время мы мы можем использовать это письмо с тем, чтобы задать вопросы, которые могли бы уплотнить историю. Далее следует пример такого письма, написанного обучающей командой Эванстонского центра семейной терапии. *[Терапевтом, работающим с этой семьей, была Дайна Шульмен. В состав команды входили Мишел Коэн, Марша Азар, Джин Комбс и Джилл Фридмен.]
Дорогая Мария!
Роберто, Хуан и Роза встречались с нами 14 февраля, и мы захотели написать вам письмо, чтобы вы включились в то, что произошло. Были две вещи, которые привлекли внимание команды во время этой беседы. Хуан сказал, что он был способен ходить в школу девять дней подряд — команда рассматривает это как девятидневный победный период. Могли бы вы с этим согласиться? Мы понимаем, что подавленность и беспокойство могут направить ваше внимание на пятницу, когда этот победный промежуток был прерван. Тем не менее, нам все еще любопытно это достижение (крупнейшее за весь год). Не могли бы вы обсудить эти вопросы с семьей?
Хуан сказал, что первый Понедельник был самым трудным днем для посещения школы. Как вы думаете, что сделал Хуан для преодоления трудностей в этот день? Вы думаете, это потребовало особого усилия? Он говорит, что к середине недели стало легче. Роберто сказал, что Хуан выглядел более спокойным в этот момент. Вы замечали легкость и непринужденность в Хуане в эти дни? Была ли легкость и непринужденность характерна для других членов семьи?
Хуан отметил, чтогораздо легче было ходить в школу в пятницу, если он был полностью свободен (от оставления после уроков и изучения основ предмета) в выходные. Вы понимаете, что Хуан обдумывал свои действия, взвешивая последствия, прежде чем пропусить занятия или нет? Как, по-вашему, как характеризует его такое мышление? Не удивляет ли вас то, что обучение основам предмета так выделяется Хуаном?
На первой встрече Роза сказала нам, что между ней и Хуаном встала озлобленность, и она нвчала наблюдать за тем, что онд делает, пыталась его вывести на путь истинный. Во время последней встречи она упомянула об “отсутствии внимания” к действиям Хуана. Как вы думаете, это хорошо, что прблема больше не воздействует на Розу в такой степени?
Если мы понимаем правильно, Хуан перестал сбегать из школы. Как вы думаете, в его жизнь входит нечто новое? Если это так,нам любопытно, что бы это могло быть? Один из членов комады раздумывал о том, что другие члены семьи, возможно не уделяют этому внимания. Как вы думаете?
Увидимся в следующий вторник!
С уважением,
Дайна и команда
Письма клентов
Здесь мы рассматривали письмо, написанное с точки зрения терапевтов и адресованное людям, с которыми они работают. Пегги Пенн и Мэрилин Франкфурт (1994) писали о том, что они попросили людей, с которыми они работали в терапии, писать им между встречами. Те (стр. 229-230) пишут:
Наш клинический опыт вскоре научил нас тому, что процесс письма замедляет наши восприятия и реакции, оставляя пространство для их уплотнения и постепенного наслаивания. И что этот процесс, который можно описать как поэтизирование, позволяет нам развить множество различных прочтений своего опыта. И наконец письмо как нечто, что сохраняет, помогает изучать, пересматривать, выявлять, позволяет нам держать наши многочисленные истории в напряжении.
... Текст участника, как терапевтическое средство выражения, переносит новое знание из сферы сеанса наружу, равно как и снаружи вовнутрь терапевтического процесса. Это движение выполняет интегрирующую функцию, поощряя обмен новыми возможностями между нашей жизнью и нашей терапией и наделяя голосом наши многогранные самости.
Мы тоже работали с людьми, которые использовали написание текстов в качестве составной части терапии. Иногда они писали по собственному желанию и приносили нам свои письма и заметки. В других случаях мы спрашивали, интересно ли им было написать что-то.
Документы
Поскольку существует множество возможностей, бесконечных ответвлений опыта и бесчисленных способов интерпретации идеи или события, могут быть утеряны важные намерения и даже достижения. Когда люди берут на себя важные обязательства, или когда мы готовимся отпраздновать вместе с ними значительные достижения, мы задумываемся о документах. Прежде чем мы подготавливаем документ-свидетельство, мы спрашиваем, заинтересованы ли они в том, чтобы заявить свою позицию или отметить свое достижение.
Как правило, мы совместно создаем документ. Человек, чей документ это будет имеет решающее словы при выборе окончательной формулировки.
Сюзен — 24-летняя женщина, которая практически потеряла некоторый период в своей жизни из-за того, что над ней долго довлел страх. Страхи заставили Сюзен избегать таких вещей, как отдых за городом и посещение колледжа. Они сделали ее удобной мишенью для наркотиков и алкоголя, которые, как она думала, помогают ей уйти от страхов. Теперь она поняла, что они скомкали несколько лет ее жизни, и она чувствует так, как если бы она пропустила свое взросление и обучение социальным умениям. Она говорит, что это, как будто она “сидит на заднем сидении автобуса”. Она надеется, что может воспрянуть духом, но охвачена смятением по поводу того, что будет значить для нее этот мир. Например, это смятение не позволяет ей решить, в ее ли интересах продолжать жить с родителями. Идеи других людей, которые притягивали ее, удеживали ее от развития своих идей и поощряли сравнение себя с другими, что подготовило почву для дурных мнений о себе. Она хочет быть тем, кто решает, кем ей быть. Она назвала свой проект “Стоять прямо”.
После беседы, в которой она дала имя этому проекту, она обнаружила, что чувство вины, побочные мысли и привычки не позволяли ей продвигать вперед этот проект. В особенности, это касалось ее семьи. Она сказала: “Мне так непривычно говорить, что я чувствую, что это похоже на то, что кто-то выдавливает воздух из моих легких, когда я пытаюсь говорить”. Она решила, что декларация поможет ей донести до людей то, в чем она нуждается, и будет напоминать ей о выбранном направлении. Она могла бы передать ее людям или зачитаь им его вслух. Документ, который мы (Сюзен и Дж. Ф) создали, показан на рисунке 8.1.
Надписи на рис. 8.1.
Декларация Сюзен “Стоять прямо”
1. Чтобы расти, мне нужно стоять прямо.
2. Стоять прямо означает, что я буду формировать собственные идеи и мнения.
3. Это не означает, что вы мне не нравитесь, или что я не уважая ваши мнения.
4. На самом деле, это значит, что мне интересно найти свои собственные мнения и жить, руководствуясь ими.
5. Я надеюсь, что вы поддержите меня в том, чтобы я стояла прямо, и я думаю, что стану выше с вашей помощью.
После встречи, на которой мы написали этот документ, Сюзен зачитала его вслух за пасхальным семейным столом. Хотя ее родители ничего не сказали, когда она зачитала его, ее мать поместила его на зеркало в своей спальне. Сюзен вспомнила об этом, чтобы объяснить свое мышление и поведение по отношению к своей семье. Она сказала мне, что декларация, похоже, создала больше пространство для того, чтобы она смогла распрямиться. В результате, у нее появилось больше воздуха для дыхания. Она приобрела способность знать и говорить то, что она думает, в сложных ситуациях.
Документы не обязаны быть достаточно сложными или значительными. Я (Дж. К) часто набрасываю какие-то вещи на тех же листках блокнота, на которых я делаю свои клинические заметки и отдаю их людям, чтобы выделить или сделать осязаемыми некоторые новые идеи или опыт, которые зародились во время нашей беседы. Пример такого подхода можно было наблюдать в моей работе с Эммой, которую вы, возможно, помните из Главы 4. Эмма рассказывала о том, как вся ее семья — родители и братья — обращались с ней так, как будто она была лишь “адекватна”, но на самом деле неумела во всем. Такое отношение побудило ее верить в то, ей следует жить ради них, а не ради себя. Она рассказала мне о столкновении со своим братом, когда она встала и вышла, когда он стал угрожать уволить ее. Она сказала, что, уходя, чувствовала себя очень сильной и стоящей, и снова и снова проговаривала про себя: “Это не моя забота — запрещать ему быть задницей”.
Еще раньше, во время этой беседы, она сказала мне, насколько важна для нее была ее ученая степень. Это было свидетельство того, что она была больше, чем просто адекватна. Это символизировало ее способность достигать и совершать что-то ради себя. Она вставила свой диплом в рамку и повесила его на стену в ванной комнате, где она могла видеть его каждый день. Эта история продемонстрировала, насколько значимым для Эммы может быть документ, и это пришло мне в голову, пока она рассказывала историю о том, как ушла от брата. Я написал
ЭТО НЕ МОЯ ЗАБОТА — ЗАПРЕЩАТЬ ЕМУ БЫТЬ ЗАДНИЦЕЙ
на странице моего блокнота и вручил ей этот листок. Я спросил ее, не думает ли она, что было бы полезно на некоторое время повесить эту фразу на зеркало в ванной. Она была восхищена этой идеей.
Она действительно повесила эту фразу на зеркало, и воскресным утром она мотивировала ее на то, чтобы очень внимательно прочитать предложения о работе в газете, напечатать резюме и разослать его в пять разных мест. Именно так она получила работу, которую мы упоминаем в стенограмме в Главе 4.
Другие документы отмечают достижения, в особенности те, которые знаменуют завершение проектов. Они принимают форму удостоверений, карточек, наград и пр. На рис. 8.2 показан членский билет Ронды, о котором вы читали, когда он был еще в эмбриональном состоянии, в первом письме в подразделе “Итоговые встречи” раздела “Письма” этой главы.
Надписи на рис. 8.2
Официальный членский билет
РОНДА ГУДМЕН
является официальным членом
Команды Бойцов за Социальную Справедливость и Хорошие Чувства
Посмотри на этот билет и напомни себе, что
--> ты <--есть та, кем ты хочешь быть.
Джилл Х. Фридмен, секретарь
СИМВОЛЫ
Хотя в школе девятилетней Эрике было предписано раз в неделю встречаться с социальным работником, его часы приема слишком часто совпадали со временем ее классных занятий. Грант и Дайэн, дедушка и бабушка Эрики, беспокоились, что Эрика, возможно, переживает “депрессию”. Они решили взять дело в свои руки и привели Эрику ко мне (Дж. Ф).
Во время телефонного разговора перед первой встречей Рон, отец Эрики, сказал мне, что, по его мнению, Эрике что-то требуется, потому что она “все время съеживается от страха и боится высказываться”, и ее отметки резко пошли вниз. Тем не менее, он, мать Эрики, Кларисс, и ее младшая сестра, Ханна, не могли регулярно посещать наши встречи, потому что эта пара работала в разных режимах, они уже посещали терапию для пар, а Рон посещал индивидуальную терапию и вечернюю школу. Семья уже однажды попробовала семейную терапию и они были убеждены, что это не срабатывает. Рон сказал, что они не будут возражать, если Эрика придет ко мне с его родителями. Мы договорились держать связь по телефону, и Рон дал понять, что семья постарается временами посещать эти встречи.
Первая встреча
На первой встрече я начала с того, что начала расспрашивать Эрику о том, чем она любит заниматься. Она пробурчала “Не знаю”, однако не отвергла список дедушки и бабушки, который включал искусство, рисование, пение, работу на компьютере, катание на коньках и роллерах и плавание. Эрика сама вызвалась заявить, что не любит свою семилетнюю сестру, Ханну. Она не знала, была ли здесь проблема, но слушала спокойно, когда Грант говорил: “Она ни в чем себе не доверяет. Она никогда не хвастается. Она все время извиняется — ни за что”. Дайэн добавила: “Она очень тихая. Ханна сообщает о всех хороших вестях от Эрики. У Эрики нет ничего своего, потому что всем всегда занимается Ханна”.
Я спросила Эрику, что она думает о том, что говорят ее дедушка и бабушка. Она сказала, что не знает. После еще нескольких вопросов она наконец сказала, что, пожалуй, не доверяет себе. Я спросила ее, интересно бы было ей нарисовать то, в чем она себе не доверяет. Она неспеша нарисовала на газетном листе и обвела рамкой картинку, которая представляла ее искусство; табель успеваемости; колокольчик, представляющий хор колокольчиков, в котором она участвовала; форму тэквандо, поскольку она занимается тэквандо; учебник по математике; и шесть друзей (рис. 8.3).
Подпись под рис. 8.3.
Рисунок Эрики, изображающий то, чему она не доверяет.
Я распросила ее о каждом из элементов рисунка. Она с неохотой сказала мне, что ее оценки по математике вполне хорошие. Дедушка с бабушкой согласились с этим. Она сказала, что не знает, действительно ли шестеро детей — это ее друзья, однако, отвечая на вопросы, она решила, что луше считать их друзьями, потому что это заставит ее “действовать на другой стороне”, действовать дружественно, а не застенчиво.
Не было похоже, чтобы Эрику интересовала беседа о том, что мешает ей доверять этим вещам, поэтому я спросила ее: “Если бы ты могла взмахнуть волшебной палочкой, которая помогла бы тебе обрести доверие, как ты думаешь, что бы ты заметила из того, что не замечаешь сейчас?”
Эрика быстро ответила: “Я бы стала думать со счастливой точки зрения”. Она пояснила, что она бы видела более яркие, радужные цвета. Она дорисовала радугу на своей картинке.
После дальнейших распросов она сказала, что ходила бы на тэквандо с большим удовольствием и говорила бы себе: “Я сделаю это лучше, чем обычно. Я разработаю правильный паттерн для себя.”
Оказалось, что Эрика так много знает об этом, что я спросила ее, привычны ли ей те слова, которые она говорила бы себе. Оказалось, что всего лишь два дня назад она сыграла всю песню в хоре колокольчиков, не сфальшивив ни разу! Она сказала: “Я намерена сделать это хорошо”, и она это сделала. Она думала, что если говорить себе “Я намерена сделать это хорошо”, это здорово бы повысило шансы действительно “сделать это хорошо”!
Старики Эрики были восхищены, услышав, что Эрика уже сделала шаг в сторону доверия к себе. Они знали, что она может сделать это, потому что раньше у нее это было. Чтобы подтвердить это, они перссказали некоторые истории из ее прошлого опыта, которым они радовались, когда Эрика рассказывала их в прошлые годы.
Когда они собирались уходить, я спросила Эрику, не хочет ли она взять рисунок домой, чтобы он напоминал ей, о чем мы говорили. “Нет, я хочу, чтобы он остался у вас, — сказала она, глядя в пол, — но не могли бы вы мне одолжить эту волшебную палочку?” На моем столе, рядом с телефоном она разглядела одну вещицу. Это была прозрачная трубочка, в которой в густой жидкости плавали блестящие конфетти. Я отдала ее.
Вторая встреча
На второй встрече Эрика была гораздо более разговорчивой. Она сказала, что после нашей встречи, она сначала забыла о нашей беседе, но потом, увидев волшебную палочку, вспомнила. Потом она напомнила себе о доверии. Еще несколько раз она забывала и снова вспоминала об этом, пока наконец не решила носить палочку с собой. Она нашла, что “... если доверять себе, то это может улучшить жизнь. Тогда ты не будешь все время сводить себя с ума”.
Она назвала проблему “самоосуждение” а проект — “лучше относиться к себе”. Эрика увидела, что она уже достигла совершенства в самоосуждении. Относясь к себе с доверием, она могла продолжать делать то, что она уже могла делать, но относиться к этому с одобрением. Результатом этого стало то, что она была счастлива и обнаружила, что в тэквандо она действительно преуспела. Она подумала, что доверие к себе также помогает ей писать биографию своего дедушки. Она думала, что ее учителя увидели разницу, потому что они отметили, что она работает прилежнее. Она думала, что, может быть, ее родители заметили это, потому что дома она чувствовала себя более счастливой, но она не была уверена.
Дайэн и Грант заметили, что, когда они забирают Эрику из школу, она улыбается и разговаривает с другими ребятами, а не стоит тихонько в сторонке.
Мы все интересовались, в чем этот проект может проявиться в следующий раз. Эрика подумала, что это может произойти в ее отношениях с сестрой. “Я могла бы не каждый раз сражаться с ней. Я могла бы перестать злиться на нее, когда она не делает какие-то вещи”.
“То есть, ты думаешь, что иногда самоосуждение превращается в осуждение других?”
Она кивнула.
“И, кроме того, втягивает тебя в сражения, а?”
Она снова кивнула.
“Ух ты. Я не знала, что оно такое могущественное. И ты уже так здорово повернула его вспять?”
И снова она кивнула.
“Как ты думаешь, если ты еще более удачно будешь справляться с осуждением, это поможет тебе лучше относиться к своей сестре?”
Эрика кивнула.
“И что тогда произойдет?” — спросила я.
“Ну, — призналась она, — возможно, мои родители перестанут мне говорить, что на Рождество у меня в чулке окажется уголек”. (Это был декабрь.)
Я предположила, что, может быть, это осуждение также портило и жизнь Ханны. Дайэн и Грант подумали, что так, вероятно, и было. Мы все согласились с тем, что было бы хорошо всей семье узнать о том, как Эрика противостоит самоосуждению и лучше думает о себе. Мы договорились, что я позвоню Рону и Кларисс и приглашу их вместе с Ханной на следующую встречу. Мы решили, что покажем им рисунок и посвятим их в проект Эрики “лучше относиться к себе”.
Третья встреча
На третью встречу пришли Эрика, Ханна, Кларисс и Рон. Я ожидала, что также придут и Дайэн с Грантом, но семья решила, что придут лишь эти четверо.
После того, как я немного познакомилась с Ханной, Кларисс и Роном, мы развернули рисунок Эрики и вместе начали обсуждать, что означают различные образы, и чего она добилась в исполнении проекта “лучше относиться к себе”.
Рон уже заметил огромные изменения в Эрике, которые последовательно просматривались в ее проекте. “Эрика всегда очень старалась, — сказал он, — но сейчас, похоже, она делает большие шаги”. Он заметил, что она стала больше общаться с детьми своего возраста, тогда как раньше казалось, что она предпочитает быть в одиночестве или с младшими ребятишками. Он заметил, что она больше времени отдает занятиям в хоре и занятиям тэквандо. Впервые она начала принимать гостей. Как он, так и Кларисс были счастливы наблюдать такой поворот ее развития.
Я спросила Рона, что это, по его мнению, говорило о его дочери. Он ответил: “Она становится более зрелой”. Потом он добавил, что она теперь может постоять за себя перед Ханной и другими детьми.
Кларисса отчасти согласилась с ним, но сказала, что все еще надеется, что бои, перебранки и споры между Эрикой и Ханной прекратятся.
Я обратилась к Ханне и рассказала ей, что у нас с Эрикой была беседа о том, как, по мнению Эрики, осуждение встало между ними. Она согласилась. Мне было интересно, какое влияние оказывало осуждение на отношения сестер, и могли бы они вместе над этим поработать.
Эрика выпалила: “Я не хочу, чтобы она приходила. Это — для меня”.
“Ты не будешь против, если ты расскажешь Ханне, как мы разговаривали о том, что касается ее, и вы вместе подумаете, как бы вы могли поработать вместе?” — спросила я.
Эрика кивнула головой.
Четвертая встреча
На четвертой встрече с Эрикой, Грантом и Дайэн Эрика рассказала мне о новостях в проекте “относиться к себе лучше”. Ей присвоили зеленый пояс, она получила 89 за сделанный доклад и чувствовала себя счастливой большую часть времени! Она обновила свой рисунок, потому что теперь было больше вещей, которым она доверяла. Она дорисовала сцену (участие в пьесе), снежинку (катание на санках) и “Эн-Ю-Би-Эс — лучше всех, и я тоже!” Эн-Ю-Би-Эс — это название группы, к которой она принадлежала в своей церкви.
Я задала ряд вопросов, чтобы вявить историю того, как происходили все эти перемены, какие шаги предпринимала Эрика, какие были точки поворота, и что она советовала себе.
В ответ Эрика пожала плечами. “Я все еще ношу с собой волшебную палочку. Я помню рисунок”.
“Что они для тебя значат?” — спросила я.
“Что я могу сделать это, — сказала она, — что я могу отвратить от себя самоосуждение”.
Поскольку Эрика была весьма заинтересована в той территории, которую она отбивала у самоосуждения, и меньше — в том, как это происходит, я попросила ее показать мне, сколько территории было у самоосуждения раньше и сколько — теперь. Я сказала: “Сначала ты могла бы нарисовать рамку, в которой содержалась бы все самоосуждение из прошлого...”
Она нарисовала продолговатый прямоугольник.
“И что в нем было бы?” — спросила я. Эрика вписала туда:
Получение плохих оценок.
Рисунки плохие.
Война с сестрой.
Мои родители воюют между собой.
Потому что у меня совсем нет друзей.
“Итак, это все те вещи, за которые самоосуждение тебя осуждало?”
“Да”, — сказала Эрика, вписывая в рамку “Раньше”.
“А в какую бы рамку уместилось самоосуждение в твоей жизни сейчас?”
Она нарисовала гораздо меньший прямоугольник.
“Что там?” — спросила я.
“Война с моей сестрой”, — ответила она, вписывая эти слова и добавляя “Сейчас”. Потом она зачеркнула “Получение плохих оценок”, “Рисунки плохие”, “Мои родители воюют между собой” и “Потому что у меня совсем нет друзей” в первом прямоугольнике, оставив там только “Война с сестрой”.
Я показала эту символическую схему Гранту и Дайэн. “Вы знали о том, что Эрика сократила самоосуждение до таких размеров?”
Они догадывались, но не знали наверняка. Мы вместе поразмышляли над относительными размерами этих прямоугольников. Изменение произошло в течение девяти недель, и мы прикидывали, сколько времени потребуется, чтобы сократить в размерах рамку “сейчас”, или, если она вполне приемлима, оставить ее такой, какая она есть.
Пятая встреча
Пятая встреча произошла три недели спустя. Из телефонного разговора с Кларисс перед этой встречей я узнала, что отношения Эрики и Ханны становятся гораздо лучше, и что Грант и Дайэн ушли в отпуск. Кларисс вызвалась привести Эрику на встречу. Я полагала, что мы встретимся вместе, но она оставила Эрику и ушла, так что мы остались с Эрикой наедине.
Эрика сказала мне, что самая важная вещь, которая произошла в рамках ее проекта, это то, что она приобрела кучу друзей. Мы составили список новых друзей:
Элисон Морган Дон Сэм
Эмили Мара Юкико Мэтт
Айлена Хитер Кристина Арон
Брук Вера Джинджер Хейден
Энид Стефани Деметриа Фрэнк
Натали Ханна Антонио Роберт
Шэннон Мелисса Рид Шон
Эрике удалось подружиться с ними просто по тому, что она была сама собой. То, чему она научилась, состояло в следующем: “Не поступай так, как будто ты — это кто-то еще”. Самоосуждение толкало ее на то, чтобы пытаться быть кем-то еще. Проект “лучше относиться к себе” помог ей быть самой собой.
Основные различия, которые она отметила между этим годом и предыдущим, состояли в том, что теперь она лучше относилась к себе, она больше ценила себя, ее оценки в школе были лучше, и у нее было больше друзей. Она сказала, что ее родители и учителя уже это заметили, а дедушка с бабушкой заметят это, когда вернуться из отпуска.
Когда я повернула беседу в сторону взаимоотношений с Ханной, Эрика сказала: “Но я же сказала вам. Теперь она — одна из моих подруг”.
Когда она внесла в список Ханну, я не поняла, что она имела в виду свою сестру.
Эрика придавала очень большое значение тому, что осуждение больше не стояло между ней и ее сестрой.
Она думала, что проект закончен. Мы решили встретиться еще один раз со всей семьей, чтобы отпраздновать это. Я с уверенно сделала это предложение, поскольку во время моей предыдущей беседы с Кларисс, та признала, что Эрика делает огромные успехи.
Шестая встреча
На шестой встрече я объявила, что мы собрались здесь за тем, чтобы отпраздновать победу Эрики над самоосуждением и окончание проекта “лучше относиться к себе”! Эрика снова показала рисунок и пояснила свои добавления к нему. Потом она зачитала список имен ее друзей. Ханна просияла, когда прозвучало ее имя. После того, как чтение было закончено, Ханна подтвердила, что осуждение ушло из их отношений. Она думала, что Эрика сделала для этого очень много, потому что она была “более милой и счастливой”. Все согласились, что это значительно изменит жизнь их семьи.
Рон добавил, что в то время, когда началась терапия, в школе были весьма озабочены успеваемостью Эрики. Шли разговоры о том, чтобы оставить ее на второй год. Такая перспектива представлялась Рону крайне удручающей. Они с Кларисс вели переговоры с католической школы по поводу ее перехода туда. Они надеялись, что это предотвратит ее оставление на второй год, и что она будет лучше успевать по более структурированной программе. Католическая школа не желала принимать Эрику в начальный класс до тех пор, пока она не улучшит свои оценки. Рон успокоился, когда на родительском собрании два дня назад успехи Эрики были охарактеризованы как великолепные. Он задумался над тем, не в терапии ли здесь было дело.
Я сказала, что мы не говорили о школьных проблемах. Раньше я знала, что оценки Эрики были хуже, чем в прошлые годы, однако я не знала, в какой степени. Я дважды разговаривала со школьным социальным работником, но он не упоминал образовательные проблемы. Я сказала, что мне видится, что Эрика справилась со всем этим сама! Она просияла.
Все мы попробовали печенье, которое приготовила Дайэн, и поздравили Эрику.
Когда семья собралась уходить, Эрика вернула мне мою “палочку”.
“Можешь оставить ее себе,” — сказала я.
“Мне она больше не нужна, — сказала Эрика. — Волшебство теперь здесь”. И она прижала руку к сердцу.
Эта история иллюстрирует использование ряда символов, которые возникли в ходе терапии — рисунка, палочки и рамок, показывающих уменьшение самоосуждения. Для некоторых людей (в особенности детей, но не только для них) символы и символическое представление отдельных частей работы, похоже, делает ее более реальной и осязаемой (Combs & Freedman, 1990; Roberts, 1994).
Например, к концу курса терапии одна пара создала коллаж, символизирующий их надежды на будущие взаимоотношения. Они позвонили три года спустя, чтобы сказать, что все, изображенное на коллаже, сбывается! Когда мы спросили, какую роль сыграл коллаж в достижении их надежд, они сказали, что он помогал им фокусироваться и напоминал им о том, что на нем они вместе. Они сказали, что коллаж, кроме того, придавал их мечтам реальность и ясность.
ИСТОРИЯ КЭРРИ
В этой главе мы привели документы, письма, удостоверения и т.д., как аспекты терапии, призванные уплотнить и развить истории. Они представлялись нам очень важными, но важными во вспомогательном смысле, но не в основной работе. Поэтому мы были заинтригованы, когда наша коллега, Вирджиния Саймонс, рассказала нам о терапии с Кэрри. В этой работе то направление, которое мы считали вспомогательным или дополнительным, заняло центральное место. Это не было задумано изначально, но произошло в ответ на то, о чем Кэрри желала говорить и в чем она приняла активное участие. Кэрри, ее семья и Вирджиния разрешили нам рассказать их историю.
Джун и ее шестилетняя дочка Кэрри пришли на прием к Вирджинии, потому что Джун была обеспокоена боязливостью своей дочери. Она описывала Кэрри как робкую и пугливую. Вне дома она весьма неохотно разговаривала. У нее было мало друзей. Эти проблемы обострились, когда она пошла в первый класс. Учитель Кэрри рассказывал, что в столовой она отказывалась вставать в очередь за молоком, потому что беспокоилась, что ей не лостанется места, если она не займет место немедленно. Кэрри совершенно не участвовала в деятельности класса, если та предполагала хоть толику фокуса на ней, и отказывалась выходить на большую перемену. Она обычно шла в кабинет воспитательницы или сидела в школьной библиотеке.
Вирджиния спросила Кэрри, согласна ли она со своей мамой в том, что эти вещи представляли собой проблему. Кэрри не ответила. Фактически, в ходе терапии Вирджиния трижды пыталась побудить Кэрри назвать проблему. На третий раз между Вирджинией и Кэрри установились прочные взаимоотношения, и стало ясно, что Кэрри нравилось разговаривать с Вирджинией. В этом контексте, она призналась Вирджинии, что “разговоры о проблемах только выращивают их. Я этого не хочу”. Таким образом, проблема так и не была названа.
На первой встрече Джун нашла некоторые направления развития в жизни Кэрри обнадеживающими. С разрешения Кэрри, предоставив ей выбирать слова, Вирджиния выписала эти три тенденции. Вот они:
1. Высказываться от своего имени, когда на тебя кто-то кричит.
2. Сидеть вместе со взрослым и разговаривать о непонятности страхов.
[Это относится к самой терапевтической беседе.]
3. Ходить в школу каждый день.
Обычно, когда называются уникальные эпизоды или яркие события такого рода, мы задаем вопросы о них, чтобы развить историю. В этой ситуации, хотя Кэрри согласилась на то, чтобы эти достижения были записаны, ее не радовала идея подробно обсуждать их. Поэтому они остались в форме списка. Тем не менее, со временем Джун действительно выявила истории некоторых событий.
Списку было суждено стать основой для терапии.
Кэрри пришла на вторую встречу с двумя пунктами, которые она хотела добавить к списку. Это были:
4. Пытаться и хотеть обращать внимание в классе.
5. Свободно ходить по всей школе.
На последующих встречах Кэрри и Джун добавили к списку еще несколько пунктов. Вирджиния спросила Кэрри, как можно было бы назвать список, предложив “храбрость” как одну из нескольких возможностей. “Храбрость” понравилась Кэрри, и так родился “Проект храбрости Кэрри”.
В определенный момент, когда уже было вписано около 20 пунктов, Вирджиния спросила: “Как ты думаешь, сколько еще вещей понадобится внести в этот список, чтобы ты наверняка знала, что закончила “Проект храбрости”? К удивлению Вирджинии, Кэрри сказала: “Я думаю, понадобится 100”.
Вот “Проект храбрости Кэрри, записанный в течение 19 терапевтических встреч:
ПРОЕКТ ХРАБРОСТИ КЭРРИ
1. Высказываться от своего имени, когда на тебя кто-то кричит.
2. Сидеть вместе со взрослым и разговаривать о непонятности страхов.
3. Ходить в школу каждый день.
4. Пытаться и хотеть обращать внимание в классе.
5. Свободно ходить по всей школе.
6. Самой ходить на индивидуальные занятия и другие встречи.
7. Ходить в столовую, где ОЧЕНЬ шумно и полно народу.
8. Самой навещать тех учителей, которые тебе нравятся, например, мисс Уайтхауз [учительница детского сада].
9. Одной ходить в ванную.
10. Делать свою работу в классе.
11. Сотрудгичать с другими.
12. Ходить на спортивную площадку с мисс Браун.
13. Ходить с кем-нибудь в обед за молоком.
14. Помогать Еве с заданиями в классе.
15. Все время работать над заданиями в классе и дома.
16. Ходить на обед, когда ты этого хочешь.
17. Самой ходить на спортивную площадку перед занятиями.
18. Иногда ходить на спортивную площадку в обеденное время.
19. Бегать на уроках физкультуры самой, без учителя.
20. Самой оставаться с читающим учителем.
21. Ходить с мисс Лэйкли на спортивную площадку.
22. Самой ходить в обед за молоком.
23. Попробовать что-нибудь новенькое в компании.
24. Пойти в компанию и самой там оставаться, даже если нервничаешь.
25. Говорить учителю, когда ты забываешь деньги на что-то.
26. Больше самой учиться ходить на лыжах и не хныкать.
27. Говорить с Сантой, о чем ты хотела.
28. Возвращаться в школу из дома и не плакать.
29. Самой ходить из дома в школу.
30. Кататься на санках с подругой и ее родителями.
31. Выйти на улицу в обеденное время в понедельник.
32. Выйти на улицу в обеденное время во Вторник.
33. Ходила в дом к подруге с новой няней.
34. В доме подруги НАСЛАЖДАЛАСЬ собой.
35. В школе ты можешь выйти, если надо, и знать, что все будет в порядке.
36. Ты можешь говорить взрослым, что хочешь, что нравится и что не нравится.
37. Ты можешь задавать взрослым вопросы, на которые тебе нужны ответы.
38. Ты не расстроилась, когда не работал водосток, и в душе не было воды.
39. Ты не испугалась и не заплакала, когда у твоей мамы пошла из носа кровь в вагоне по дороге домой.
40. Во время баскетбольного матча ты вышла и сама купила себе попить.
41. Тебя заинтересовала флейта и ты продолжала спрашивать о ней.
42. Ты ходила на уроки флейты одна.
43. Ты регулярно практиковалась в игре на флейте и ты знаешь, что тебе нравится.
44.-54. Ты с подругой пошла кататься на санках с БОЛЬШОЙ, БОЛЬШОЙ горки, и ты не испугалась. *[Джун была просто изумлена, когда Кэрри, улыбаясь, вернулась от своей подруги и рассказала, что отец подруги взял их обеих кататься на санках. Это катание происходило не на маленькой горке и даже не на большой горке, а на большой, большой горе. Вирджиния знала эту гору. И она, и Джун были совершенно уверены в том, что на эту гору ходили только старшие дети. Не зная, как это расценивать, Вирджиния раздумывала, стоит ли этому событию отдавать больше одного места в списке. Кэрри решила, что оно стоит десяти. С этого началась практика оценки событий в количестве мест, занимаемых в списке.]
55. Ты пошла в дом к Анне с няней, которая говорит только по-испански. *[Кэрри говорит только по-английски.]
56.-76. Ты пришла домой, а там еще никого не было. Ты действительно ловко все продумала и пошла к Лайзе переждать.
77.-83. У бабушки ты случайно захлопнула дверь и звонила в колокольчик с двух сторон, ПРЕЖДЕ чем ты расстроилась. (10-15 минут!!)
84. Занималась плаванием.
85. Мама уходит, а ты в порядке, больше чем в порядке, ты — ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ.
86. Ты просидела целое представление Иосиф и его разноцветное волшебное платье.
87. Ты осталась дома с няней, пока мама водила сестру на занятия, и пригласила соседку поболтать.
88. Сама осталась дома, пока мама забирала сестру, и смотрела телевизор.
89. Ты ходила играть со своей новой подругой в душе и повеселилась.
90. Когда твоя сестра остается с тобой за няню, это здорово (никаких слез).
91. Ты позволила Монике присматривать за тобой.
92. Ты поднимаешь руку в школе и отвечаешь перед классом.
93. На [собрании?] Индийских Принцесс ты поднимала руку и разговаривала.
94. Ты вместе с папой вслух читала историю у Индийских Принцесс.
95. В танцах ты взяла на себя ведущую роль на глазах у всех.
На тот момент, когда в списке было 83 пункта, Кэрри, Джун и Вирджиния согласились с тем, что теперь они иногда называют его “Проектом храбрости”, а иногда — “Проектом взросления”. Вирджиния спросила Кэрри, интересно ли было бы ей отпраздновать это, и Кэрри ответила согласием. Она хотела, чтобы присутствовали ее мать, отец, сестра и Вирджиния, и предложила воздушные шары, пирог и французские рожки.
Кэрри и Джун назначили дату празднования на день по прошествии двух месяцев с того момента, когда список пополнился 83-м пунктом, за две недели до окончания учебного года.
Перед празднованием Вирджиния послала Кэрри это письмо:
Дорогая Кэрри!
Привет! Интересно, как ты там поживаешь. Я особенно много думала о твоем проекте “взросления” и о том, нет ли у тебя новых вещей, которые ты могла бы добавить к списку и которые всем бы дали понять, что ты взрослеешь. До сих пор, насколько я знаю, у тебя было 83 способа, как дорасти до своего возраста и перерасти его. Сколько еще вещей мы могли бы мы добавить к списку теперь? Может, мне приготовить еще бумаги? Я полагаю, мне придется подождать до празднования.
Ты готова к празднику? Иногда в жизнь детей вдруг опять прокрадываются чувства “впадания в детство” или “откатывания назад”. Так, по крайней мере, мне говорили другие дети. Случалось ли с тобой такое тоже? Как ты думаешь, сможешь ты их перехитрить, если они опять проявятся в твоей жизни?
Я слышала от твоей мамы, как очень, очень здорово ты занимаешься и играешь на флейте!! Ты могла бы взять ее с собой, когда придешь, и сыграть для меня одну-две песни, если захочешь. Я была бы рада, если бы ты захотела.
С сердечным приветом,
Вирджиния Саймонс
На праздновании, по просьбе Кэрри, ее сестра зачитала список всем собравшимся. Когда чтение завершилось, члены семьи предложили в качестве дополнения пункты с 84-го по 95-й.
Затем Вирджиния наградила Кэрри Удостоверением Храбрости (рис. 8.4).
Надписи на рис. 8.4.
ЭВАНСТОНСКИЙ ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ХРАБРОСТИ
Сим удостоверяется, что
_________________________
несомненно доказала свою храбрость. Теперь она является квалифицированным ХРАБРЕЦОМ, и список бесстрашных деяний, которые она совершила, может быть использован с тем, чтобы навести других детей на идеи, как им тоже стать храбрецами.
Выдано ___________________ 19 года
Подпись:___________________
Вирджиния Саймонс,
Президент
Ассоциация Храбрецов Америки
9 РАСПРОСТРАНЯЯ НОВОСТИ
Поскольку “самость” есть явленная самость, способность к выживанию альтернативных знаний повышается, если новые идеи и смыслы, которые они порождают, запускаются в обращение.
— Майкл Уайт, 1988, стр. 10
Тяжким трудом добытые смыслы следует проговаривать, вырисовывать, вытанцовывать, драматизировать, запускать в обращение.
— Виктор Тернер, 1986, стр. 37
Если люди утверждают свои предпочтительные самости, исполняя свои предпочтительные истории, то важно, чтобы у этих историй был круг слушателей. Если существуют такие слушатели, то они создают локальные субкультуры, которые конструируют и распространяют альтернативное знание — знание, которое обеспечивает новую оптику, сквозь которую интерпретируется опыт. По мере того, как предпочтительные истории распространяются и распределяются в субкультуре, все участвующие в этой субкультуре конструируют друг друга в соответствии с ценностями, убеждениями и идеями, которые несут предпочтительные истории этой субкультуры. Весь этот процесс представляет собой нечто вроде “восстания порабощенных знаний”, о котором писал Фуко (1980). Мэдиган и Эпстон (1995) предлагают для таких субкультур участников-слушателей термин “заинтересованные сообщества”.
Хотя в доминирующей культуре терапия склонна к скрытной технологии, в нарративной субкультуре люди, которые консультируются с нами, как правило, с энтузиазмом относятся к тому, чтобы сделать процесс открытым для других людей. Мы думаем, что экстернализующие и анти-патологизирующие практики предлагают людям другой тип опыта в терапии. Когда терапия превращается в контекст, в котором люди утверждают предпочтительные самости, им нечего скрывать и есть, что показать. Дэвид Эпстон (O’Hanlon, 1994, стр. 28) так говорит об этом:
... в этой терапии люди проявляют себя как герои и они часто хотят, чтобы их героизм был отмечен каким-то социальным путем. Как правило, они с удовольствием общаются с другими и рассказывают свои истории.
Идеи о способах комплектования аудитории участников или локальных субкультур в настоящее время дают первые ростки. В этой главе мы описываем некоторые возможности, способствующие формирования таких заинтересованных сообществ. Некоторые из них используют те идеи, которые мы уже описывали, к примеру, процессы размышления и письма. Других, таких как “лиги”, мы еще не касались.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ СЛУШАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ
Опрашивание — это, вероятно, самый простой путь для терапевтов к тому, чтобы побудить людей, с которыми они работают, к определению и комплектованию аудитории. Далее следуют примеры вопросов, которые побуждают людей назвать кандидатов и рассмотреть возможность их включения в число слушателей.
* Кому было бы наиболее интересно узнать о шаге, который вы сделали? Почему это так ее заинтересовало бы? Как вы могли бы дать знать ей об этом?
* Кто из вашего окружения мог бы предвидеть, что вы возьмете на себя это обязательство? Что они знают о вас такого, что могло бы привести их к этому предвидению? Каким образом знание об этом шаге могло бы поддержать такое представление о вас? Было бы это полезно для вас? Каким образом? Как вы могли бы дать знать им об этом?
* Кто мог бы лучше всех оценить то событие, о котором мы говорим? Что бы он мог узнать о вас, если бы вы преподнесли это в форме, представляющей для него интерес? Что бы он мог сказать вам по поводу этого? Как вы могли бы инициировать такую беседу?
Все эти вопросы предполагают, что человек действительно способен инициировать беседу. Такие беседы, когда они происходят, представляют большую ценность. Они утверждают аспекты прожитого опыта, которые могут стать важными событиями в жизненных нарративах людей. Один лишь интерес к идее такой беседы часто мотивирует людей к инициированию такой беседы.
Мы обнаружили, что, даже если беседы не происходят на самом деле, люди все же развивают идею о слушательской аудитории в своем мышлении и воображении. Даже воображаемая беседа может представлять собой реальный опыт поддерживающей аудитории. Достаточно часто случается так, что человеку бывает достаточно назвать кого-то, заинтересованного в его истории, чтобы, даже не встречаясь с этим человеком, предположить, что тот его поддержит и оценит. Это предположение увеличивает шансы на то, что этот человек представит предпочтительные версии себя самого, когда окажется перед незнакомой аудиторией. В этом случае незнакомая аудитория становится реальной аудиторией!
Вопросы, которые не предполагают предложения о беседах с другими людьми, также могут быть полезными — либо в создании воображаемой аудитории, либо в напоминании человеку, что он является членом поддерживающего сообщества.
* Кого больше всех обрадует то, что вы сделали этот шаг? Как она могла бы это обнаружить?
* Кого более всех затронет это направление развития? Что он заметит такого, что даст ему знать об этом?
Даже если конкретный человек недоступен в текущей ситуации, может стать полезным назвать его в качестве потенциального участника аудитории.
* Кто из вашего прошлого мог бы предсказать это направление развития? Что она знала о вас такого, что могло бы привести ее к этому предсказанию? Был ли конкретный эпизод, который позволил бы ей узнать это о вас? Как этот эпизод связан с этим направлением развития?
* С кем из тех, с кем вы еще не говорили об этом, вы хотели бы поговорить? *[Этот вопрос предложен Томом Андерсеном (1991b).] Это может быть любой, живой или покойный, живущий рядом или очень далеко. Что бы они могли сказать?
ПРИГЛАШЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
Харлен Андерсон и Хэрри Гулишиан, а также другие (Anderson & Goolishian, 1988; Anderson, Goolishian, & Winderman, 1986; Goolishian & Anderson, 1981, 1987; Hoffman, 1988; Levin, Raser, Niles, & Reese, 1986) подчеркивали, что проблемы поддерживаются через язык и социальное взаимодействие. В соответствии с этой идеей, они приглашали членов “проблемно-детерминированной системы” — тех, кто говорит на языке проблемы — в комнату для терапии.
Члены команды Брэтлборо (Lax, 1991) обычно спрашивают: “Кто вовлечен в эту ситуацию?”, когда от кого-то поступает запрос на терапию.
В течение этого первого телефонного звонка они обговаривают возможность того, чтобы на встречу пришли все, кто вовлечен в проблему.
Мы предпочитаем фразу “обговаривают возможность”, поскольку прямое требование присутствия друзей, родственников, сотрудников или представителей соответствующих организаций может причинить страдание.
Как правило, когда людей ищут терапии, доминирующие дискурсы подводят их к предположению, что с ними что-то не в порядке. Если мы предлагаем включение в процесс других людей, они могут опасаться переживаний, связанных со смущением, стыдом и возможностью социального контроля. По мере того, как их предположения по поводу терапии деконструируются в процессе нашей совместной работы (включая предварительную беседу по телефону), люди склоняются к большей открытости и даже проявляют энтузиазм относительно введения в процесс других людей. Окончательный решение о том, кто должен присутствовать на терапевтических встречах, всегда, конечно, остается за людьми, которые консультируются с нами.
Опыт, который я (Дж. Ф) пережила несколько лет назад, был весьма полезен, поскольку показал, насколько ценным может оказаться право выбора в отношении включения в работу других. В то время я работала с Донной, которая в детстве перенесла сексуальное насилие со стороны нескольких членов своей семьи. Тогда ей было под сорок, и это насилие воздействовало на нее, поддерживая в ней страх и недоверие к другим. Страх и недоверие не только заставляли ее отстраняться от социальных ситуаций, но также и подготовили почву для того, чтобы верх брали злоба и горечь, часто по малейшему поводу. Для большей части жизни Донны была характерна социальная изоляция. Она сказала мне, что другие люди думают, что с ней трудно ладить, что она подозрительна и раздражительна.
Во время нашей совместной работы я по достоинству оценила ее упорство и целостность. Она делала дотошные различения, вынося суждение о том, что важно для нее во взаимоотношениях, и как она может распознать, можно ли доверять кому-то. Эти различения постепенно позволили ей больше открыться для людей. По мере того, как она начала утверждать себя как человека, который может быть связан с другими, мы обе ощутили разочарование в том, что, похоже, за пределами комнаты для терапии ее изменения не получали признания. Казалось, что ее репутация не позволяет другим увидеть текущие направления развития в ее жизни.
Она предложила привести на встречу директора колледжа, где она обучалась само-терапии. В то время эта идея несколько обеспокоила меня. До этого я беседовала с ее нанимателями о ком-то, с кем я работаю, но Донна предлагала нечто совершенно другое. Она хотела, чтобы кто-то с ее работы увидел, какая она есть, когда мы взаимодействуем в процессе терапии. Она полагала, что, если кто-то увидит ее такой, то это поможет ей убедить этого человека, что она возвращается к жизни. Поскольку мне тоже хотелось, чтобы это произошло, как я могла ей отказать?
Я ожидала этого интервью с некоторой тревогой. Не дискредитирует ли директор терапию? Или попытается убедить меня в том, какова Донна “на самом деле”? Эта идея о включении в процесс кого-то еще, кто не был членом семьи, противоречила тому, чему меня учили о конфиденциальности. И хотя я уже отказывалась от многих терапевтических идей, которым меня учили, с этим принципом было трудно распрощаться. Тем не менее, Дэн, директор колледжа Донны, пришел на встречу.
Мы пригласили Дэна на встречу, предупредив его, что временами мы будем интересоваться его мнением. После этого мы начали беседу в том духе, как обычно мы их проводили. В один момент у Донны промелькнула мысль, что она, возможно, тот человек, который может легко вести беседу. То, что она может вести беседу такого рода со мной, мы посчитали шагом в этом направлении. Второй шаг заключался в том, чтобы она могла представить себе, что такая беседа происходит с другими конкретными людьми. “Если бы вы продолжали двигаться в этом направлении, с кем, по вашему мнению, вы могли бы побеседовать? В каких контекстах это могло бы начать происходить?” — спросила я.
Донна молчала, как казалось, в течение долгого времени. “Я просто не знаю”, — сказала она, обескураженно качая головой.
Дэн прочистил горло и выразительно выпалил: “Так ведь это уже случалось! Вы участвовали в последнем собрании факультета так, как я себе и представить не мог. Все казалось естественным; вы чувствовали себя легко. Кроме того, я видел, как вы беседуете с людьми в учительской. Возможно, это было связано с погодой, но раньше вы влетали, выпивали немного кофе и вылетали. Теперь вы там находитесь. Вы сидите некоторое время и не пугаетесь, когда кто-то подсаживается к вам”.
Донна ошарашено глядела на него.
“Вы знали, что другие видят вас именно такой?” — спросила я.
“Нет”, — сказала она и расплакалась.
“Этот вопрос может показаться вам странным, — сказала я Дэну, — но до этой беседы вы замечали те шаги, которые предпринимала Донна, пытаясь общаться с людьми?”
“Нет. Я об этом не думал, — сказал он. — Но теперь я вижу”.
“Видение” Дэна впоследствии изменило его реакцию на Донну в колледже. Изменение его реакции помогло Донне укрепиться в новом видении себя и поддерживало ее, когда она рисковала и устанавливала отношения с другими.
Идея Донны многому нас научила. Теперь мы часто спрашиваем, не было бы полезным пригласить других людей для участия в наших встречах.
Когда Уэйн впервые обратился ко мне (Дж. К), он просил об индивидуальной терапии. В то время, помимо сна и беспокойства, депрессия допускала его лишь к компьютерным играм. Вскоре после начала терапии мы пригласили на встречу Дорис, супругу Уэйна. Депрессия встала между ними и окутала их взаимоотношения покровом безнадежности. Похоже, единственным человеком, к которому Дэн был сильно привязан, был его сосед Дон, изредка заходившем к нему поиграть на компьютере. Когда терапия уже вот-вот должна была зайти в тупик, мы предложили Дон присоединиться к нам.
Далее следует краткая стенограмма одной из моих встреч с Уэйном, Доном и Дорис. До этого Уэйн говорил, что он застрял. Он ощущал себя так, как будто депрессия снова загнала его в угол, и почва уходит у него из-под ног. Он говорил так, как если бы он был убежден в том, что он не сделал хоть какого-то процесса. Дорис и Дон начали перечислять свидетельства обратного, и пока они это делали, я вспомнил, что забыл включить видеоаппаратуру. Желая обеспечить запись происходящего, я извинился и вышел на минуту. Вот что произошло, когда я вернулся:
ДЖИН Вы перечисляли здесь некоторые вещи — это то, что я хотел записать на пленку — которые вам кажутся, которые, по вашему мнению, являются... служат свидетельствами того, что Уэйн прогрессирует.
ДОРИС Верно.
ДЖИН Что... Хорошо, давайте вернемся назад и запишем этот список.
ДОРИС Он внимателен. И сосредоточен. И я могу вспомнить многочисленные моменты из последних лет, когда, понимаете, ты задаешь Уэйну вопрос и получаешь такой пустой взгляд, и ты знаешь... как бы то ни было, он, вероятно, действительно мучительно пытается понять, о чем ты говоришь. И обрабатывает это внутри себя. И, может быть, потом он возвратится с ответом. Но чаще такого не случалось. Г-м. Это... это вещи, которые я больше не вижу. Я имею в виду, когда мы говорим или что-то, он высказывает свои суждения по вопросу. Он присутствует здесь и понимает, о чем я говорю. Внимательность. Способность сосредоточиться на задаче. И выполнить ее до конца. Г-м... и заинтересованность в этом. Г-м...
ДЖИН Итак, он... имеет ли здесь смысл говорить здесь об “отзывчивости”? Я имею в виду, похоже, что он стал в большей степени реагировать на вас или... на текущее задание.
ДОРИС Да, определенно. У-гу, гм-м. Это хорошее слово. В общем... но не просто реагирует. Понимаете, но также и принимает ответственность за то, что делает.
ДЖИН Проявляет инициативу?
ДОРИС Да, инициативу. Точно. Продолжает... начинает что-то и сам продолжает.
ДЖИН Могли бы вы сказать, что вам уже не приходится так часто иметь дело с замешательством, потому что... теперь... редко выпадают такие периоды, когда... Как бывает, когда ты говоришь что-то, и в середине фразы ты теряешь слово. А то и мысль целиком. Вроде того, что “Я понятия не имею, что хотел сказать тебе”. Или “Я не могу подобрать верного слова”. И вы уже не наталкиваетесь на реакцию такого рода.
ДОРИС Да, это не так часто происходит. И, и разрешите мне...
ДЖИН То есть... тот туман, о котором вы говорили...
УЭЙН Да.
ДЖИН ...разрежается? Вроде как приподнимается?
УЭЙН Уменьшается, да.
ДОН И внезапная растерянность.
ДЖИН Это тоже имеет место?
УЭЙН У-гм-м. Ну... и тяжелое ощущение... неохоты что-то делать, г-м, вроде как приподнимается. Так более удобно в этом отношении?
ДЖИН Неохота?
УЭЙН Жить в этом теле.
ДЖИН Как вы замечаете, что неохота ушла? Я имею в виду, что именно... Как вы... ?
УЭЙН Ну, просто по тому... г-м, что я сажусь за компьютер и работаю... или что-то еще. Я привык просто силой заставлять себя делать эти вещи. И я нахожу все меньше и меньше этого. У меня все еще есть дни, которые не так хороши, как следующий или предыдущий, но я думаю, что я немного поднялся по шкале.
ДОРИС Я думаю, ты тоже получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Понимаешь. Вроде тех рисунков, что ты приклеил на факсы, и все такое прочее. Понимаешь?
УЭЙН У-гу-гм-м.
ДОРИС Я имею в виду, ты... в некотором отношении, это также и гордость за свою работу? А? (к Джину) Поверите ли, Джин, но я вижу в нем нетерпеливость. Чего я уже долго в нем не замечала. Прошлым вечером мы работали над разворотом (книги?). Понимаете, “Хорошо, я хочу сделать так”. “Ну”, понимаете, “Я не хочу делать так”. Понимаете, просто провоцирует меня на ответы. По поводу таких вещей, о которых я даже представления не имею. Понимаете? Это нетерпеливость такого рода, который вы не видели. Я видела.
ДЖИН Я бы даже назвал это... я бы назвал это “рвением”.
ДОРИС Точно. Точно, так.
ДЖИН Итак, Уэйн, эти вещи которые замечают Дорис и Дон, они присущи вам? Я имею в виду, чувствуете ли вы себя более внимательным? Более сконцентрированным на задачах? Более отзывчивым? Что вы проявляете инициативу? Что вы последовательно заканчиваете дела?
УЭЙН (шутливо) Более нетерпеливым.
ДОН Но...
ДЖИН Это хорошо или плохо? Я имею в виду...
УЭЙН Что из этого?
ДЖИН Нетерпеливость. Я подразумеваю, что это...
УЭЙН Г-м. Я думаю, это — никак. Это зависит. Это зависит от результата.
ДЖИН Хорошо, если вы думаете над этим в рамках, г-м, ваших взаимоотношений с депрессией, в рамках вашей ситуации, в рамках того, насколько крепка хватка депрессии. Это нетерпеливость...
УЭЙН Я думаю...
ДЖИН В рамках этого, нетерпеливость — это хороший или плохой знак?
УЭЙН Ну, это надежный индикатор, потому что, как я сказал раньше, я бы просто игнорировал это. Понимаете. Даже просто не затратил бы энергии, чтобы отреагировать. Поэтому я думаю, что тот факт, что я реагирую, это индикатор того, понимаете, что энергии немного прибавилось, или идет небольшой подъем по шкале. Чего угодно.
ДОН Да, потому что...
УЭЙН (к Дорис) Я думаю, ты прогрессируешь быстрее, чем я.
ДОРИС Я думаю, что мы все прогрессируем, что достаточно волнительно.
(Смех)
УЭЙН У-гу.
(Здесь мы прерываемся и переходим к окончанию беседы. Поскольку я чувствую, что подходит время заканчивать, я размышляю вслух над списком.)
ДЖИН Это был довольно... этот список заинтересовал меня, понимаете, все то, что вы наболтали в начале. Здесь есть отличия. Я не знаю, видите вы в этом прогресс или нет, но вы понимаете, что мне это кажется прогрессом? Прослушав весь список всего этого?
УЭЙН О, да, я тоже вижу. Да. Я просто оценивал ее прогресс по сравнению с моим.
ДЖИН Хорошо, может быть, в следующий раз мы начнем с того, что вы представите мне список изменений, которые вы видите в Дорис.
УЭЙН О’кей. Я составлю список.
(Смех)
ДОРИС К тому времени, когда мы встретимся, он превратится в библию.
ДОН Вот что случается, когда люди живут вместе годы и годы. (Смех)
ДЖИН И я был бы... Если бы мы составили такой список, мне было бы любопытно узнать, какое влияние оказывают эти изменения на вас. Понимаете. Потому что, когда в рамках взаимоотношений один человек меняется, это действительно оказывает реальное влияние на других.
УЭЙН О, определенно так.
Люди могут быть приглашены с тем, чтобы они стали продолжительной частью терапии, либо их можно пригласить на единственную встречу, как Дэна. Мы также обнаружили, что людей время от времени полезно приглашать на встречи, чтобы доводить до них точную информацию. Мы применили этот принцип к родителями, когда встречались с подростком наедине или с его партнерами по взаимоотношениям. Эти встречи часто принимают форму подведения итогов развивающейся альтернативной истории или празднования достижений. Вносят ли люди свой вклад в беседу или нет, их свидетельства в пользу альтернативных историй или предпочтительных версий самости часто оказываются важными для людей, с которыми мы работаем. Кроме того, эти свидетельства почти всегда изменяют восприятия того, кто свидетельствует. Эти изменения затем становятся частью последующих взаимодействий.
КОМАНДЫ
Вводя понятие “вскармливающих команд”, Майкл Уайт (1995) обращается к другому аспекту приглашения людей на встречи. Он говорит, что “вскармливающие команды” могут служить противовесом “командам насилия”, которые, как правило, действовали в жизни некоторых людей. Уайт отмечает, что многие люди, подвергавшиеся жестокому насилию, приходят к тому, что видят в себе “зависимую природу”, критикуют и патологизируют себя за то, что имеют такую природу. Он размышляет над тем, не укрепляются ли люди в этом мнении о себе доминирующими культурными историями о “независимости”, “самообладании”, “опоре на собственные силы” и прочем — историями об “отделении и индивидуации”.
Чтобы деконструировать эти доминирующие истории, Уайт осведомляется о наличии команды насилия. Была ли такая команда? Кто ее члены? В течение скольких лет и на каком уровне интенсивности был активен каждый из членов? Затем он подсчитывает “весомость” насилия, умножая число членов команды на число лет и на значение интенсивности за год. Затем он размышляет над тем, что могло бы послужить “противовесом” насилию, и предлагает идею “вскармливающей” команды, прикидывая, насколько большая команда потребуется в течение данного периода времени, чтобы компенсировать влияние команды насилия. Уайт предлагает, чтобы люди действительно могли пригласить во вскармливающую команду тех, от кого, по их убеждению, они зависимы, равно как и других людей, которые, как им кажется, могли бы принять это предложение. Терапевты могут предложить других людей для участия в команде. Он (White, 1995, стр. 106) описывает, что может произойти на встрече с участием вскармливающей команды:
Первое, человек, который разослал приглашения, представляет некоторый отчет о членах команды насилия, ее деятельности и долговременных последствиях этой деятельности. Второе, представляется понятие вскармливающей команды наряду с несколькими мыслями по поводу того, какую роль могла бы сыграть эта команда в устранении последствий работы команды насилия. Третье, отмечается работа, которая была уже проделана предполагаемыми членами вскармливающей команды наряду с последствиями этой работы. Четвертое, после этого предполагаемые члены команды обсуждают свой возможный вклад в работу, который, по их убеждению, мог бы устранить последствия работы команды насилия и соответствовать их собственным потребностям, не становясь обременительным для них. Пятое, человек, созвавший собрание, отвечает на эти предложения и вносит дальнейшие предложения по поводу того, что могло бы лучше всего сработать для него. Шестое, обсуждаются все эти предложения, и составляются планы для их осуществления. На этот раз эти планы прорабатываются во всех подробностях.
Уайт предлагает, чтобы терапевты присутствовали по крайней мере на первых встречах и были доступны для поддержки и прояснения процесса.
Структурируя поддерживающие системы подобным образом, людей следует не столько призывать к реагированию на кризисы, сколько к тому, чтобы они ознакомились с историей. Им следует дать возможность играть роль в создании новой культуры, в которой предпочтительная история имеет возможность расцвести.
Когда я (Дж. Ф) услышала размышления Майкла Уайта о таких командах, я подумала о своей дорогой подруге, чья жизнь была искалечена и жестко ограничена синдромом хронического утомления. Она лишилась средств к существованию и утратила свое профессиональное лицо, равно как и возможность участвовать в тех видах деятельности, которые приносили ей удовольствие большую часть ее жизни. Я знаю это о ней и я видела ее бесстрашную борьбу за то, чтобы удержать, насколько она могла, оставшуюся часть жизни. И все же, когда она звонит мне в ужасном состоянии, нуждаясь в какой-то помощи, я часто мечусь от одной вещи к другой, перегруженная обязательствами по работе и не имеющая, как может показаться, ни минуты свободного времени. Слишком часто я реагирую, отделываясь от нее. Я бы с большой охотой вступила во вскармливающую команду для нее и с удовольствием внесла бы свой вклад. Если бы мне пришлось думать о себе как о человеке, который играет свою роль в создании субкультуры, которая поддерживала бы ее в сохранении ее жизни для нее самой, и где ценились бы усилия с ее стороны, я бы нашла время. Если бы это было согласовано заранее, а не в приступе синдрома хронического утомления, я могла бы сделать это частью моей жизни. Я знаю, что другие поступили бы так же ради тех людей, о которых они заботятся.
В дополнение к идее команд, которые несут и разделяют обязанности, мы обнаружили, что весьма эффективным оказывается предложение идеи команды, которая приближала бы к мыслям и чувствам человека. После того, как проект получил название, мы можем задать вопросы, чтобы помочь человеку определить, кто бы мог участвовать в команде для этого проекта. Мы приводим сокращенный набор таких вопросов:
* Мы совсем немного поговорили о том, откуда исходит идея, касающаяся того, что вы ничего не можете добиться. Я понимаю, как сообщения и комментарии подпитывают стиль жизни, связанный с зацикливанием. Это заставляет меня задуматься над тем, не могли бы сообщения и комментарии других людей подпитать стиль жизни, связанный с возвращением себе своей жизни. Кто мог бы участвовать в команде, которая поддержит стиль жизни, связанный с возвращением себе своей жизни? Они могут быть из вашего настоящего или прошлого, может быть, некто, кто заметил в вас что-то еще очень давно, или некто, кто не знает вас лично, но поддержал бы то, чего вы начинаете добиваться здесь.
* Если бы рядом с вами, в ваших мыслях и чувствах, когда вы продвигаетесь в вашем проекте, была команда, то, что бы это изменило?
Эти вопросы дают людям возможность решить, кого они хотят видеть в своем сообществе, в своей команде. Все мы держим людей в своем сердце и мыслях. Эта идея побуждает людей выбирать, кого им впускать туда. Мы обнаружили, часто существует учительница начальной школы, которая сыграла роль спасительницы жизни и может дальше играть важную роль, даже если мы не знаем ее местопребывания, или даже если ее уже нет в живых. Поскольку сами мы из Чикаго, не стоит удивляться тому, что в нашей практике Майкл Джордан и Фил Джексон, тренер “Чикаго Буллз”, входят в состав многих команд. Мы уверены, что это могло бы принести им еще большую славу.
Членам команды, знающих людей, с которыми мы работаем, мы можем задать вопросы, развивающие историю взаимоотношений и их знания наших клиентов:
* Если бы мне пришлось интервьюировать вашу кузину Шейлу, как вы думаете, что бы она сказала по поводу того, что она больше всего ценит в вас?
* Что она такого заметила в вас, что привело ее к такой оценке?
* Есть ли конкретное событие, о котором она могла бы мне рассказать?
* Каким образом ее знание вас позволяет ей стать членом команды?
Или мы можем рассмотреть возможность приглашения доступных членов команды на терапевтическую встречу и их интервьюирования.
Если до этого отсутствовали взаимоотношения с членами команды, мы можем задать вопросы гипотетического характера:
* Как по-вашему, чтобы больше всего ценил бы в вас Фил Джексон, если бы он узнал, что вы делаете, и вы были бы знакомы?
* Из того, что вы сделали, что бы больше всего привлекло его внимание?
* Почему это привлекло бы такое внимание?
* Как бы он мог поддержать дальнейшее развитие в этом направлении?
Кроме того, у людей часто есть творческие идеи, касающиеся того, как осуществить присутствие членов команды в своей жизни. Один человек вставил в рамку фотографии членов его команды и поместил их на видное место в своей квартире. Поскольку он не мог найти фотографию классного руководителя шестого класса, он вписал в рамку его имя.
Как только команда названа, мы можем поддерживать активность ее членов, расспрашивая о них в ходе терапии:
* Чем команда может помочь вам при подготовке к собеседованию при поступлении на работу?
* Теперь, когда с вами команда, видится ли вам этот проект по-другому?
* На кого из команды вы можете рассчитывать, если ужас прокрадется в ваши сны? Что она могла бы сделать или сказать?
ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
В Главе 7 мы описываем, как, работая с парами, семьями или группами, мы обычно разговариваем с одним человеком, тогда как другим мы предлагаем занять позицию наблюдателя.
Если проблема, в частности, касается одного человека, очевидно, как занимающие позицию наблюдателя могут сыграть роль слушательской аудитории. Например, семья пришла на терапию, потому что ночные кошмары терроризировали семилетнего Брюса, будя его, покрывая его холодным потом и отсылая в постель к родителям. Хотя эти страхи касались каждого, их влияние на Брюса было гораздо более сильным. На второй встрече я (Дж. К) обнаружил, что в предыдущую ночь со вторника Брюс поставил страхи на место, когда они пытались отправить его будить родителей. Пока я обсуждал с Брюсом, как ему это удалось, его родители и младший брат слушали. Когда всплыла здравая история о достижении Брюса, я задал “аудитории” несколько вопросов: Как, по их мнению, это новое направление развитие влияет на судьбу взаимоотношений Брюса и страхов? Что говорит о Брюсе то, что он взял ситуацию в свои руки таким образом? Приходилось ли им раньше наблюдать, как он брал ситуацию в свои руки? И так далее.
В ходе беседы стало ясно, что история о Брюсе распространяется среди других. Теперь это не было просто знание о себе; это было семейное знание. У победы Брюса была своя аудитория.
Даже если два человека вовлечены в терапию, работая над “проблемами взаимоотношений”, каждый из них может служить аудиторией для другого. Фактически, когда партнер выслушивает историю взаимоотношений из уст другого партнера (которая всегда, в той или иной степени, отличается от его версии), его представления о взаимоотношениях и самом партнере могут измениться. Такова природа аудитории.
Структурирование бесед таким образом, что один человек говорит, тогда как другие выслушивают историю, впоследствии делясь своими откликами на историю рассказчика, повышает возможность того, что каждый будет играть роль рассказчика или аудитории, и минимизирует возможность того, что люди будут подвергать сомнению истории других или противопоставлять им свои истории.
“Формальные” команды наблюдателей типа тех, что мы используем при консультации и супервизии, предполагают другой тип аудитории участников. Хотя участники, в отличие от друзей и членов семьи, обычно больше не появляются в жизни людей, над чьими историями они размышляют, они воплощают собой новую локальную субкультуру во время терапевтических встреч. Это может сыграть очень могущественную роль, и люди действительно говорят, что они носят “команду” в своих сердцах и мыслях.
Команда наблюдателей обеспечивает “восстание порабощенных знаний”. Разнообразные люди, составляющие команду наблюдателей, представляются и придают своим комментариям индивидуальную окраску, и люди слушают их как конкретных людей с конкретным личным опытом, идеями и намерениями (White, 1991). Часто в той части встречи, когда люди делятся своими откликами на отклики членов команды, они называют членов команды по имени или по характерным признакам (“парень с бородой” или “та женщина, что сидит вон там — ее зовут Энн?”). В ходе терапевтической беседы люди часто упоминают свои поступки в промежутке между встречами и интересуются тем, что об этом подумает конкретный член команды или вся команда в целом. В отличие от “пустой таблички” экспертов, команда — это аудитория индивидов-участников для возникающих историй людей.
ЗАПУСК ИСТОРИИ В ОБРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПЛЕНКИ, ПИСЬМА, ДОКУМЕНТЫ И ЦЕРЕМОНИИ
Процесс свидетельствования может происходить где угодно, не только в помещении для терапии. В Главе 8 мы писали о пленках, письмах и документах как о средствах для продолжения и уплотнения историй. Их также можно использовать для распространения новостей об альтернативной истории, как средство комплектования слушательской аудитории.
Далее следует пример того, как документ может быть использован для приглашения других в заинтересованное сообщество:
Стюарт — 30-летний мужчина, который за год до начала терапии прошел тест на ВИЧ-инфекцию с положительным результатом. Результаты теста привели к депрессии и постоянным мыслям о смерти. Как одинокий, гетеросексуальный мужчина, работающий преподавателем в высшей школе, Стюарт не был частью сообщества, опытного или умелого в части обращения с ВИЧ-инфекцией. Он рассказал о своем статусе ВИЧ-инфицированного лишь небольшой группе членов семьи, друзей и сотрудников. Один из этих сотрудников, озабоченный его депрессией, убедил Стюарта прийти на терапию.
В ходе терапевтического процесса Стюарт назвал депрессию в качестве проблемы и признал, что она забрала у него жизнь еще до того, как на сцене появился зрелый СПИД. Его решение прожить остаток жизни с ВИЧ-инфекцией, а не провести его, умирая от СПИДа, стало поворотным пунктом необычайной важности. К нему было нелегко прийти. Поскольку Стюарт действительно пришел к этому поворотному пункту, беда заключалась в том, что трудно было продолжать жизнь в окружении друзей и членов семьи, выглядящих подавленными и скорбящами при встрече с ним и предлагающих делать вещи за него вместо того, чтобы наслаждаться с ним жизнью. Стюарт решил, что он может распространить среди людей документ, который, с одной стороны, подпустил бы их ближе к его поворотному пункту, а с другой — дал бы им понять, какой тип аудитории он считает наиболее полезным для себя. Мы создали следующий документ.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЖИЗНИ
1. Возможно вы с этим еще не столкнулись, но мы все находимся в одном и том же затруднительном положении. С каждым вздохом мы приближаемся к смерти. Перед лицом этого затруднительного положения мы можем сосредоточиться на смерти или на жизни.
2. НАСТОЯЩИМ Я ВЫБИРАЮ СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА ЖИЗНИ.
3. Поскольку моя жизнь, возможно, будет короче, чем у большинства людей, я намерен играть и работать более упорно, беседовать более интенсивно и быть к людям ближе, чем я привык.
4. Если вы действительно хотите помочь мне, не пытайтесь остановить меня заботой и страхом.
5. Если вы действительно хотите помочь мне, почувствуйте радость в моей жизни и, если можете, присоединяйтесь!
6. Это отнюдь не означает, что я не намерен обсуждать свое здоровье, свои страхи и свою смерть. Я готов к этому, но я прошу вас помнить, что до последнего своего вдоха я буду делать это в контексте своей жизни.
7. Как живой человек, я тоже могу сделать свой выбор и принять участие в вашей жизни и борьбе.
Стюарт передал этот документ, который сначала состоял из шести пунктов, друзьям, сотрудникам и членам семьи, которые знали, что он ВИЧ-инфицирован, и хотели поддержать его. Он распространял этот документ в течение нескольких месяцев, каждый раз сопровождая его беседой, в которой он говорил людям, что ценит их заботу о нем, но их выражение заботы не соответствует тому направлению жизни, которое он выбрал. Как правило, люди выражали облегчение по поводу того, что они получают информацию о том, как реагировать на его заболевание. В одном случае карьера его приятельницы начала разваливаться на глазах, но она не обратилась к Стюарту за поддержкой, поскольку считала, что ему хватает своих проблем. Она использовала презентацию документа как возможность, чтобы спросить Стюарта, не будет ли ему обременительно выслушать ее проблемы. Стюарт понял, что его ощущение умирания отчасти объяснялось отсутствием взаимности во взаимоотношениях. Люди старались быть полезными для него, но ничего не просили в ответ. Он желал двухсторонних отношений. В результате этого понимания он добавил к своему документу седьмой пункт.
Хотя “сочувствующие взгляды” еще не исчезли полностью, Стюарт считает, что этот документ позволил сообществу узнать о его отношении к жизни, что не облегчает ту жизнь, которую он хочет прожить. Он заметил, что, получив его документ, люди более свободно обсуждают с ним их взаимоотношения, что дает ему возможность более подробно объяснять им, чего он хочет.
Как документы, так и письма могут быть использованы с тем, чтобы комплектовать аудиторию. В своей недавней работе Стивен Мэдиган и Дэвид Эпстон (1995) описывают несколько кампаний по рассылке писем, каждая из которых начиналась тогда, когда Мэдиган понимал, что добровольная и доброжелательная аудитория доступна, но находится на некотором расстоянии. Он вместе с людьми, с которыми работал, рассылал письма к этим отдаленным друзьям, прося последних напомнить его клиентам то, что они знали о них, их достижениях и т.д. Посыпались многочисленные воспоминания и свидетельства, напоминая возрожденную и продленную версию “Королевы на день”.
В Главе 8 приведены примеры историй, запущенных в обращение, включая декларацию Сюзен “Стоять прямо”, которую она зачитала своей семье за праздничным столом, терапевтические беседы с семьей Эрики, в ходе которых мы разворачивали ее рисунок, зачитывали список ее друзей и торжество с печеньем, на котором был вслух зачитан Проект Бесстрашия Кэрри и ей было вручено членское удостоверение.
В каждой из этих ситуаций до внимания аудитории участников доводилось нечто новое об истории человека. В некоторых случаях аудитория участников приглашается на участие в церемониях и торжествах в терапевтическом контексте. В других случаях состав аудитории рассматривается в ходе терапии и комплектуется вне рамок терапевтических встреч. Например, мы экспериментировали с записью на видеопленку предпочтительных историй, которыми они могли бы поделиться в процессе распространения новостей. В случае нескольких подростков, с которыми мы встречались и которые, с согласия родителей, хотели, чтобы терапия была “частной”, запись видеопленок была способом доведения до сведения их родителей важных аспектов предпочтительных историй при сохранении частного характера терапевтических взаимоотношений.
ЛИГИ
Идея “лиг” (иногда называемых клубами, ассоциациями, командами или гильдиями, но обычно — лигами) упоминалась Майклом Уайтом и Дэвидом Эпстоном (1990), а также другими (Freeman & Lobovitz, 1993; Zimmerman & Dickerson, 1994a), однако ей редко посвящаются статьи.
При ранних применениях этой идеи в нарративном сообществе людей награждали удостоверениями и провозглашали их членами “Австралийской ассоциации укротителей чудовищ и ловцов страхов”, “Гильдии ловцов и укротителей чудовищ и гадов”, “Австралийского и ново-зеландского клуба убийц страхов и охотников за привидениями” и других ассоциаций. Когда лиги используются подобным образом, часто обсуждаются условия членства в такой лиге, но обычно не упоминается деятельность лиги, которая обусловлена членством в ней. Эти лиги являются “виртуальными” заинтересованными сообществами; для большинства людей они служат той же цели, что и членство в профессиональной организации. Вступление в лигу означает, что человек достиг компетентного уровня в конкретной области. Его членское удостоверение признает достижение им нового статуса!
Дэвид Эпстон продвинул роль лиг немного дальше. В течение более чем десяти лет он служил архивариусом для нескольких лиг, собирая пленки, художественные работы и письма, в которых предлагаются идеи о том, как люди избегают такие проблемы, как вспышки раздражительности, ночные кошмары, отказ ходить в школу и астма (Madigan, 1994). Похоже, что в последнее время наиболее активной является Новозеландская лига анти-анорексии/анти-булимии.
До того, как стать архивариусом, Эпстон был известен как рассказчик историй, публикуя свою работу в “Уголке историй” в Австралийском и ново-зеландском журнале семейной терапии. В беседе, в которой мы впервые услышали об этих архивах, Эпстон сказал, что роль рассказчика его больше не интересует. Он описывал свою работу с членами Лиги анти-анорексии/анти-булимии, говоря примерно следующее: “Когда я разговариваю с Кларой о дилемме, с которой она столкнулась, я спрашиваю: “Вам хотелось бы узнать о том, как с подобной дилеммой столкнулась Барбара?” Если Клара проявляет к этому интерес, я рассказываю, что сказала Барбара, а также что нового нашел здесь Рене”.
Когда мы услышали это описание, мы взглянули друг на друга и подумали: “Он действительно все еще рассказывает истории”. Мы страшно ошиблись.
Дэвид Эпстон и люди, которые сражаются за то, чтобы отобрать свою жизнь у анорексии и булимии, создали большой архив писем, пленок, рукописей, журнальных статей, художественных работ, заметок и прочих произведений. Коллекция доступна для членов. Они используют ее в борьбе против анорексии и булимии.
Когда я (Дж. Ф) зачитала некоторые из материалов лиги Джил, к которой я присоединилась в ее борьбе за жизнь, Линн нашла впечатляющим выслушивание слов кого-то другого, кто столкнулся с подобным врагом. Те пассажи, которые, как я подумала, не были особенно уместными, растрогали ее до слез. “Не могли бы мы спросить ее, как ей удалось совершить этот шаг?” — стала умолять меня Линн, когда услышала о достижениях одного из членов. Вот так мы написали письмо в сестричество анти-анорексии и анти-булимии, и завязалась переписка.
Мы говорим, что были страшно неправы, когда подумали, что его работа — это то же самое, что рассказывание историй (хотя мы сами — страстные поклонники рассказывания историй), потому что мы видим, что эта работа относится к совершенно другой лиге. Она объединяет и запускает в обращение голоса людей, вовлеченных в общую борьбу. Их голоса, но не голоса терапевтов, обладают привилегиями. Когда Линн читает слова ее анти-анорексийного, анти-булимического корреспондента из Новой Зеландии, она относится к ним весьма серьезно, как к реальному, полезному опыту. Никакой пересказ терапевта не может обладать для нее такой вескостью. После того, как мы вместе прочитали последние письма, Линн взглянула на меня и сказала: “Когда я слышу о ее опыте, я понимаю, что я все время планировала проигрыш, и я стала задумываться над тем, нельзя ли планировать победу”.
Разговаривая с коллегами о том опыте, который я разделяю с Линн, участвующей в Лиге анти-анорексии/анти-булимии, я столкнулась с неожиданной возможностью. Люди продолжали снабжать меня журнальными статьями, заметками, письмами и прочим. Услышав о том, что происходит в Новой Зеландии, люди зажглись таким энтузиазмом в части основания местной лиги, что все, казалось, происходит по ее воле!
Как мы уже заявляли, доминирующая культура часто конструирует людей, придавая им статус проблемных личностей. В особенности, когда дело касается анорексии и булимии, но также и многих других проблем, это приводит многих людей к изоляции в стыд и самоотвлечение. Подкрепленное экстернализацией проблем, такое сообщество, как лига, не только обеспечивает аудиторию для распространения историй сопротивления и достижений, но также изменяет контекст жизни людей. “Я уже не чувствую себя такой одинокой”, — говорит мне Линн. Хотя я (Дж. Ф) ощущаю себя участницей ее борьбы, это не то же самое, что связь другими, которые эмпирически понимают, против чего она восстала.
Ванкуверская лига анти-анорексии и булимии, возникшая на базе группы стационарных больных, проводимой Стивеном Мэдиганом (1994), утвердила себя в качестве массовой организации, которая проводит регулярные встречи, устанавливает круг обязанностей и организует комитеты по членству, и выпускает вестник. Помимо личных историй и пленок, Ванкуверская лига собрала печатные материалы по анти-анорексии и составила справочный список. Лига действует не только во благо своих членов — людей, сражающихся с анорексией и булимией, терапевтов, членов семьи, любимых и друзей — но также включает и внешнюю составляющую, предлагая консультации и образование для сообществ и профессиональных групп.
Как реципиенты консультации с членами Ванкуверской лиги, мы можем сказать вам, что они убедительно опровергают истории традиционной терапии об “анорексиках”. Они не только распространяют истории надежды и возможности. Поскольку их число превосходит 300 человек, они бьют эффекты изоляции и умолчания, присущие анорексии, их же оружием.
Они намерены не только создать субкультуру, но также и изменить доминирующую культуру. Недавно Стивен Мэдиган (1994, стр. 27) описал некоторые виды деятельности Лиги:
Комитет Лиги по наблюдению за средствами массовой информации публично осуждает про-анорексийные/булимические виды деятельности, такие как использование манекенов с фигурой беспризорных или рекламу гимнастических залов, призванную вызвать телесное чувство вины. Члены Лиги пишут письма президентам компаний, издателям газет и журналов и дают интервью СМИ. Члены Лиги пишут письма президентам компаний, издателям газет и журналов и дают интервью СМИ. Наклейки Лиги, вроде “Голодание убивает ваш аппетит к Жизни” и “ВЫ — это не только тело” помещаются на щиты рекламные щиты, призванные побудить женщин рассматривать истощение как физический идеал. Центры диеты — это тоже излюбленная цель этой кампании наклеек...
Учитывая тот настораживающий факт, что диета уже обсуждается в кругах четырехлетних младенцев, наш комитет по содействию школе разработал анти-анорексийную/булимическую программу для учеников начальных и средних школ. Эти программы представляют ученикам пагубные подробности, сопровождающие анорексийные и булимические стили жизни, в графической форме. Кроме того, их ознакомляют со стратегиями и информацией в части того, как противостоять нарастающей тенденции “расстройств в питании”.
Воистину замечательный аспект лиг состоит в том, что они позволяют своим членам не только иметь аудиторию для представления новых историй и нового учреждения себя, но и быть аудиторией для новых историй других и учреждения их самости.
Группы
Есть еще один метод, как превратить людей, сражающихся с похожими проблемами, в аудиторию друг для друга. Это терапевтические группы. Джэнет Адамс-Уэсткотт и Динна Айзенбарт (1995, стр. 335) предлагают это описание своей работы с людьми, пережившими сексуальное насилие в детстве:
Мы предлагаем членам группы развивать связи и создать сообщество, которое поддерживает личное путешествие перемен каждого из участников. Это “сообщество” обеспечивает аудиторию для членов с тем, чтобы: (1) развивать свое собственное самопознание, (2) практиковать более основательные истории о своей самости и (3) включать предпочтительные нарративы в свой пережитый опыт.
Джэнет Лаубе и Стивен Трефц (1994) использовали нарративную структуру, когда работали с людьми, сражающимися с депрессией. Они (стр. 33) определяют “аудиторию” как один из “целительных факторов” и поясняют:
Участники группы — это изначальная аудитория для рассказывания историй в безопасном окружении, где существует основательность, общность и свидетельства того, как депрессия получила доминирующее влияние. Члены помогают друг другу преображать свои истории, становясь аудиторией для обнаружения исключений и выявления отличий.
Другие идеи
Существует множество способов создания аудиторий и субкультур, в которых можно делиться знанием. Дженни Фримен (Freeman, Lopston, & Stacey, 1995) использовала аудиторию в своей работе с детьми. Она пишет:
Мы развиваем “публичные практики”, в которых сообщества детей устанавливают контакт друг с другом через поддержку и знание. Когда их идеи собираются терапевтом для распространения в аудиториях через руководства, пленки, письма и словесное общение, детям нравится, что эти идеи приносят им уважение. Кроме того, они получают дополнительное удовлетворение от того, что вносят вклад в жизнь других.
Руководства, которые принимают форму антологий, включают “Руководство для укротителя гнева” и “Руководство для противника страха”. Дети вносят свой вклад, помещая на страницах этих руководств свои стихи, заметки и рисунки, или пересказывая свои соображения терапевту. Фримен (Lobovits, Maisel, & Freeman) добавляет фотографии и карикатуры. Эти пособия доступны для детей, столкнувшимся с похожими проблемами, а также служат “... источниками вдохновения и напоминания для авторов, если последние ощущают регресс” (Freeman, Lopston, & Stacey, 1995). Фримен начала распространять эти пособия среди других терапевтов. Прежде чем книги возвращаются назад, дети, с которыми они работают добавляют в них свой материал.
Еще одна инновация, пока находящаяся на стадии планирования, заключается в идее совета по общественной информации. Пол, который изменяет свои взаимоотношения с депрессией так, что он управляет ей, а не она им, работает над созданием совета по общественной информации для людей, страдающих от депрессии. Для участия в нем будут приглашены члены семьи, друзья и терапевты, наряду с теми, кто подвержен ее прямому влиянию. Хотя Пол обнаружил в Интернете 17 баз данных, имеющих отношение к депрессии, он уверен, что люди, борющиеся с депрессией, часто теряют работу и, следовательно, постоянно сталкиваются с финансовыми трудностями. Это привело его к проекту создания совета по общественной информации по номером 800. (Все другие базы данных — платные.)
Эта идея формировалась постепенно по мере того, как Пол задавался вопросом: “Поскольку депрессия может служить барьером на пути к “нормальной социальной среде”, тогда для какой Среды она не могла бы служить барьером?” Он понял, что такой совет представляет собой поддерживающий и одновременно анонимный аспект. Они могут быть организованы с разделением на разные категории. Например, если депрессия мучает человека мыслями о самоубийстве, этот человек может войти в категорию “суицидальных мыслей”. Другой человек может подключиться к категории “суицидальных мыслей” с позиции силы и доверия, предлагая истории о том, как ему удалось изменить методы борьбы. Выбор, который предлагает вход в категории, дает преимущество над группами поддержки, в которых люди могут просто утонуть в потоке депрессивных историй.
Создание такого информационного совета — важный шаг в проекте Пола по изменению своих взаимоотношений с депрессией. “Это нечто, что не каждому под силу, но под силу мне”, — сказал он нам. И благодаря усилиям Пола это будет нечто, к чему смогут присоединиться другие.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И КООРДИНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
Иногда терапевт находится в идеальной позиции для распространения возникающей истории среди людей, принадлежащих другим профессиям, институтам или организациям. Такие люди могут играть роль слушателей лишь в том случае, если кто-то создает доступную для их понимания историю. В случае Миши, к примеру, похоже, огромную роль сыграло то, что я (Дж. К) пошел на разговор с администрацией его школы на их поле.
У Миши были прекрасные глаза — огромные, темные, сияющие всем интересующиеся глаза с длинными, черными ресницами. На протяжении всей нашей первой встречи он проявлял себя интеллигентным, уравновешенным и разговорчивым мальчиком. Это меня озадачило. По словам его родителей, люди в школе считали его застенчивым, грубым и медлительным. Они считали, что его следует перевести в специальный класс для детей с расстройствами развития и поведения. Почему мне виделся в нем совершенно другой человек?
От Миши и его родителей я узнал, что они вместе с двумя младшими сестрами Миши за два года до этого эмигрировали из России. Они приехали вместе с сестрой мишиной мамы, и Миша начал посещать местную чикагскую общеобразовательную школу. Большинство учеников в этой школе были испаноязычными, и Миша, которому в то время было десять лет, быстро освоил как испанский, так и английский. Его тамошний учитель любил его и считал, что он поразительно прогрессирует, учитывая, что помимо обычной программы пятого класса ему приходится осваивать совершенно новую культуру.
Однако мишиных родителей школа весьма беспокоила. Там происходили случаи криминального характера, включая стрельбу по проезжающим автомобилям, в которой был уличен шестиклассник. Оба родителя через своих родственников и знакомых нашли хорошую работу и на второе лето решили переехать в пригород, где, как говорили им все их друзья, Миша и его сестры могли бы ходить в более безопасную, достойную школу.
На второй встрече, на которой присутствовал один Миша, он рассказал мне, как с первого дня в новой школе все для него пошло наперекосяк. Он никого не знал, и никто, похоже, не был заинтересован в том, чтобы узнать его поближе. Дети в этой новой школе одевались совсем не так, как в его старой школе. Для каждого предмета у него был отдельный учитель, и ему приходилось идти в другой класс каждый раз, когда начинался новый урок. Все это смущало и немного пугало.
В течение всего учебного года все мишины учителя обращались с ним как с тупицей; то есть, все, кроме его учительницы английского языка. Она заметила, что он любит читать, и стала предлагать ему книги, которые он мог взять в библиотеке. Когда они в классе вслух читали пьесу, она похвалила его за то, что он очень хорошо читает.
У него совсем не было друзей. На уроках физкультуры ребята смеялись над ним, поскольку он не знал баскетбольных правил. Все больше и больше времени он проводил в одиночестве. Он ненавидел эту новую школу.
К концу учебного года Миша заваливал математику и еле-еле успевал по другим предметам, за исключением английского. Но даже здесь у него возникали трудности, когда нужно было писать сочинения. Именно тогда его предложили перевести в класс для детей с расстройствами развития и поведения. Школьный психолог предположил, что, возможно, мишина проблема заключалась в депрессии. Мишины родители были весьма встревожены этим предположением и сразу же предприняли действия. Вот так они оказались в моем кабинете, поскольку мишин дядя консультировался со мной несколько лет назад и рекомендовал меня им.
Расспрашивая их далее, я узнал, что дома, за исключением приступов печали и разочарования, связанных с темой школы, Миша оставался тем интеллигентным, веселым, очаровательным ребенком, каким его всегда знала его семья. У него все еще было двое хороших друзей из старой школы, которых он навещал по выходным. Мне казалось, что если проблемой была депрессия, то это была в высшей степени контекстуализированная форма депрессии. То же самое верно для любого серьезного проявления неспособности к обучению или расстройства поведения. Эти вещи просто не получали подтверждения, когда Миша находился вне школы.
В ходе моей третьей встречи с Мишей, на которой также присутствовали его родители и сестры, мы сформировали историю обо всем том, чего достиг Миша после переезда в США. Он выучил два новых языка. (Он все еще довольно часто говорил по-испански с одним из своих друзей из старой школы.) Теперь он знал, как обращаться с видеоаппаратурой, кабельным телевидением, Нинтендо и с персональным компьютером своего папы. Кроме европейского футбола, с которым он был уже знаком, он стал преуспевать в бейсболе и, с помощью его городских друзей, в баскетболе. Все согласились с тем, что дома дела у Миши шли просто замечательно. Проблема состояла в том, как запустить эту историю в обращение в его школе.
С разрешения Миши и его родителей я позвонила школьному психологу. Она была слегка удивлена и весьма заинтересована, услышав, как замечательно успевал Миша в старой школе, и что дома он ведет себя по-другому. Она сказала, что у нее сложилось впечатление, что Миша иммигрировал, когда был еще совсем маленьким. Она на самом деле не знала, что он выучил английский за последние два года. Она была рада услышать мое мнение о том, что он не страдает от сильной депрессии, однако она не знала наверняка, как школа могла бы помочь ему вернуться на свой путь.
Некоторые из учителей, похоже уже поставили на нем крест. Его учительница математики находил его “неисправимым”. Его, безусловно, просто не могли перевести в обычный седьмой класс. Приближался конец учебного года и заседание педагогического совета, и она не была уверена, что может дать ему положительную рекомендацию для перевода в следующий класс. Я тоже в этом не был уверен. Я спросил ее, не могут ли сторонние консультанты, вроде меня, присутствовать на педсовете. Она ответила, что такое случается не часто, но она была убеждена, что это будет только приветствоваться.
Я осведомился у Миши и его семьи, было бы, по их мнению, для меня полезным посещение педсовета. Я объяснил, что моя роль там, как я ее вижу, состояла бы в том, чтобы донести до всех вести о том Мише, который существовал в его прежней школе и который все еще существует дома — рассказать им о его достижениях за последние два года. Я сказал, что надеюсь на то, что это заставит людей задуматься над тем, как они могли бы превратить школу в то место, где Миша может расцвести. Они полагали, что это может здорово помочь, и воодушевили меня на то, чтобы пойти туда.
На заседании педагогического совета, на котором присутствовали директор и все учителя Миши, а также я и психолог, разговор начался с того, что Миша очень плохо успевает. Учительница математики, похоже, видела в нем городского головореза, который случайно забрел не в ту школу. Другие учителя скорее были склонны видеть в нем застенчивого, неуверенного в себе и запутавшегося мальчика. Учительница английского полагала, что он мог бы подавать надежды, если бы его можно было уговорить вылезти из своей скорлупы. К моему удивлению, начала очень подробно описывать, насколько подавленным, негативно настроенным и асоциальным выглядел Миша в свете тех тестов, которые она к нему применила — все шло так, как если бы у нас не было с ней беседы по телефону.
Когда мне предложили выступить, я рассказал историю Миши, как я ее понимал, прося их поставить себя на его место, насколько это было возможно. Я понял, что эти люди были свидетелями другой истории Миши, отличной от той, в которую верил я. Но я надеялся, что, если они смогут поместить его опыт в более широкий контекст, они бы увидели другие возможности. Если бы они превратились в слушателей для мишиной предпочтительной истории, то их исполнение этой истории вдохнуло бы в нее жизнь.
Я вслух размышлял о том, каково это — попасть из маленького русского городка на улицы Чикаго. Я просил их представить себе, как их отдают в огромную школу, где большинство учеников говорят по-испански, тогда как учителя на уроке говорят по-английски. Я рассказал, как быстро Миша выучил оба языка настолько, чтобы достаточно хорошо ориентироваться. Я рассказал о том, как он завел друзей, обучился новым играм, новым социальным обычаям, новым стилям одежды — целой новой культуре. Вероятно, точнее было бы сказать — целым новым культурам.
Я просил их представить себе, каково это — как раз тогда, когда ты действительно начинаешь добиваться успехов в этой новой, странной окружающей среде, тебя перебрасывают в еще одну новую среду, где к отличиям относятся с меньшим терпением, чем в прежней школе. В этой новой школе все вещи были меньше, более индивидуальными, более однородными. Что вышло для Миши на первый план, это то, что он не вписывается сюда. Могли они понять, что он чувствовал, когда ученики издевались над ним? Когда учителя, казалось, рассматривали его под микроскопом? Если они признали бы его достижения в старой школе и дома, смогли бы они поверить, что он действительно был интеллигентной и способной личностью, сражающейся с одиночеством и смятением?
“Да, — сказала учительница математики, — но он все еще не успевает, и неважно, в чем здесь причина. Все пойдет только хуже, если мы переведем его в седьмой класс”.
Учительница английского сказала, что осуществляет специальный драматический проект в летней школе, и ей хотелось бы, чтобы Миша сыграл в нем значительную роль. Ей казалось, что она могла бы все устроить так, чтобы у Миши было больше возможностей завести друзей, если бы он участвовал в этом проекте. Психолог, которая, похоже, снова вернулась в мир предпочтительной истории Миши, спросила, нельзя ли ему брать дополнительные уроки по математике. Учительница математики, которая, казалось, потеплела в своем отношении к проекту, сказала, что она может это устроить. Другой учитель вызвался за лето подтянуть Мишу по другим предметам. К концу собрания люди говорили о мишиных проблемах, как если бы они представляли вызов их творческим способностям, а не пустое расходование их времени и энергии.
Когда совет закончился, я спросила психолога, не могла бы она поговорить со мной еще несколько минут. Она пригласила меня в свой кабинет, и я сделал все, чтобы оживить в ее голове историю Миши как способного и скорее удачливого навигатора среди новых культур. Мы договорились поддерживать связь по телефону в течение лета, чтобы она могла рассказывать мне, как продвигается новый план для Миши.
Я еще раз встретился с Мишей и его семьей через три недели после начала летней сессии. Они были удовлетворены тем, как идут его дела в школе. Они были убеждены, что люди в школе тоже этим удовлетворены. Миша сказал, что в новой школе ему начали нравиться некоторые вещи. Ему особо понравилось то, что некоторые люди, похоже, хотели завести с ним дружбу.
Психолог позвонила мне дважды в течение лета и последний раз — осенью. Каждый раз она давала мне понять, что учительский коллектив гордится тем планом, который они вместе разработали для Миши. Все, даже учительница математики, полагали, что дела у него идут просто прекрасно.
Как только коллектив учителей превратился в аудиторию для предпочтительной истории, характер их участия в судьбе Миши изменился коренным образом. Они создали план, который я не мог предвидеть или осуществить своими силами, план, который хорошо срабатывал для Миши и продолжал его историю.
Я убежден, что для Миши все могло бы пойти по-другому, если бы у меня не было возможности посетить педагогический совет в его школе. Мое личное пребывание там позволило мне поделиться с ними его предпочтительной историей в такой неотразимой манере, которая была бы недоступна ни по телефону, ни в письменной форме. Поскольку весь коллектив присутствовал в одном месте, они, как группа, могли втянуться в историю Миши и обнаружить свою заинтересованность в участии в команде Миши.
Сколько бы пользы не приносила встреча с членами потенциальной аудитории на их поле, она не всегда осуществима. Иногда имеющие отношение к делу профессионалы, могущие помочь, находятся так далеко или разбросаны по стольким разным местам, что встреча с глазу на глаз просто нереальна. В этом случае могут быть использованы телефонные звонки, письма, факсы и прочее. История Хейли иллюстрирует одну из форм того, как это может происходить.
Хейли была поражена очень редкой болезнью, которая заставляла ее кровь очень легко сворачиваться. Эта болезнь проявилась в жизни Хейли, вызвав сгусток крови, который отрезал поток крови к печени, что вызвало ее отмирание. Вскоре после своего шестнадцатого дня рождения Хейли перенесла пересадку печени, которая не прижилась. Она полностью отторгалась в течение двух месяцев. Затем ей вживили новый трансплантант, который ее тело приняло, и он все еще работал достаточно хорошо, когда я (Дж. К) впервые увидел ее два года спустя.
Хейли стали давать экспериментальный препарат, который выполнял огромную работу по контролю над расстройством свертывания крови. Теперь проблемой стала боль. В ходе двух пересадок печени хирурги вскрывали и зашивали брюшную полость Хейли по крайней мере десять раз — дважды для самой трансплантации, и восемь других раз для того, чтобы предотвратить абсцессы, образование мелких сгустков крови и закупорку кишечника. Она страдала от хронической, тупой, пульсирующей боли в одной области брюшной полости и от перемежающейся, неимоверно сильной, острой боли в другой точке.
Поначалу хирурги с удовольствием подавляли боль опиоидами, но по прошествии некоторого времени они все с большей и большей неохотой склонялись к применению этих препаратов, несмотря на то, что ничего больше не могло облегчить боль Хейли. По словам Хейли и ее матери, врачи боялись, что она приобретет зависимость от обезболивающих средств. Пока боль продолжала мучит Хейли, разнообразные профессионалы, проводящие ее лечение (гастроэнтеролог, гепатолог, гематолог, социальный работник, заведующий хирургическим отделением и анастезиолог, специализирующийся на хронических болях — вот лишь несколько из них), разошлись в своих мнениях по поводу ее происхождения и правильного лечения. Все больше и больше из них стали сомневаться в том, что боль “настоящая”. Эти люди усматривали в ней проявления слабоволия или симуляции. Они стали говорить об ищущих внимания, ищущих лекарств и сверх-зависимых аспектах поведения Хейли.
Когда люди начали рассматривать действия Хейли сквозь линзы, окрашенные идеями о сверх-зависимости от лекарств, ее действия стали претворятся в истории, поддерживающие эти ярлыки. Когда эти истории стали распространяться в кругу людей, ответственных за лечение Хейли, они создали ей известную репутацию, которая опережала ее во время посещения клиники. Когда мама Хейли, Симон, встала на защиту дочери и попыталась добиться того, чтобы к жалобам ее дочери относились серьезно, о ней сложили историю, в которой она представлялась настырной и капризной персоной. Хейли и Симон стали все больше и больше ощущать свою отчужденность и атмосферу непонимания. Депрессия стала чаще наведываться в жизнь Хейли, а Симону часто глодала злоба. Злоба и депрессия виделись членами лечащей команды как дальнейшее подтверждение того, что Хейли и Симон были неприятными людьми, и вокруг стало циркулировать еще больше историй о том, какие они неблагодарные, неспособные сотрудничать и капризные.
Слушая их историю, я был тронут тем мужеством и решительностью, которую проявили Хейли и Симон. Хейли, как минимум, дважды за предыдущие два года отвоевала свое возвращение от порога смерти. Хотя за это время большую часть времени она провела в больнице, и будущее ее было неясным, она строила планы по поводу своего поступления в колледж осенью. Симон проявляла страстную решимость в своем желании видеть, что ее дочери оказывают квалифицированную помощь. Она была намерена задавать трудные вопросы, читать специальные медицинские журналы и выслушивать мнения вторых и третьих лиц, если это могло придать осмысленность жизни ее дочери. Несмотря на то, что они ощущали дистанцию, отделяющую их от людей, призванных помогать им, они были убеждены, что к Хейли следует относиться как к достойному человеку с реальными проблемами, а не как к “сачку” или наркозависимой личности.
Сразу же после нашей первой встречи я позвонил заведующему отделением, который был своеобразным “привратником” лечащей команды. Именно он был более других озабочен “ищущими внимания и лекарств аспектами поведения”. Я сказал, что только то встречался с Хейли и ее матерью, и (подавляя импульс сказать ему, что он пользуется неверной историей) и поинтересовался, каким образом, по его мнению, это могло бы быть полезным. Он заговорил о своем нарастающем неудовольствии, вызванном непомерными требованиями Хейли и Симон. Он перечислил несколько случаев, когда попытки кого-то из членов команды помочь Хейли в ее борьбе с болью и/или упадком духа заканчивались лишь провалом. Казалось, что, что бы они ни делали, это не было достаточно хорошо для Хейли и ее матери. На одном из самых последних многопрофильных совещаний, посвященных Хейли, кто-то обратил внимание на высокие дозы опиоидов, которые она принимает в течение столь долгого времени. Заведующий ощущал личную ответственность за “превращение Хейли в наркозависимого человека”.
Снова подавляя импульс “исправить” эту историю, я задал несколько вопросов, которые, как я надеялся, могли бы вызвать к жизни другую реальность. Я спросил о прогнозе, касающемся Хейли. Он сказал, что, возможно, еще долго проживет — некоторые люди с трансплантантами печени замечательно себя чувствуют через пятнадцать лет после операции — или же она может пострадать от любого из возможных осложнений и умереть очень скоро. Я попросил заведующего рассказать мне (и, как я надеялся, себе) о тех типах хирургии, которые прошла Хейли. Я спросил, не думает ли он, что боль Хейли могла быть вызвана старыми швами, адгезией (склеиванием?) или повреждением нервной системы в ходе множества операций. Он сказал, что, очевидно, может быть и так. Я спросил о его мнении по поводу применения мощных и предположительно вызывающих зависимость болеутоляющих средств сразу после операции. Он сказал, что приветствует их применение в дозах, достаточно высоких для того, чтобы полностью устранить боль. Я поинтересовался его философией в части применения опиоидов для облегчения боли на терминальной стадии болезни. Он и здесь одобрял их применение. Мои надежды в связи с этими последними вопросами зиждились на том, что они породят другие контексты, в которых он сможет переиначить историю о применении болеутоляющих средств в случае Хейли.
Я спросил, что он думает по поводу направления Хейли на консультацию к другому специалисту по хроническим болям. Он признал это хорошей идеей. Я спросил, будет ли он спокойно чувствовать себя в тот промежуток времени, пока такая консультация недоступна, относясь к жалобам Хейли на боли так, как если бы они были реальными, и сообщая о них как таковых хирургу, который прописывает обезболивающую медикаментацию. Он сказал, что это не доставит ему никаких неудобств. Второй звонок, на этот раз хирургу, принял во многом тот же оборот. В течение нескольких последующих дней я поговорил с гепатологом и гематологом Хейли. В каждом из этих случаев мое основное намерение заключалось в том, чтобы предложить человеку поддержать историю о Хейли как о бесстрашной и решительной личности, которая борется за выживание, как представлял ее я. Когда Хейли записалась на прием к специалисту по болям, я позвонил ему, чтобы рассказать ему историю Хейли, как я ее знал. Я упомянул о беспокойстве по поводу наркотической зависимости и подтвердил свою приверженность к работе с Хейли и Симон и намерение помочь им в установлении контроля над беспокойством, страхом и упадком духа, взращенными ее медицинскими проблемами. Я поинтересовался, не могли он поработать вместе со мной с тем, чтобы найти лучшую стратегию, которая освободила бы Хейли от ее страшных болей и позволила бы ей обрести ответственность за свою жизнь. Он сказал, что согласен. Это изменение в установках помогло расцвести предпочтительной истории Хейли, тогда как предыдущие идеи специалистов по боли подкосили ее.
Теперь прошло уже два года с тех пор, когда я впервые встретился с Хейли. Она все еще большую часть времени сидит на опиоидах. Она до сих пор сражается с болью, и, благодаря усилиям лечащей команды, мы теперь знаем, что одной из причин боли служит хронический панкреатит — еще одно осложнение в результате множества хирургических вмешательств. Большая часть моего участия в заботе о ней сводится к роли глашатая и фасилитатора коммуникаций. Беря на себя эту роль, я пытался поддерживать жизнь ее истории о бесстрашной борьбе перед лицом почти непереносимой болезни, и чаще — по большей части, благодаря неиссякаемому бесстрашию и силе Хейли и Симон — я преуспевал в этом. В настоящее время Хейли и Симон гораздо лучше рассказывают эту историю сами, и только в самые напряженные моменты подавленности и перегруженности работой члены лечащей команды обращаются к старой истории о симуляции и зависимости от наркотиков. Большую часть времени они составляют аудиторию участников для новой, предпочтительной истории о том, как все работают вместе, чтобы помочь Хейли прожить наилучшую из возможных жизней в течении самого долгого из возможных периодов времени. Я счастлив сообщить, что теперь эта история зажила собственной жизнью.
10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ЭТИКА
Далеко не безнадежная идея о том, что каждый из нас пере-созидает реальность при каждой встрече, наполняет меня чудной надеждой, возможностями и ощущение причастности к сообществу. Если “где-то там” не существует абсолютной истины, которая могла бы создать “экспертные системы”, каким-то образом могущие разрешить наши проблемы математически... если мы допускаем, что, вступая в диалог, мы оба меняемся; если верно, что мы со-зидаем реальность, которая в свою очередь творит нас — тогда к нам взывает новый тип сообщества. Если бы я только хочу стать часть творения, я должна действовать смиренно. Это должно перебороть ощущение себя богиней...
— Морин О’Хара, 1995, стр. 155
Терапевтическое взаимодействие — это двухсторонний феномен. Мы собираемся вместе с людьми в течение некоторого периода времени, в течение нескольких встреч, и это изменяет всю нашу жизнь.
— Майкл Уайт, 1995, стр. 7
Как мы слышали, Карл Томм говорит, что он пришел к этой работе, влюбившись в идеи Майкла Уайта. Мы тоже влюбились в идеи Уайта (как и другие люди, работающие в этой области), но постепенно, понемногу. Поначалу мы, на самом деле, не понимали важности этих идей или смещения в мировоззрении, которое они отражают. Во что мы влюбились в первую очередь, так это в те взаимоотношения, которые мы наблюдали между Майклом Уайтом, а позже — Дэвидом Эпстоном, и людьми, с которыми они работают, созидая друг друга. Мы наблюдали, как люди в рамках этих взаимоотношений могут преобразить себя и свою жизнь. *[Мы отнюдь не предполагаем, что взаимоотношения, создаваемые Майклом Уайтом и Дэвидом Эпстоном, лучше, чем взаимоотношения, творимые другими, или что другим в нарративном сообществе не под силу создать настолько же привлекательные взаимоотношения. Мы ссылаемся на взаимоотношения, в которые вовлечены Эпстон и Уайт, лишь потому, что они служили для нас наиболее явной демонстрацией этих идей, и потому, что мы были весьма тронуты, наблюдая их в ходе работы с людьми.]
Когда мы выбрали это направление работы, мы обнаружили, что оно лучше способствует установлению различных терапевтических взаимоотношений, чем наши прошлые методы. Эти безусловно двухсторонние взаимоотношения укрепляют членство в новых сообществах и новые истории как терапевтов, так и людей, которые с ними консультируются. Мы думаем, что, по большей части, уникальный характер этих терапевтических взаимоотношений определяется этическими практиками, которые формируют их конструкцию.
В подходе к этике между модернизмом и постмодернизмом существуют различия. Поскольку модернистские проекты основаны на всеобъемлющих мета-нарративах и совершенных научных теориях, модернистская этика склонна базироваться на законах, которые могут быть предписаны и приведены в жизнь “сверху вниз”, как, к примеру, этические кодексы Американской психологической ассоциации, Американской ассоциации семейной и брачной терапии и большинства других профессиональных организаций.
В постмодернистском мире этика фокусируется на конкретных людях, переживающих конкретный опыт, и проявляется значительный скептицизм в отношении применимости любых всеобъемлющих, универсальных, “безразмерных” утверждений истины. Шейла Мак-Нэми (1994), обсуждая различающиеся этические системы в сообществах с разными дискурсами, указывает, что любой дискурс — это история, и что любая история всегда рассказывается с некоей точки зрения. Она (1994, стр. 74) пишет:
Это имеет прямое отношение к... вопросу этики, поскольку мы сразу понимаем, что существуют различающиеся и конкурирующие точки зрения, и что любая оценка или суждение по поводу истории — это тоже история и, следовательно, тоже связана с какой-то точкой зрения.
Некоторые (Doherty, 1991; Minuchin, 1991) выражают беспокойство по поводу того, что социально-конструктивистская этика предполагает, что одна история так же хороша, как и другая. *[Вики Дикерсон и Джефф Зиммерман (в печати) полагают, что эта идея порождена, по крайней мере частично, путаницей между “конструктивизмом” и “социальным конструктивизмом”. Они пишут, что “... конструктивистская точка зрения может быть релятивистской, рассматривая все конструкции и технологии как в равной степени полезные... С этой точки зрения, система одного человека настолько же истинна, как и система любого другого, и, что бы ни срабатывало в данной ситуации, оно обретает значение”. Большая часть этой главы (и мы надеемся, что и всей книги) посвящена тому, чтобы показать, что социально-конструктивистская точка зрения в корне отличается от описанной выше. ] Мы не согласны с этим. Наоборот, мы придерживаемся идеи о том, что этика не может быть основана на монолитных утверждениях истины, но должна поддерживать несколько важных смещений — смещение к предоставлению пространства для вытесненных голосов и вытесненных культур; смещение к тому, чтобы человек в положении клиента выбирал то, что ему подходит; смещение к тому, чтобы терапевт ясно осознавал свою позицию, давая людям возможность правильно воспринимать наши идеи; и смещение к рассмотрению как локальных, межличностных, моментальных эффектов нашей позиции и практики, так и тех вибраций, которые эти эффекты посылают во внешний мир.
Эти идеи отнюдь не приводят нас к тому, чтобы относиться ко всем историям как к равным, но побуждают нас выверять свою этическую позицию по более чем одной единственной, олимпийской точке зрения и рассматривать влияние конкретных практик в конкретных локальных культурах. Мы могли бы осмыслить это как подход к этике, “смещенный на край”. При таком подходе ценится опыт людей на краях доминирующей культуры или на дне любой из иерархий культуры и принимается строгая этическая позиция в пользу предоставления пространства для того, чтобы голоса этих людей были услышаны, поняты и отреагированы.
Недавняя статья в Журнале Американской медицинской ассоциации (Carese & Rhodes, 1995) иллюстрирует отличия в модернистской и постмодернистской этике в сфере медицины, а также, по нашему мнению, высвечивает отличия в нашей области. Каррес и Родс изучали смысл определенных практик традиционной культуры навахо с позиции западных биомедицинских и био-этических концепций. Они (стр. 826) вполне ясно излагают один из аспектов модернистской позиции:
В культуре западной биомедицины и био-этики принципы автономии и самооопределения пациента играют центральную роль. Следовательно, явное и прямое обсуждение негативной информации между медицинским работником и пациентом является текущим стандартом здравоохранения. Например, согласие на основе информированности требует раскрытия риска медицинского вмешательства, правдивость требует раскрытия плохих новостей и предварительное планирование лечения требует того, чтобы пациент учел возможность серьезного заболевания в будущем.
Затем авторы (стр. 826-827) описывают некоторые аспекты традиционной культуры навахо:
... считается, что мысль и язык обладают силой, которая позволяет им формировать реальность и контролировать события.... По мнению навахо, язык не просто описывает реальность, язык формирует реальность. По этим причинам пациенты, принадлежащие к традиционным навахо, могут посчитать обсуждение негативной информации потенциально пагубным.
Они также описывают хожо, центральное понятие культуры навахо, которое охватывает все позитивное, включая красоту, доброту, блаженство, порядок и гармонию.
Полевая работа Кэрреса и Родса научила их тому, что люди навахо реагируют на проблемы здоровья и угрожающие жизни ситуации только им присущим образом, который отражает хожо и идею о том, что язык и мысль формируют реальность. Отсюда они выводят заключение, что практикование доминирующей морали в отношении людей, подобным навахо и считающими ее неподходящей, проблематично в этическом смысле. Они указывают на то, что Соединенные Штаты состоят из людей с различной культурной основой, и что точки зрения морали в доминирующем обществе не подходят для многих других культур. Кэррес и Родс заканчивают свою статью декларацией, которая во многом созвучна нашим намерениям в этой главе. Они утверждают, что вынуждены признавать другие культуры, в которых применение доминирующей морали может оказаться проблематичным.
Эта глава посвящена тому, как различные терапевты в нарративном сообществе начинают делать упор на этику, которая рассматривает людей в их локальных культурах и претворять эту этику в практику. Она также рассказывает о взаимосвязи этики и терапевтических взаимоотношений, о том, как люди формируют друг друга.
УЧРЕЖДЕНИЕ САМОСТИ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Мы начнем с того, что вернемся к взаимоотношениям, которые связывают в единое целое Майкла Уайта и Дэвида Эпстона и тех людей, с которыми они работают, поскольку это было первое, что взволновало нас в практическом осуществлении нарративных идей. Очевидно, что каждое межличностное взаимоотношение уникально. Кроме того, Уайт и Эпстон, во многих отношениях, работают в весьма отличных друг от друга манерах. Здесь мы хотим сфокусироваться на том, что их объединяет.
Интервью как Уайта, так и Эпстона, в основном, состоят из вопросов. В ходе их терапевтических бесед вызываются к жизни эмпирически неотразимые и значимые истории. Эти истории кажутся естественными и не подготовленными заранее. Когда их развивают, они начинают высказывать важные “истины” о людях — о их жизни, взаимоотношениях и возможностях. Люди, которые наблюдают за этими беседами, обычно видят клиентов в новом свете. Они, как правило, думают, что Уайт и Эпстон каким-то образом связаны с новым светом.
Модернистские объяснения того, как появляются на свет новые истории, могли бы фокусироваться либо на (1) определенных личностных чертах Уайта и Эпстона, и, вероятно, делать вывод (как это было сделано в отношении Карла Уитакера и Милтона Эриксона) о том, что их успех основан на харизме и индивидуальной силе, либо (2) на определенных количественных параметрах используемой ими техники, возможно, предполагая, что определенные вопросы, заданные определенным способом, приведут к определенным видам историй.
С конституционалистской и социально-конструктивистской точек зрения, нас интересуют не столько индивидуальные стили или точная форма вопросов Уайта и Эпстона, сколько то, как они учреждают себя во взаимоотношениях с другими людьми. Вместо того, чтобы строить догадки по поводу того, обладают ли Уайт и Эпстон некоей встроенной личностной чертой или какой-то беспроигрышной техникой, мы интересуемся тем, как они активно участвуют в формировании своей личности с тем, чтобы внести вклад во взаимоотношения особого рода.
Не забывайте, что мы, как социальные конструктивисты, рассматриваем “самость” не как центральную, неотъемлемую или предопределенную сущность, но как нечто, что мы учреждаем во взаимоотношениях с другими людьми. Мы убеждены, что Уайт и Эпстон намеренно включают себя в дискурсы и сообщества, которые поддерживают их в учреждении себя в соответствии с определенными этическими принципами и ценностями. После этого, когда входят в новую ситуацию, они могут нести эти сообщества и дискурсы — и, следовательно, ценности, которые они поддерживают — в себе, в своем сердце. В той степени, в которой мы наделены правом выбора, выбор сообщества или дискурса представляет собой этический акт.
Мы не предлагаем, чтобы каждый из нас поступал в соответствии с этикой Уайта или Эпстона. Тем не менее, что касается нас, то, поскольку мы находим их работу и лежащие в ее основе взаимоотношения привлекательными и эффективными, то полезно поразмышлять о том, как они учреждают себя и участвуют в развитии взаимоотношений особого рода.
Мы задали Эпстону и Уайту несколько вопросов, касающихся их этики, в особенности в контексте того выбора, который они делают в учреждении себя во взаимоотношениях с другими. Мы поинтересовались, держат ли они в уме определенные идеи или методы ориентирования, которые позволяют им вступить в предпочтительные рабочие взаимоотношения. В ответ они предложили следующие вопросы, которые, по их словам, долго направляли их в выборе моделей, теорий и практик.
1. Как эта модель/теория/практика “видит” людей?
2. Как она убеждает вас вести себя с теми людьми, которым нужна ваша помощь?
3. Как она убеждает их вести себя с тем, кто предлагает им помощь?
4. Как им, в ее рамках, надлежит “относиться” к себе? “Видеть” себя?
5. Как она пере-описывает/пере-определяет этого человека?
6. Предлагает ли она людям видеть в терапевте или в самих себе экспертов в области самих себя?
7. Она разделяет и изолирует людей или дает им ощущение сообщества и сотрудничества?
8. Ведут ли задаваемые вопросы в производительном или нормативном направлении (например, предлагают альтернативу или сохраняют доминирующие социальные практики)?
9. Эта модель требует, чтобы человек входил в “экспертное” знание терапевта, или она требует, чтобы терапевт входил в “мир” клиента?
10. Как в ее рамках определяется “профессионализм”? Эта идея “профессионализма” связана более с тем, как терапевт представляет свою самость коллегам и другим, или с тем, как он представляет свою самость людям, которые ищут его поддержки?
Эти вопросы кроют огромную область. Они предлагают несколько путей к размышлению над эффектами моделей, теорий и практик, которые учреждают как нашу “самость”, так и нашу работу. В этих вопросах нас особенно впечатляют три вещи.
Во-первых, это — вопросы. Точно так же, как терапия не диктует людям, что им делать, но ставит перед ними вопросы, так и эти этические направляющие принципы выражаются не в форме законов или формул, но в форме вопросов, которые предлагают терапевту проверить и пересмотреть свои практики в контексте ценностей и взаимоотношений, которые эти практики порождают. Это весьма отличается от угодливого принципа ”просто делай это и ни о чем не задумывайся”, который могут предлагать законы, спускаемые “сверху вниз”.
Во-вторых, эта этика относится к людям и взаимоотношениям. Она не предлагает истины, но интересуется людьми, ставя вопросы в первую очередь перед теми, чьи голоса доминируют в терапевтических взаимоотношениях.
В-третьих, вопросы фокусируются главным образом на эффектах практик. Терапевты оцениваются не по тому, насколько их действия следуют законам, но по реальному воздействию этих действий на жизни людей.
Мы согласны с Томом Андерсеном (1991b, стр. 13), который сказал:
Для меня пришло время задавать вопросы: Хочу ли я применять в своей работе метод, который потребует неприемлемых для меня взаимоотношений? Может быть, настало время, когда мы должны позволить нашей этике и эстетике формировать наши взаимоотношений, и позволить этим взаимоотношениям привести к возможным (определяемых методами) видам деятельности.
ЭТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Карл Томм (Bernstein, 1990) описал ряд этических положений и поместил себя в их рамки. Его работа в этой области обращается к некоторым вопросам, которые интересуют и нас. Томм определяет, как он использует свою схему в учреждении себя в отношении людей, которые консультируются с ним, и намечает другие возможности для того, как люди могут учредить другие виды взаимоотношений, отличные от предпочитаемых им. Чтобы объяснить свои идеи, он использует несколько крестообразных схем. (В качестве примера см. рис. 10.1.)
Надписи на рис. 10.1
Уменьшающий выбор
Манипуляция Конфронтация
Тайное знание Доступное знание
Поддержка Наделение возможностями
Увеличивающий выбор
Рисунок 10.1 Схема модели Карла Томма
На горизонтальной оси он размещает степень доступности знания в процессе изменения. Левый край оси представляет изменение, которое основано на полностью “тайном” (профессиональном) знании. Правый край представляет изменение, основанное на доступном знании, когда все стороны информированы и сотрудничают в процессе. Как гипноз, так и медикаментация, к примеру, разместились бы на левом (тайном, бессознательном) краю оси, тогда как совет, сопровождающийся объяснениями, разместился бы близко к правому краю.
Вертикальная ось представляет подразумеваемые средства, посредством которых предполагается осуществить изменение. Эта вторая ось охватывает диапазон, распространяющийся от уменьшающего выбора, или закрытия пространства, наверху до увеличивающего выбора, или открытия пространства, внизу. Например, если человек задумывается о самоубийстве, план блокировать этот выбор через госпитализацию и постоянный надсмотр закроет пространство. На другом конце диапазона, в зоне открытия пространства можно было бы расположить вопросы, которые позволяют человеку, скованному недоверием к себе, увидеть себя в новом свете, что в свою очередь позволяет ему поверить в новые возможности, связанные с работой.
Используя два эти измерения, Томм помечает четыре сектора, которые они образуют (начиная с верхнего левого по часовой стрелке): “манипуляция” (основанная на тайном знании и закрывающем выборе), “конфронтация” (основанная на тайном знании и ограничивающем выборе), “наделение возможностями” (основанное на доступном знании и множественном выборе) и “поддержка” (основанная на профессиональном знании и открывающем выборе). Он оговаривает, что все модели психотерапии включают все эти положения, тогда как опираются на первичное. Он также замечает, что каждое положение располагает терапевта к присущей этому положению форме взаимоотношений.
Томм заинтересован в том, чтобы учреждать себя как терапевта, который в первую очередь устанавливает наделяющие возможностями взаимоотношения, а во вторую — поддерживающие. Он определил для себя три вещи, которые он делает, чтобы поддержать и напомнить себе о своих предпочтениях. Первая — переименовать края вертикальной оси как “терапевтическое насилие” (закрытие пространства) и “терапевтическое милосердие” (открытие пространства), используя данные Матураной определения насилия как “любого навязывания чьей-то воли другому” и любви как “открытия пространства для существования другого”. Поскольку Томм приемлет любовь и отвергает насилие, это переименование позволяет ему действовать так, чтобы это вносило свой вклад в со-зидание возможностей и поддержки.
В Главе 5 мы упомянули то, что Томм называет “вопросами разветвления” — вопросами, которые сопоставляют два противоречащих друг другу понятия, предлагая людям выбрать из них одно. Контрастные названия двух краев оси во многом служат той же цели, направляя эмоциональные реакции в определенном направлении. Томм намеренно выбрал названия, которые были бы привлекательны и отвратительны для него.
Второй метод Томма, применяемый им для этического учреждения себя по отношению к другим, состоит в том, чтобы проверять себя на то, как он видит людей, с которыми работает. Поскольку взгляд на людей как на порабощенных, притесняемых и стесненных (в противоположность, скажем, необразованным, больным или упрямым) помогает ему в выборе обнадеживающих методов, он стремится к тому, чтобы видеть людей именно такими.
В-третьих, выделил четыре направляющие принципа, которые он использует при наделении возможностями себя и других: обоснование (быть чувствительным), рекурсивное мышление (быть внимательным), согласование (быть когруэнтным) и удостоверение подлинности (быть искренним). Каждый из этих принципов — вы могли заметить, что “ние” указывает на степень “действенности” — предполагает определенные действия Томма. Например, обоснование предполагает прослеживание контекстов и обстоятельств других, внимательное выслушивание и доведение мнений до других, но не сохранение их частного характера. Рекурсивное мышление включает выслушивание других и предположение по поводу предположений. Примеры согласования включает определение несоответствия между намерением и результатом, а также предпочтение эмоциональной динамики, что позволяет искать интуитивное соответствие. Удостоверение подлинности включает предпочтение прямых переживаний объяснениям, исполнение своих собственных объяснений и открытость себя для чужого взгляда.
Что особенно привлекает нас в предложенной Томмом схеме этических положений, так это его глубокое описание возможных терапевтических и этических позиций. Он описал конкретные позиции, через которые он хочет учреждать себя по отношению к другим и изобрел язык, который будет поддерживать и напоминать ему о принятии желаемого этического решения в текущий момент. Эта схема обеспечивает характеристики, которые можно использовать в производительном и доброжелательном типе постоянной деконструкции и реконструкции во внутреннем процессе.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ЛЮДЯХ И ТЕРАПИИ
Джеймс и Меллиса Гриффиты (1992a, 1994) предоставили свои описания того, как они обеспечивают участие в терапевтических взаимоотношениях, для которых характерна атмосфера любознательности, открытости и уважения. Их работа (1992а) по этому вопросу была инспирирована опытом обучения клинических психиатров нарративным подходам. Исследуя многочисленные случаи, когда семьи отказывались от терапии после первого интервью, Гриффиты обнаружили, что обучаемые врачи задавали запомнившуюся им последовательность “нарративных вопросов”, как если бы это был стандартный протокол, не проявляя ни малейшего усилия установить контекст, в котором семьи могли бы свободно рассказывать свои истории и быть услышанными. В этом смысле, весьма показательна цитата из высказывания одного из врачей-психиатров из их программы:
Что меня изначально привлекло к супервизии с вашей стороны, это желание установить лучший контакт с моими клиентами, как это удается вам. Но я так сосредоточился на формулировании следующего вопроса, что и ухом не повел, когда отец признался, что ему был поставлен диагноз рака. Это на меня не похоже. (Griffith & Griffith, 1992a, стр. 5)
Размышляя над комментариями подобного рода, Гриффиты решили, что в процессе обучения они не уделяли достаточного внимания взаимоотношениям и эмоциональным состояниям. Чтобы исправить эту ситуацию, они пересмотрели свой курс супервизии таким образом, что первые 10 недель (из 30) посвящались развитию умения в создании терапевтических взаимоотношений, не включая в процесс обучения конкретные вопросы и процедуры до последних недель курса.
В ходе своего курса Гриффиты начали обращать внимание на установки и убеждения, которые приводят к любознательной, открытой и уважительной атмосфере, к которой они стремились в терапевтической беседе. Они напоминают нам о том, что выбираемые нами предположения и язык будут вносить свой вклад в со-зидание эмоциональных состояний в комнате для терапии. В своей статье они (Griffith & Griffith, 1992a, стр. 9) делятся следующими предположениями, которые, по их мнению, представляют ценность:
* “Члены этой семьи и я, как человеческие существа, разделяем больше сходств, нежели различий”.
* “Члены семьи — обычные люди, ведущие обыденную жизнь, которые, к несчастью, столкнулись с необычным и трудным жизненным опытом”.
* “Когда человек или семья с проблемой просит психотерапии, это объясняется тем, что они борются с дилеммой, которая мешает участию в беседе, которая требуется для ее разрешения”.
* “Люди и семьи всегда обладают большим жизненным опытом как ресурсом, чем тот, что может содержаться в доступных нарративах о проблеме”.
* “Люди и члены семьи в своих глубочайших стремлениях не желают причинить вреда себе или другим”.
* “Я не смогу понять смысла языка человека до тех пор, пока мы вместе не обсудим его”.
* “Изменение всегда возможно”.
* “Человек или семья с проблемой желают освободиться от проблемы”.
* “Я не могу знать наверняка, какие действия следует предпринять членам семьи, чтобы проблема была разрешена”.
Подобно решению Карла Томма о том, чтобы видеть людей с проблемами как порабощенных, притесненных и стесненных, эти предположения об индивидах и семьях играют значительную роль в том, как Гриффиты видят людей, которые консультируются с ними, и как они выслушивают истории, которые им рассказывают люди. Вы можете представить себе, как эти предположения влияют на последовательность мгновений выбора, с которой Гриффиты встречаются в ходе своей работы? Насколько эти предположения соответствуют вашим собственным предположениям о людях и проблемах, которые приводят их к терапии?
РОЛЬ СООБЩЕСТВА
До сих пор мы обсуждали этику в рамках того, как различные терапевты учреждают себя во взаимоотношениях с людьми, которые с ними консультируются. Дин Лобовиц и Дженифер Фримен (1993) рассматривают некоторые из более обширных контекстов, которые влияют на учреждение жизни и взаимоотношений в терапии.
Это исследование вытекает из изучения случаев сексуальной эксплуатации со стороны терапевтов. Они начинают его с того, что фокусируются на культурной норме, которая отдает предпочтение личному удовлетворению перед согласованностью. Они полагают, что для обеспечения этических норм в контексте сексуальной эксплуатации терапевты должны воплощать принципы, которые не согласуются с этой нормой. Спрашивая себя, какие процессы утверждают такие принципы, они (1993, стр. 34) находят ответы, которые имеют отношение к опыту принадлежности и подотчетности “сообществам, которые поддерживают наделяющие силой, сотруднические взаимоотношения, а не лишающие силы экспертные взаимоотношения”.
В Главе 9 мы пишем о том, как команды и сообщества могут помочь в развитии и поддержке новых нарративов. Сообщества нарративной терапии *[Участие в сообществах нарративной терапии может принимать различные формы, такие как совместная работа с другими с использованием этих идей, возможно, в команде наблюдателей или в обсуждении терапии; участие в терапии в позиции клиента; участие в семинарах или конференциях, на которых обсуждаются эти идеи; и чтение книг и статей, которые используют нарративные идеи, и включение этих книг, статей или их авторов в свою команду.], как международные, так и местные, начинают играть роль аудитории участников, которая поддерживает в каждом ответственность за те типы самостей и взаимоотношений, который он порождает в другом. Шейла Мак-Нэми (1994, стр. 72) пишет:
Если определенные способы разговора конструируют наши миры, тогда дискурсивные формы, которые возникают и набирают жизненную силу внутри определенных сообществ, конструируют этические стандарты, по которым мы живем.
Нарративные сообщества, как и любые другие сообщества, со временем будут отдавать предпочтение определенным позициям над другими, и, конечно, разные нарративные сообщества будут отдавать предпочтение разным позициям. Вопросы, которые Эпстон и Уайт задают себе, этические позиции Томма и предположения Гриффитов внесли свой вклад в текущие этические дискурсы в “нарративном сообществе”. Книги и статьи, обучение, демонстрации, видеопленки тех, кого объединяют эти идеи, равно как практики и истории, которые циркулируют среди нас, также вносят свой вклад в наделение некоторых дискурсов и этических принципов привилегиями.
Привилегированные этические принципы, в свою очередь, привлекают членов в сообщество. Например, недавно в Ньюзуик (Cowley & Springen) трехстраничная статья о нарративной терапии. Люди звонили со всех концов страны, прося о записи на прием к нарративному терапевту или проявляя интерес к местной программе, в рамках которой они могли бы изучать нарративную терапию. Поначалу это казалось нам удивительным. В конце концов, очень мало можно сказать на трех страницах.
Когда мы начали интервьюировать людей, которые позвонили, мы обнаружили, что их привлекла идея о том, что люди рассматриваются отдельно от проблем. Они рассказывали нам истории о пагубных эффектах смешивания людей с их проблемами в их жизни и в жизни их любимых людей. Было похоже, что они просто изголодались по сообществу, чья этическая позиция состоит в том, чтобы отделять людей от проблем. Когда мы не смогли направить одну женщину на прием, она спросила, не могли бы мы помочь ей в составлении списка вопросов, которые она могла бы задать местным терапевтам. “Может быть, — сказала она, — они занимаются нарративной терапией, не зная об этом”.
Нас очень воодушевляет развитие нарративных сообществ. Тем не менее, то рвение, с которым люди реагируют на эти идеи, также поднимают дилемму: Как предотвратить превращение нарративных сообществ в монолитные движения или культы, которые более не будут отражать ту этику, на которой они построены?
Если нарративные практики воспринимаются как “техники” и используются в рамках мировоззрения, которое не поощряет сотрудничество, открытость и постоянное изучение эффектов своих практик, они могут иметь нежелательные последствия. Жизненно важно, чтобы практики, которые стали частью работы, не применялись вне контекста рефлексивного, деконструкционистского, не-патологизирующего мировоззрения, в рамках которого они были разработаны. Кроме того, мы должны продолжать модифицировать свои практики в соответствии с предпочтениями людей, которые консультируются с нами, и “реальными эффектами” этих практик в их локальных культурах.
ЭТИКА НА ПРАКТИКЕ
В недавнем выпуске вестника Новости различий Двора Саймон (1995) повторяет историю, которую Джей Хейли рассказал на ново-орлеанской конференции, созванной для чествования Джона Уикленда. Хейли сказал, что во время пребывания в Японии его заинтересовало то, что члены семьи кланяются отцу семьи. Он истолковал эти поклоны как выражение уважения и упомянул об этом в разговоре с семьей. Они исправили его, сказав (стр. 3): “О, нет. Мы кланяемся, чтобы практиковать уважение”.
Саймон продолжает, предполагая, что практики, которым она обучилась, не есть предписания, которых следует придерживаться, но способы практикования установок. В свете этого, а также держа в уме, что они все время меняются, мы хотели бы остановиться на некоторых из наших практик.
Само-ориентирование
Когда мы говорим о “само-ориентировании”, мы имеем в виду практику ясного и публичного определения тех аспектов собственного опыта, воображения и намерений (White, 1991), которые, по нашему убеждению, направляют нашу работу. Поступая так, мы вступаем в терапевтические взаимоотношения как подверженные ошибкам человеческие существа, а не как эксперты. Мы представляемся как конкретные люди, которые были сформированы конкретным опытом и подвержены его влиянию. Мы надеемся, что это дает людям представление о том, как бы они могли бы воспринимать то, что мы говорим и делаем.
Описывая эту практику в своей работе с гетеросексуальными парами, Джон Нил (1995, стр. 10) пишет:
... терапевту полезно начинать с некоторого признания своего контекста. В случае гетеросексуальных пар, в частности, важно признание влияния пола терапевта (поскольку его пол может совпадать с полом лишь одного из партнеров). В моем случае, так как я — мужчина, я обычно заявляю, что было бы полезным, если бы мы внимательно отнеслись к тому факту, что, как мужчина, я могу неправильно понять или не заметить какие-то аспекты женского опыта; что я знаю, что “я не знаю”, и попытаюсь почаще сверяться с нею, чтобы выяснять, не “упускаю” ли я какие-то вещи.
Помимо выяснения на первой встрече чего-то о людях вне проблемы, мы обычно спрашиваем, не хотели бы они задать нам какие-нибудь вопросы. Реакции, которые мы получали в ответ на это были самыми противоположными. Некоторые люди отказываются задавать вопросы. Одни спрашивают о нашем обучении и интересуются идеями из области терапии. Другие задают разнообразные вопросы. К двум из наших любимых относятся “Вы верите в Бога?” и “Что вы любите читать?”.
Ориентирование — это постоянный процесс. Представляя новые идеи, мы ориентруем их в отношении своего опыта, одновременно следя за тем, чтобы в беседе не доминировали наши избыточные разговоры о себе. Дэвид Эпстон (White, 1991) ввел термин прозрачность, чтобы обозначить этот процесс деконструкции и ориентирования вклада терапевтов в терапевтический процесс.
В Главе 7 мы описывали, как члены команды наблюдателей ориентируют себя и задают друг другу вопросы, способствуя прозрачности. Кроме того, если позволяют обстоятельства, мы устраиваем пост-сеанс, на который приглашаются команда наблюдателей и члены семьи. В ходе этого сеанса они интервьюируют терапевта, задавая ему вопросы, касающиеся его опыта терапевтического процесса и того, почему он сделал то-то и то-то в ходе предыдущих сеансов. (Прежде чем пригласить членов семьи мы предлагаем им выслушать им ряд вопросов и сориентироваться в их отношении.) В ходе этого процесса мы задаем примерно такие вопросы:
* Что бы вы выделили в этом интервью? Какой смысл несет это для вас как для терапевта?
* В чем состоит ваш опыт работы с этой семьей?
* Ранее в интервью, когда Джон назвал две различных сферы интересов, мне показалось, что вы могли уйти в двух различных направлениях. Как вы решали, какое направление выбрать? Что придало большую важность именно этому направлению?
* (От члена семьи) Вы задавали Сюзи множество вопросов о том, как на нее влияет депрессия. Почему вы не спросили, как она влияет на меня?
* Я бы больше расспросил о той беседе, что произошла между ними во вторник вечером. Вы заметили какую-то подсказку, которая увела вас от этого предмета?
Временами мы проводим подобные встречи, предлагая членам команды наблюдателей деконструировать их комментарии и вопросы. Как отмечает Стивен Мэдиган (1993, стр. 223):
Терапевтическая любознательность, которая направляется лишь на ограничения клиента, публично не признавая ограничения терапевта, увековечивает современные мифы экспертного знания.
Хотя не все заинтересованы в участии в этих беседах, способствующих прозрачности терапевта, те, кто заинтересован в них, обычно находят этот процесс крайне значимым. Один мужчина дал такой комментарий после своего первого пост-сеанса: “Вы, ребята, действительно принялись за это всерьез!”. Мы приняли это как упоминание о том, что Карл Томм называет “согласованием” — стремлением к согласованности намерения и результата. Прозрачность терапевта предлагает нам путь для практикования горизонтальных, сотруднических взаимоотношений (или, по крайней мере, для начального сглаживания иерархии).
Выслушивание и постановка вопросов
В определенный период нашей работы мы стали структурировать интервью, вводя в него специальные, целевые вопросы. Мы обосновывали это тем, что если мы позволим людям просто рассказывать, они погрузятся в свои проблемы, что не принесет пользы. Теперь мы начинаем с деконструктивного выслушивания историй людей (см. Главу 3). Поступая так, мы надеемся получить некоторое понимание локальных культур людей и их конкретных дилемм, в то же время приоткрывая небольшое пространство для проблемно-насыщенных историй. Вместо того, чтобы побуждать их к дальнейшему погружению в проблемы и изоляции в них, мы пытаемся присоединиться к ним в их переживании мира. Что касается нас, это первоначальное выслушивание задает этическую тональность для нашего участия в их борьбе (в случае, если они открыты для взаимоотношений такого рода).
В ходе терапевтического взаимодействия мы стремимся задавать вопросы, а не интерпретировать, инструктировать или осуществлять вмешательства более прямого характера. Мы делаем это по нескольким причинам, имеющим отношение к этике. Во-первых, хотя вопросы не нейтральны, они более открыты, чем заявления. Люди, отвечая на вопросы, имеют выбор, и, если мы искренне выслушиваем и оцениваем ответы людей, их идеи, а не наши, остаются в центре терапии. Пенн и Шейнберг (1991, стр. 32) пишут:
Сопротивление терапевта декларативному языку и его пребывание в режиме постановки вопросов и размышления... служат противовесом присущим языку свойствам, которые представляют реальность, как если бы она была не зависима от нашего процесса ее конструирования.... Эта позиция также защищает терапевта от принятия иерархической позиции и переиначивает идею о терапевте как эксперте.
Очень важно то, как мы воспринимаем ответы на вопросы. В этой работе вызывает интерес и часто восхищение то, что люди дают откровенные ответы, в которых они сообщают о событиях и рассказывают истории, особенно если эти события и истории отражают предпочтительные направления в их жизни. В ходе эволюции нашей собственной работы мы продвинулись от осмысления себя как, в первую очередь, рассказчиков до осмысления себя как членов слушательской аудитории (или временами как соавторов).
По крайней мере два вопроса, которые Эпстон и Уайт предлагают для оценки нашей клинической практики, представляются нам имеющим отношение к этому смещению в вопросе привилегированности рассказчика:
Предлагает ли эта модель/теория/практика людям видеть в терапевте или в самих себе экспертов в области самих себя?
Требует ли она, чтобы человек входил в “экспертное” знание терапевта, или она требует, чтобы терапевт входил в “мир” клиента?
Мы часто задаем вопросы типа “Это то, о чем вы хотели поговорить?” и “Вы не против, если я спрошу об этом?”. Эти и другие вопросы предпочтения (которые мы обсуждаем в Главе 5) призывают людей решить, какие направления, альтернативы и нарративы они предпочитают. Решая это, люди становятся экспертами в области своей собственной жизни и активно приспосабливают терапию к своим желаниям.
Еще одна важная область изучения — это опрашивание о последствиях. Мы регулярно интересуемся последствиями конкретных интервью и терапевтического процесса в целом. Ответы на эти вопросы позволяют нам приспособить свою практику к различным людям в различных ситуациях. Изменение структуры терапии в ответ на предпочтительные для людей последствия демонстрирует, что нашу ответственность за последствия нашей работы. Далее следуют примеры вопросов, которые мы можем задавать, интересуясь последствиями:
* Была ли эта встреча полезной? В чем она была полезной?
* Мне любопытно узнать о влиянии терапии на вашу жизнь. Могли бы вы сказать, какие из этих влияний проявлялись в последнее время? Это были позитивные или негативные влияния?
* Какие мысли и идеи возникали у вас в связи с нашей последней беседой? Как они изменили вашу жизнь? Находите ли вы эти изменения полезными?
Практики ответственности
Проблема, которая “встроена” во взаимоотношения между терапевтами и клиентами, состоит в том, терапевты находятся в привилегилированном положении *[Наш друг не согласен с этим анализом, заявляя, что некоторые люди рассматривают терапевтов в качестве “подсадных уток”, которых можно подстрелить на расстоянии брошенной шляпы. Тогда как такая установка может характеризовать некоторые терапевтические взаимоотношения в течение некоторого времени, последние все еще обычно происходят в пространстве терапевта, в определяемых им временных рамках и в структуре, определяемой терапевтом. Более того, терапевт обычно рассматривается как обладающий компетентностью во взаимоотношениях такого рода, а пациент — как нуждающийся в помощи. Все эти факторы во взаимоотношениях “терапевт-клиент”, как они определяются в западной культуре, предполагают, что терапевт находится в доминирующем положении.] в контексте терапии. В особенности когда мы работаем с людьми из вытесненных культур, положение эксперта неизбежно укрепляет культурное господство (Hall & Greene, 1994). В ходе терапии, когда мы пытаемся деконструировать проблемы и разоблачить культурные дискурсы, которые их поддерживают, мы, безусловно, стремимся избегать воспроизведения того угнетения, которое вносит свой вклад в проблемные нарративы (Kazan, 1994). И все же, как члены доминирующей культуры, мы действительно участвуем в культурном господстве. Кэрмел Тэппинг и ее коллеги (1993, стр. 8) пишут:
Наши секуляризированные концепции душевного здоровья, индивидуализма и идентичности, ядерной структуры и динамики семьи, границ поколений, практик “благополучия” и заботы о детях для людей, чья культура и духовность сильно отличаются от наших, оказаться в высшей степени несправедливыми и зловредными, как дробовики и отравленные колодцы — для наших предков.
Из-за процесса конкретизации, который мы обсуждаем в Главе 2, мы легко упускаем из виду сконструированную природу реальности и предполагаем, что мы разделяем с ними одни реальности. Это предположение закрывает пространство для возможностей других реальностей и способствует установлению господства и угнетения. В процессе терапии, когда мужчина начинает рассказывать о своих взаимоотношениях, и, предполагая что он гетеросексуален, мы спрашиваем о “ней”, или когда, назначая первую встречу, мы, предполагая, что у человека есть автомобиль, объясняем ему, как добираться до нашего офиса на машине, или, разговаривая с гетеросексуальной парой и предполагая, что они женились по любви, мы просим их рассказать о том, что изначально привлекло их друг в друге — во всех этих ситуациях мы формируем терапевтические взаимоотношения в контексте своей собственной культуры, вытесняя другие возможные культуры. Когда мы предполагаем, что реакция людей на наши вопросы являются искренним отражением их опыта, мы, тем самым, предполагаем, что они чувствуют себя свободно, открыто разговаривая с нами. Это может быть и не так.
Существует множество других примеров неверных предположений, которые мы не можем привести, поскольку мы, как члены доминирующей культуры, не знаем о них.
Мы можем реагировать на эти предположения по-разному. Во-первых, мы можем задаться скрупулезным исследованием своей работы и, когда ложность предположения станет явной, перестать применять их в отношении других. Во-вторых, мы можем намеренно поднять вопрос ложных предположений в среде тех людей, которые приходят на встречу с нами, давая им понять, что мы берем на себя ответственность за любое непонимание, которое может произойти. Когда они действительно имеют место, мы можем исследовать ложные предположения, допуская, что они могут быть связаны с нашим привилегированным положением. В-третьих, мы можем выстроить практики, поддерживающие ответственность.
Мы убеждены, что практики ответственности впервые появились в этой области по примеру и воодушевлению со стороны команды Справедливой терапии из Семейного центра в Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия. В своем центре они структурировали свои практики так, чтобы обратить вспять предубеждения против женщин и людей из вытесненных культур (см. Tamasese & Waldegrave, 1993). Чтобы осуществить это, они сформировали закрытые собрания по признаку пола и принадлежности к той или иной культуре. В рамках своего центра они договорились о том, что закрытые собрания людей из подчиненных культур могут инициировать свои встречи каждый раз, когда они испытывают несправедливость на работе, в моделях терапии или на практике. Закрытые собрания людей из доминирующих культур несут ответственность за консультации с другими собраниями по поводу проектов и направлений. Политические решения принимаются только через этот консультационный процесс, и политика не проводится в жизнь до тех пор, пока она не будет одобрена всеми заинтересованными закрытыми собраниями.
Киви Тамасесе и Чарльз Уолдегрейв (1993) отмечают, что через учреждение закрытых собраний индивиды могут быть услышаны как члены коллектива, что может быть жизненно важным для их готовности выговориться в ситуациях, когда они находятся в меньшинстве или обладают низким статусом.
Кристофер Мак-Лин (1994, стр. 2-3) пишет:
[Структуры ответственности] предлагает практический путь вперед. Они начинают с признания центральной роли структурированных различий власти в нашем обществе и разрабатывают средства обращения с ними так, что группы, которые были вытеснены и унижены, могли бы быть услышаны... ответственность... в первую очередь касается обращения с несправедливостью. Она обеспечивает членов доминирующей группы информацией, необходимой для того, чтобы противостоять унижающим практикам, присущим нашей собственной культуре, о которых они могут совершенно не знать.
Когда члены вытесненных групп доводят информацию такого рода до культурно-доминирующих групп, в этом есть доля несправедливости, поскольку они тратят свое время и энергию на обучение людей, которые уже находятся в более привилегилированном положении, чем они. Красота практик ответственности, подобных работе команды Справедливой терапии, состоит в том, что они наделяют привилегиями голоса людей из групп, которые были вытеснены. Этим идеям выделяется больше пространства. Эта практика как таковая служит контр-практикой, сконструированной так, что она ставит практики вытеснения и маргинализации с ног на голову. Когда люди из вытесненных групп принимают участие в практиках ответственности такого рода, они не просто обучают нас; они, кроме этого, участвуют в более справедливом контексте. В этом контексте члены доминирующей культуры берут на себя ответственность за действия в соответствии с той информацией, которую они получают.
Роб Холл (1994) предлагает назвать эти практики, которые так отличаются от иерархических практик, часто ассоциируемых с ответственностью, “партнерской ответственностью”. Он подчеркивает, что добрая воля, включающая приверженность конструированию этических решений, которые способствуют социальной справедливости, критической самооценке и ответственности, является необходимой составляющей партнерской ответственности.
Практики ответственности обращаются к некоторым из тех принципов, которые положены в основу вопросов Эпстона и Уайта, касающихся этики:
* Они собирают людей вместе в рамках сообщества и сотрудничества.
* Они ведут в производительном направлении и поощряют альтернативные социальные практики.
* Они предлагают другую роль тем, чье знание считается экспертным и чей “мир” привилегирован.
В своей собственной работе мы начали применять эти идеи в нескольких направлениях. Мы рассматриваем эту книгу, которая доносит наши идеи до широкой общественности, как составляющую своей ответственности. Показ видеопленок нашей работы и проведение показательных интервью — это тоже практики ответственности, в особенности, когда эти события происходят в контекстах, которые поддерживают открытую и искреннюю критику. Мы использовали гендерные закрытые собрания как способ включения контр-практики в наше обучение и наделения привилегиями голосов женщин.
Структура ответственности, которую мы разработали, стала, вероятно, важнейшим аспектом в терапии с одной парой. Кевин инициировал терапию, поскольку ему стало ясно, что Иветт готовилась покинуть его. Он избивал ее несколько раз, и она больше не желала жить с ним. Она согласилась присоединиться к нему на одну встречу терапии для пар. На этой встрече она дала понять, что, если она убедится, что Кевин никогда больше не тронет ее в порыве агрессии и не будет относится к ней с презрением в других отношениях, она будет заинтересована в сохранении их отношений.
Тем не менее, она весьма ясно дала понять, что ему следует стать человеком, который сможет взять на себя ответственность за насилие. Она желала получить подтверждение того, что вещи изменились, но не хотела быть частью терапии с ним, поскольку была убеждена, что в этом случае проблема будет определена как их совместная, а не проблема Кевина.
Мы совместно выработали соглашение, что я (Дж. Ф) буду встречаться с Кевином индивидуально, что сеансы терапии будут записаны на видеопленки, которые будут доступны для просмотра Иветт. Сначала, из-за озабоченности опасностью и манипуляцией, мы с Иветт просматривали пленки вместе, без Кевина. Ее впечатления от терапии и ее мысли и желания по поводу ее продолжения были первостепенными в моей работе.
Хотя Кевин согласился с этим планом, когда он в первый раз понял, что Иветт действительно просмотрела пленку, в нем возобладал гнев, подсказывая ему резкую манеру поведения в обсуждении со мной вопросов конфиденциальности. Мы воспользовались этим случаем, чтобы деконструировать то, как скрытность и отсутствие ответственности поддерживали насилие во взаимоотношениях.
В ходе продолжения терапии мы деконструировали некоторые из социо-культурных контекстов и установок, которые поддерживали насилие. Кевин назвал последствия насилия и взял на себя ответственность за них, а затем начал ставить себя на место Иветт и понимать, какое опустошение она переживала. *[Подробное описание работы по пробуждению в мужчинах ответственности за агрессивное поведение см. в Alan Jenkins (1990), Invitations to Responsibility: The Therapeutic Engagement for Men Who Are Violent and Abusive.] В этот момент Иветт решила, что Кевин может просматривать записи вместе с ней и услышать ее реакции. В этом смысле, он начал нести перед ней прямую личную ответственность.
Мы продолжали встречаться до тех пор, пока Иветт, основываясь на результатах просмотра работы Кевина, не рассудила, что она готова возобновить их взаимоотношения. Я встретилась с этой парой дважды за месяц, который последовал за их воссоединением. Я разговаривала с Иветт по телефону год спустя. Она сказала мне, что Кевин не ударил ее ни разу и не относился к ней агрессивно, и что изменения в его отношении к ней повлияли на их взаимоотношения так, как она не могла предвидеть. Она сказала, что ощущает себя равноправным партнером с равноправным голосом во взаимоотношениях.
Экстернализующие беседы
Каждый раз, когда мы участвуем в экстернализующей беседе с кем-то, мы практикуем взгляд на этого человека как на существующего отдельно от проблемы. Эта практика оказывает эффект снежного кома. Чтобы выразить вопрос на экстернализующем языке, мы должны рассматривать проблему как различимую и изолированную сущность. Такое восприятие может открыть нам новые области исследования, которые могут заострить наше восприятие проблемы как отдельной от человека сущности. В то же время, мы предлагаем человеку другой взгляд на себя, взгляд, который не затемнен проблемой.
Экстернализующие беседы помогают нам выверять себя по предположению Гриффитов, что члены семьи — обычные люди, ведущие обыденную жизнь, которые, к несчастью, столкнулись с необычным и трудным жизненным опытом.
Когда мы присоединяемся к людям в перцептуальном режиме, который позволяет каждому участнику встречи рассматривать себя отдельно от своей проблемы, мы неизбежно устанавливаем взаимоотношения, отличные от тех, которые возникали бы, если бы мы рассматривали их как проблемных или содержащих проблему людей. Видение проблем и людей как отдельных друг от друга позволяет нам вступить в сотруднические взаимоотношения друг с другом, противостоя проблеме. В этих сотруднических взаимоотношениях мы признаем, что человек и семья в большей степени обладают непосредственным опытом в области проблемы, чем мы. Мы признаем их компетентность *[Мы отмечаем, что у нас тоже есть относящийся к делу опыт и знания в области терапевтических практик, которые мы вносим в это предприятие. Большая часть этой книги посвящена именно этому. Мы находим, что фокусирование на часто непризнаваемой, но жизненно важной роли собственного опыта людей и их компетентности помогает сформировать такие взаимоотношения, в которых мы хотим участвовать.] в этой области и следуем за ними.
Люди, для которых нарративные практики внове, часто сталкиваются с этической дилеммой, касающейся ответственности за экстернализующие беседы. Они задумываются над тем, не заставляет ли людей взгляд на проблемы как отдельные сущности окончательно запутаться. Мы не думаем, что случается именно это. Мы убеждены, что отделение людей от проблем повышает вероятность того, что они будут способны ответственно действовать по отношению к проблеме.
Как подчеркивают Дэвид Эпстон и Сэлльян Рот (в печати), если проблема рассматривается как отдельная от человека, человек находится в позиции, которая позволяет ему видеть свои взаимоотношения с проблемой и видеть возможность сопротивления, протеста или пересмотра этих взаимоотношений. Когда люди видят себя проблемными, они часто ощущают себя беспомощными, неспособными изменить свое положение. Возможно, они могут “контролировать себя”. Тем не менее, когда эта идея доводится до логического завершения, близкого к самоубийству, остается мало пространства для освобождения от проблемы, когда эта проблема — ты сам.
Когда мы рассматриваем себя отдельно от проблем, мы можем взять на себя ответственность за свои взаимоотношения с ними и решить, что делать в их отношении. Большая часть нарративной терапии связана с побуждением людей к описанию предпочтительных отношений с конкретными проблемами и документированию предпочтительных идентичностей, которые они конструируют, будучи отделенными от проблемно-насыщенных самоописаний.
Точно так же, как взгляд на проблему как отделенную от человека открывает людям пространство для признания, оценки и пересмотра своих взаимоотношений с проблемами, эта перцептуальная позиция открывает терапевтам пространство для учета и выяснения более широких социально-политических контекстов и дискурсов, которые поддерживают проблемы. Когда мы задаемся соображениями подобного рода и делаем их частью процесса терапии, наши взгляды на людей и проблемы навсегда меняются.
Например, я (Дж. Ф) в настоящее время встречаюсь с семьей из пяти взрослых человек, которые живут в четырехкомнатной квартире. Хотя справочная информация, основанная на недавней психиатрической госпитализации, фокусируется на Джин, 23-летней дочери, как на “агрессивной, слабо контролирующей свои импульсы и обладающей параноидальным мышлением”, я вижу последствия нищеты, расизма и связанной с ними несправедливости, которые создали контекст, в котором расцвели безнадежность и отчаяние.
Идеализированные образы того, что составляет “успех” в нашем капиталистическом обществе, по контрасту с реальной ситуацией семьи, побудили их интернализировать ощущения неудачи и стыда. Эти ощущения мешали Джин завести друзей или устроиться на работу. В нашей культуре (в особенности, для женщин) большая часть достоинства человека вне рамок финансового успеха связана с его взаимоотношениями. Это означает, что отсутствие друзей и сотрудников усилило у Джин ощущения неудачи и стыда, позволяя отчаянию возобладать в ней.
В локальной культуре Джин, наводненной бандами, насилие проявляется ежедневно как должный ответ на трудности. Когда мы учтем это, мы не удивимся тому, что после увольнения с минимально оплачиваемой работы Джин пришла домой, разгромила квартиру и отхлестала по щекам Марину, свою мать, когда та пыталась остановить ее. Именно этот поступок привел к ее госпитализации и последующему занесению в категорию “агрессивной, слабо контролирующей свои импульсы и обладающей параноидальным мышлением”.
Когда мы назвали проблему “отчаянием” и начали ее деконструировать, Джин решила противостоять ощущению неудачи и стыда и держать ближе к сердцу тех людей и опыт, которые имеют отношение к пониманию. Это помогает ей отказаться от агрессии и сделать шаги, которые, по ее убеждению, сделают ее жизнь более удовлетворительной. Она развивает свои собственные идеи и образы успеха, а не сравнивает себя с образами доминирующего общества.
С наблюдательного пункта текущего нарратива Джин ее описание как “агрессивной, слабо контролирующей свои импульсы и обладающей параноидальным мышлением” кажется несправедливым и даже неэтичным, в особенности когда оно не сопровождается описанием финансовых и внутриличностных сложностей, которые угнетают ее каждодневно и поддерживаются расизмом и классизмом (классовой структурой общества?). Практика интереса к социально-политическому контексту подготавливает нас ко взгляду на людей с проблемами как на порабощенных, притесняемых и стесненных. Этот взгляд, в соответствии со схемой Томма, способствует со-зиданию новых возможностей.
Практики размышления
Практики размышления, в формах описанных нами в Главе 7, представляют собой особенно ясный пример постмодернистской этики в действии. Переход от невидимых, зазеркальных команд к командам наблюдателей основан на этических положениях, которые ценят открытость, прозрачность, разнообразные точки зрения и децентрализацию роли терапевта. Открывая пространство и делясь знанием, команды наблюдателей поддерживают “наделение возможностями”, предпочитаемый Карлом Томмом терапевтический стиль. Гриффиты (1994) напоминают нам, что практика размышлений перед зеркалом, тогда как члены семьи наблюдают и слушают, представляет собой политический акт, цель которого — распределить власть среди всех участников терапии.
В процессе с участием команды наблюдателей мы предлагаем людям оценочно выслушать наши различные понимания их истории и прокомментировать те понимания, которые они находят полезными и подходящими. Это то, что Эпстон назвал бы “контр-практикой” в том смысле, что она ставит распределение ролей при оценке с ног на голову.
Работа команды наблюдателей согласуется с принципами, которые лежат в основе списка вопросов Уайта и Эпстона, приведенного ранее в этой главе:
* Она предлагает людям рассматривать себя как экспертов в области самих себя.
* Она предлагает людям ощущение сообщества и сотрудничества.
* Она требует, чтобы терапевты входили в “мир” клиента.
* Ее идея “профессионализма” имеет отношение к тому, как терапевт представляет себя людям, ищущим поддержки.
Ни что, по сравнению с открытым размышлением, не обладает такой эффективностью в обучении терапевтов мышлению и высказыванию в уважительной и не-патологизирующей манере по отношению к людям, с которыми они работают. Как мы упоминали в Главе 7, при наших первых попытках обсуждать людей, пока они наблюдали и слушали из-за зеркала, мы были почти парализованы, зная о их присутствии. Мы могли почувствовать, что наши привычные способы переговоров за зеркалом не всегда были уважительными в той степени, которой мы хотели бы желать. Это также означает, что наши мысли не были уважительными в полной мере.
Нам хотелось бы думать, что годы работы с командами наблюдателей сформировали наше мышление и манеру разговаривать таким образом, что они отражают более уважительное отношение к людям. Сегодня даже тогда, когда люди, с которыми мы работаем, не присутствуют в данный момент, мы стремимся говорить, мыслить и действовать так, как если бы они были рядом. Для нас это центральная практика в учреждении тех видов взаимоотношений, которые порождают наши предпочтительные стили жизни.
Когда мы предлагаем людям, вовлеченным в процесс терапии, дать свои отклики на терапевтическую встречу (как мы формально делаем в конце ряда встреч с участием команды наблюдателей), мы участвуем как в продолжающемся исследовательском проекте, так и в деконструкции работы и ее последствий. Мы уже коснулись этого под рубрикой “само-ориентация”.
Даже когда мы делаем это с командой, размышления и отклики остаются базовым способом для проверки последствий наших действий. Каждый раз, когда мы интересуемся влиянием какого-то убеждения или значением какого-то действия, мы просим людей оценить какой-то аспект терапевтического процесса и решить, делать ли это убеждение или действие частью их предпочтительного направления в жизни.
Мы убеждены, что полезно через регулярные интервалы времени размышлять над нашим профессиональном развитии и рассмотреть влияние наших текущих убеждений и манеры поведения не только на жизни и взаимоотношения людей, которые консультируются с нами, но также и на наши локальные культуры.
Размышляя над практиками размышления, наибольшее значение мы придаем тому, что меняемся ролями с теми, кто консультируется с нами — находясь перед зеркалом, пока они слушают; находясь за зеркалом, пока они комментируют наши комментарии, выслушивая их отклики и вопросы о нашей работе. Эта смена ролей осуществляется в духе солидарности. Майкл Уайт (1993, стр. 132) пишет:
Я думаю о солидарности, которая конструируется терапевтами, которые отказываются проводить четкие различия между своей жизнью и жизнью других, которые отказываются вытеснять на обочину людей, ищущих помощи; терапевтами. которые готовы постоянно опровергать тот факт, что, столкнувшись с обстоятельствами, создающими пагубный контекст для других, они просто не смогут действовать настолько же добросовестно, как по отношению к себе.
Практики взаимоотношений, которые противостоят иерархии
Когда мы “ориентируем” себя, мы делаем это таким образом, чтобы люди смотрели нас как на обычных людей, а не на записных профессионалов. Когда мы предпочитаем больше выслушивать и задавать вопросы, чем говорить, давать советы или делать заявления, мы снова поддерживаем практики, которые противостоят иерархии, которую подразумевает наше профессиональное положение. Практики размышления и ответственности — это анти-практики, которые намеренно опрокидывают доминирующий дискурс о том, чей голос наиболее важен в терапевтических взаимоотношениях.
Дэвид Эпстон и Майкл Уайт (1992) разработали терапевтическую практику под названием “консультирование ваших консультантов”, которая, по их словам:
... побуждает людей документировать знания, связанные с решением проблем, и альтернативные знания о своей жизни и взаимоотношениях, которые были восстановлены и/или порождены в процессе терапии. (стр. 12)
Знание, которое люди документируют в этом процессе, принадлежит им самим. Будучи задокументированным, это знание становится доступным для использования людьми с похожими проблемами и терапевтами, которые желают поучиться у жизненного опыта других. Когда люди решают, что они в достаточной степени пересмотрели свои взаимоотношения с проблемой и более не нуждаются в терапии, начинается описанный Эпстоном и Уайтом процесс планирования торжества. Как часть этого торжества, их расспрашивают о том знании в преодолении проблем, которого они добились. Это знание документируется в письмах, удостоверениях, видеопленках и прочем и, с надлежащего разрешения, постепенно распространяется среди других людей, борющихся с похожими проблемами.
Когда мы ценим, используем и запускаем в обращение знание, заработанное тяжким трудом людей, которые консультируются с нами, мы участвуем в создании заинтересованных сообществ, в которых мудрость победителей проблем, по крайней мере, настолько же важно, как мудрость терапевтов. (Архивы Анти-анорексийной лиги Новой Зеландии, в частности, хорошо известны как обширное собрание такого знания. *[Архивы включают заметки, письма, художественные работы, пленки, которые были созданы как часть терапевтического процесса, а также документы, записанные со слов людей.]) Мы можем еще больше децентрализовать свою роль в этом процессе, платя за консультации, в ходе которых они делятся с нами своим временем и мудростью, и (с их согласия) публично признавая их источником знания и мудрости.
В том же русле, мы можем принять участие в со-исследовательских проектах вместе с людьми, формально консультируясь с ними по поводу влияния конкретных практик на конкретные проблемы. Я (Дж. К) в настоящее время участвую в проекте с одной женщиной, в ходе которого она оценивает и осмысливает один час видеопленки моей ранней работы с ней в обмен на каждый час консультации со мной в настоящем.
В очень реальном смысле, вся нарративная терапия — это со-исследование. Когда мы внимательно выслушиваем истории людей, мы проводим исследование. Когда мы задаем вопросы смысла и вопросы предпочтения, мы просим людей присоединиться к исследованию. Когда мы даем отклик — с командой или без нее — на уникальное событие, на влияние различных практик, на предпочтительные направления в жизни или на любой другой аспект терапии, мы проводим со-исследование.
Одна из конкретных целей этого со-исследования заключается в оценке этической стороны убеждений, установок и практик, составляющих нашу работу. В свете такой оценки, работа постоянно меняется.
Признание влияния взаимоотношений на нас
В декабре умер наш любимый кот Санчо. Я (Дж. Ф) выросла в семье, где не поощрялись домашние животные, и жить одной жизнью с другим существом — а он был особым существом, котом миролюбия, который мурлыкал, стоило мне только взглянуть на него — стало для меня опытом, который я высоко ценила. Когда Санчо умер, я была опустошена. Величайшим утешением для меня стало очень ясное воспоминание о словах 11-летней Джейн, которая пришла на терапию, потому что при переходе из одной школы в другую ей навязали убеждение в том, что она не сообразительна. Я спросила Джейн, есть ли у нее домашние любимцы, и наткнулась на богатую золотую жилу. Оказалось, что у нее есть Флаффи (кошка), Фред и Тед (две золотые рыбки), Бэббит (кролик) и Расти. Расти, как она рассказала мне, был золотистым ретривером, который умер, когда ей было восемь. “Он все еще мой самый обожаемый любимец. Мы все время говорим о нем. У нас есть его фотографии. А сам он — в моем сердце”. Мудрость этой 11-летней девочки, которая вместе со своей семьей консультировала меня, направляла меня на начальной стадии моей скорби.
Каждый день, когда мы приходим на работу, люди поверяют нам истории о душевной боли, борьбе не на жизнь, а на смерть, и мужестве в противостоянии. Когда тебя не просто впускают в жизнь другого, но приглашают в партнеры в борьбе другого — это большая честь. По мере того, как мы в процессе терапевтической работы пересматриваем роли и взаимоотношения людей, мы обнаруживаем, что их голоса, их боль и их мудрость все глубже проникают в нашу жизнь.
Мы рассказываем людям об их влянии на нас. Когда мы слушаем истории людей, наполненные болью и несправедливостью, мы плачем вместе с ними. А когда они признают, что ненависть к себе или отчаяние — это не они, а интернализованная проблема, мы радуемся. Когда Мэдлин сказала мне дрожащим голосом, что впервые она поняла, что заслуживает права голоса в своей жизни, что интернализированный “голос пытки” больше не определяет ее каждое движение, и что она отпраздновала это в местном ресторане, огромная радость не покидала меня несколько дней. Я чувствую эту радость каждый раз, когда прохожу мимо этого ресторана или освежаю свои воспоминания. Я рассказал Мэдлин о том, что это значило для меня, и наши совместные рассказы превратились в опыт, которые помогает ей бороться с голосом пытки и помогает мне, как терапевту, в создании моей истории. Знать, что мы можем быть в таких командах — это здорово обогащает жизнь и работу, правда.
БИБЛИОГРАФИЯ
Adams-Westcott, J. (1993). Commentary on J. L. Zimmerman & V. C. Dickerson, Bringing forth the restraining influence of pattern in couples therapy). In S. Gillian & R. Price (Eds.), Therapeutic conversations (стр. 215-217). New York: Norton.
Adams-Westcott, J., Combs, G., Dickerson, V., Freedman, J., Neal, J., & Zimmerman, J. (1994, November 3). Narrative therapy and supervision: A postmodern experience. A pre-conference Institute presented at the 52nd Annual Conference of the American Association for Marriage and Family Therapy, Chicago.
Adams-Westcott, J., Dafforn, T., & Sterne, P. (1993). Escaping victim life stories and co-constructing personal agency. In S. Gillian & R. Price (Eds.), Therapeutic conversations (стр. 258-271). New York: Norton.
Adams-Westcott, J., & Isenbart, D. (1995). A journey of change through connection. In S. Friedman (Ed.), The reflecting team in action. New York: Guilford.
Adams-Westcott, J., & Isenbart, D. (в печати). Creating preferred relationships: The politics of “recovery” from child sexual abuse. Journal of Systemic Therapies.
Andersen, T. (1987). The reflection team: Dialogue and metadialogue in clinical work. Family Process, 26, 415-428.
Andersen, T. (1991a). Guidelines for practice. In T. Andersen (Ed.), The reflection team: Dialogues and dialogues about the dialogues. New York: Norton.
Andersen, T. (1991b, May 10-12). Relationship, language, and pre-understanding in the reflecting process. Read at the Houston-Galveston Institute’s Conference, “Narrative and Psychotherapy: New Directions in Theory and Practice for the 21st Century,” Houston.
Andersen T. (1993). See and hear, and be seen and heard. In S. Friedman (Ed.), The new language of change: Constructive collaboration in psychotherapy (стр. 303-322). New York: Guilford.
Anderson, H. (1990). Then and now: A journey from “knowing” to “not knowing.” Contemporary Family Therapy, 12(3), 193-197.
Anderson, H., & Goolishian, H. (1988). Human systems as linguistic systems: Preliminary and evolving ideas about the implications for clinical theory. Family Process, 27, 371-393.
Anderson, H., & Goolishian, H. (1990a). Beyond cybernetics: Comments on Atkinson and Heath’s “Further thoughts on second-order family therapy.” Family Process, 29, 157-163.
Anderson, H., & Goolishian, H. (1990b, November). Changing thoughts on self agency, questions, narrative and therapy. Paper read at the “Reflecting Process, Reflecting Team” Conference, Salzburg, Austria.
Anderson, H., & Goolishian, H. (1991). Supervision as collaborative conversation: Qestions and reflections. In H. Brandau (Ed.), Von der supervision zur systemischen vision. Salzburg: Otto Muller Verlag.
Anderson, H., & Goolishian, H. (1992). The client is the expert: A not-knowing approach to therapy. In S. McNamee & K. J. Gergen (Eds.), Therapy as social construction. Newbury Park, CA: Sage.
Anderson, H., Goolishian, H., Pulliam, G., & Winderman, L. (1986). The Galveston Family Institute: Some personal and historical Perspectives. In D. Efron (Ed.), Journeys: Expansion of the strategic-systemic therapies (стр. 97-122). New York: Bruner/Mazel.
Anderson, H., Goolishian, H., Pulliam, G., & Winderman, L. (1986). Problem-determined systems: Towards transformation in family therapy. Journal of Strategic and Systemic Therapies. 5(4), 1-13.
Anderson, W. T. (1990). Reality isn’t what it used to be: Theatrical politics, ready-to-wear religion, global myths, primitive chic, and other wonders of the postmodern world. San Francisco: Harper & Row.
Auerswald, E. H. (1987). Epistemological confusion in family therapy and research. Family Process, 26(3), 317-330.
Avis, J. M. (1985). The politics of functional family therapy: A feminist critique. Journal of Marital and Family Therapy, 11, 127-138.
Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine.
Bateson, G. (1979). Mind and nature: A necessary unity. New York: Dutton.
Bell, M. S. (1987). The year of scilence. New York: Ticknor & Fields.
Berger, P., & Luckman, T. (1966). The social construction of reality. New York: Doubleday.
Bernstein, A. (1990). Ethical postures that orient one’s clinical decision making. AFTA Newsletter, 41, 13-15.
Bogdan, J. L. (1984). Family organization as an ecology of ideas: An alternative to the reification of family systems. Family Process, 23, 375-388.
Boscolo, L., Cecchin, G., Hoffman, L., & Penn, P. (1987). Milan systemic family therapy: Conversations in theory and practice. New York: Basic Books.
Bourdieu, P. (1988). Homo academicus. Stanford, CA: Stanford University Press.
Bruner, E. M. (1986a). Experience and its expression. In V. W. Turner & E. M. Bruner (Eds.), The anthropology of experience (стр. 3-20). Chicago: University of Illinois Press.
Bruner, E. M. (1986b). Ethnography as narrative. In V. W. Turner & E. M. Bruner (Eds.), The anthropology of experience (стр. 139-155). Chicago: University of Illinois Press.
Bruner, J. (1986). Actual minds/possible worlds. Cambridge: Harvard University Press.
Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge: Harvard University Press.
Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. Critical Inquiry, 18, 1-21.
Burke, K. (1969) A grammar of motives. Berkeley: University of California Press.
Campbell, D., Draper, R., & Huffington, C. (1988). Teaching systemic thinking. London: D. C. Associates.
Carrese, J. A., & Rhodes, L. A. (1955). Western bioethics on the Navajo reservation. Journal of the American Medical Association. 274(10), 826-829.
Carter, E., Papp, P., Silverstein, O., & Walters, M. (1984). Mothers and sons, fathers and daughters. Monograph Series 2(1). Washington: The Women’s Project in Family Therapy.
Cecchin, G. (1987). Hypothesizing, circularity and neutrality revisited: An invitation to curiosity. Family Process, 26, 405-413.
Chang, J., & Phillips, M. (1993). Michael White and Steve de Shazer: New directions in family therapy. In S. Gilligan & R. Price (Eds.), Therapeutic conversations (стр. 95-111). New York: Norton.
Combs, G., & Freedman, J. (1990). Symbol, story, and ceremony: Using metaphor in individual and family therapy. New York: Norton.
Combs, G., & Freedman, J. (1994a). Milton Erickson: Early postmodernist. In J. Zeig (Ed.), Ericksonian methods: The essence of the story (стр. 267-281). New York: Brunner/Mazel.
Combs, G., & Freedman, J. (1994b). Narrative intentions. In M. F. Hoyt (Ed.), Constructive therapies. New York: Guilford.
Cowley, G., & Springen, K. (1995, April 17). Rewriting life stories. Newsweek, 70-74.
Davidson, J., Lax, W., Lussardi, D., Miller, D., & Ratheau, M. (1988). The reflecting team. Family Therapy Networker, 12(5).
Davis, J., & Lax, W. (1991). Introduction of special section: Expanding the reflection position in family therapy. Journal of Strategic and Systemic Therapies, 10(3 & 4), 1-3.
Dell, P. (1980). Researching the family theories of schizophrenia. Family Process, 10, 321-326.
Dell, P. (1985a). Understanding Bateson and Maturana. Journal of Marital and Family Therapy, 11, 1-20.
Dell, P. (1985b). Book review of The invented reality: How do we know what we believe we know? Family Process, 24, 290-294.
Derrida, J. (1988). Limited, inc. Evanston, IL: University of Illinois Press.
de Shazer, S. (1991). Putting difference to work. New York: Norton.
de Shazer, S. (1994). Words were originally magic. New York: Norton.
Dickerson, V. C., & Zimmerman, J. L. (1993). A narrative approach to families witn adolescents. In S. Friedman (Ed.), The new language of change: Constructive collaboration in psychotherapy (стр. 226-250). New York: Guilford.
Dickerson, V. C., & Zimmerman, J. L. (в печати). Myths, misconceptions, and a word or two about politics. Journal of Systemic Therapies.
Doherty, W. J. (1991). Family therapy goes postmodern. Family Therapy Networker, 15(5), 36-42.
Dolan, Y. (1985). A path with a heart: Ericksonian utilization with resistant and chronic clients. New York: Brunner/Mazel.
Durrant, M., & Kowalski, K. (1990). Overcoming the effects of sexual abuse: Developing a self-perception of competence. In M. Durrant & C. White (Eds.), Ideas for therapy with sexual abuse. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
Efran, J. S., & Clarfield, L. E. (1992). Constructionist therapy: Sense and nonsense. In S. McNamee & K. Gergen (Eds.), Therapy as social construction (стр. 200-217). London: Sage.
Elkaim, M. (1985). From general laws to singularities. Family Process, 24, 151-164.
Emerson, R. W. (1830). Journals.
Epston, D. (1989a). Temper tantrum perties: Saving face, losing face, or going off your face. Dulwich Centre Newsletter, autumn, 12-26.
Epston, D. (1989). Collected papers. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
Epston, D. (1991). I am a bear: Discovering discoveries. Family Therapy Studies, 6(1).
Epston, D. (1993a). Internalizing discourses versus externalizing discourses. In S. Gilligan & R. Price (Eds.), Theraupetic conversations (стр. 161-177). New York: Norton.
Epston, D. (1993b). Internalized other questioning with couples: The New Zealand version. In S. Gilligan & R. Price (Eds.), Theraupetic conversations (стр. 183-189). New York: Norton.
Epston, D. (1994). Extending the conversation. Family Therapy Networker, 18(6), 30-37, 62-63.
Epston, D., & Roth, S. (1994). Framework for a White/Epston type interview, Handout.
Epston, D., & Roth, S. (в печати). Consulting the problem about the problematic relationship: An exercise for experiencing a relationship with externalized problem. In M. Hoyt (Ed.), Constructive therapies II: Expanding and building effective practices. New York: Guilford.
Epston, D., & White, M. (1992). Experience, contradiction, narrative, and imagination: Selected papers of David Epston and Michael White, 1989-1991. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
Erickson, M. H. (1965/1980). The use of symptoms as an integral part of hypnotherapy. In E. L. Rossi (Ed.), The collected papers of Milton H. Erickson on hypnosis. IV. Innovative hypnotherapy (стр. 212-223). New York: Irvington.
Erickson, M. H., & Rossi, E. L. (1979). Hypnotherapy: An exploratory case-book. New York: Irvington.
Erickson, M. H., & Rossi, E. L. (1980). The february man: Facilitating new indentity in hypnotherapy. In E. L. Rossi (Ed.), The collected papers of Milton H. Erickson on hypnosis. IV. Innovative hypnotherapy. New York: Irvington.
Erickson, M. H., & Rossi, E. L. (1981). Experiencing hypnosis: Therapeutic approaches to altered states. New York: Irvington.
Erickson, M. H., & Rossi, E. L. (1989). The february man. New York: Brunner/Mazel.
Erickson, M. H., Rossi, E. L., & Rossi, S. I. (1976). Hypnotic realities: The inductions of clinical hypnosis and forms of indirect suggestion. New York: Irvington.
Fleuridas, C., Nelson, T. S., & Rosenthal, D. M. (1986). The evolution of circular questions: Training family therapists. Journal of Marital and Family Therapy, 12(2), 113-127.
Foucault, M. (1965). Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason (R. Howard, Trans.). New York: Random House.
Foucault, M. (1975). The birth of the clinic: An archeology of medical perception (A. M. Sheridan Smith, Trans.). New York: Random House.
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). New York: Pantheon Books.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977. New York: Pantheon Books.
Foucault, M. (1985). The history of sexuality, vol. 2: The use of pleasure (R. Hurley, Trans.). New York: Pantheon Books.
Freedman, J., & Combs, G (1993). Invitations to new stories: Using questions to explore alternative possibilities. In S. Gilligan & R. Price (Eds.), Therapeutic Conversations (стр. 291-303). New York: Norton.
Freedman, J., & Combs, G. (в печати). Gender stories. Journal of Systemic Therapies.
Freeman, J., & Lobovits, D. (1993). The turtle with wings. In S. Friedman (Ed.), The new language of change: Constructive collaboration on psychotherapy. New York: Guilford.
Freeman, J., Lopston, C., & Stacey, K. (1995, March 1-4). Collaboration and possibility: Appreciating the privilege of entering children’s narrative world. Handout from workshop presented at “Narrative Ideas and Therapeutic Practice,” Third International Conference, Vancouver, BC.
Furman, B., & Ahola, T. (1992). Solution talk: Hosting therapeutic conversations. New York: Norton.
Geertz, C. (1978). The interpretation of cultures. New York: Basic Books.
Geertz, C. (1983). Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology. New York: Basic Books.
Geertz, C. (1986). Making experiences, authoring selves. In V. W. Turner & E. M. Bruner (Eds.), The anthropology of experience (стр. 373-380). Chicago: University of Illinois Press.
Gergen, K. (1985). The social constructionist movement in modern psychology. American Psychologist, 40, 266-275.
Gergen, K. (1991a). The saturated self: Dilemmas of identity in contemporary life. New York: Basic Books.
Gergen, K. (1991b). Therapeutic professions and the diffusion of deficit. Journal of Mind and Behavior, 11, 353-368.
Gergen, K. (1992). The postmorden adventure. Family Therapy Networker, Nov./Dec., 52&56-57.
Gilligan, S. (1987). Therapeutic trances: The cooperation principle in Ericksonian hypnotherapy. New York: Brunner/Mazel.
Goldner, V. (1985a). Feminism and family therapy. Family Process, 24, 31-47.
Goldner, V. (1985b). Warning: Family therapy may be dangerous to your health. Family Therapy Networker, 9(6), 18-23.
Goolishian, H. (1990). Therapy as a linguistic system: Hermeneutics, narrative and meaning. The Family Psychologist, 6, 44-45.
Goolishian, H., & Anderson, H. (1981) Including non-blood related persons in family therapy. In A. Gurman (Ed.), Questions and answers in family therapy. New York: Brunner/Mazel
Goolishian, H., & Anderson, H. (1987). Language systems and therapy: An evolving idea. Journal of Psychotherapy, 23(3S), 529-538.
Goolishian, H., & Anderson, H. (1990). Understanding the therapeutic process: From individuals and families to systems in language. In F. Kaslow (Ed.), Voices in family psychology. Newbury Park, CA: Sage.
Griffith, J. L. (1986). Employing the God-family relationship in therapy with religious families. Family Process, 4, 609-618.
Griffith, J. L., & Griffith, M. E. (1992a). Owning one’s epistemological stance in therapy. Dulwich Centre Newsletter, 1, 5-11.
Griffith, J. L., & Griffith, M. E. (1992b). Speaking the unspeakable: Use of the reflecting position in therapies for somatic symptoms. Family Systems Medicine, 10, 41-51.
Griffith, J. L., & Griffith, M. E. (1994). The body speaks: Therapeutic dialogues for mind-body problems. New York: Basic Books.
Griffith, M. E. (1995). On not trampling pearls. AFTA Newsletter, 59(spring), 17-20.
Haley, J. (1963). Strategies of psychotherapy. New York: Grune & Stratton. (Reissued 1990 by Triangle Press, Rockville, MD).
Haley, J. (1973). Uncommon Therapy: The psychiatric techniques of Milton H. Erickson, M. D. New York: Norton.
Haley, J. (1976). Rroblem-solving therapy: New strategies for effective family therapy. San Francisco: Jossey-Bass.
Hall, R. L., & Greene, B. (1994). Cultural competence in feminist family therapy: An ethical mandate. Journal of Feminist Family Therapy, 6(3), 5-28.
Hare-Mustin, R. (1978). A feminist approach to family therapy. Family Process, 17, 181-194.
Hare-Mustin, R. (1994). Discources in the mirrored room: A postmodern analysis of therapy. Family Process, 33, 19-35.
Hoffman, L. (1981). Foundations of family therapy. New York: Basic Books.
Hoffman, L. (1985). Beyond power and control: Toward a “second order” family systems therapy. Family Systems Medicine, 3, 381-396.
Hoffman, L. (1988). A constructivist position for family therapy. The Irish Journal of Psychology, 9, 110-129
Hoffman, L. (1990). Construction realities: An art of lenses. Family Process, 29, 1-12
Hoffman, L. (1991). Foreword. In T. Andersen (Ed.), The reflecting team: Dialogues and dialogues about dialogues (стр. ix-xiv). New York: Norton.
Hoffman, L. (1992). A reflexing stance for family therapy. In McNamee & K. J. Gergen (Eds.), Therapy and social construction (стр. 7-24). London: Sage.
Howard, J. S. (1991). Culture tales: A narrative approach to thinking, cross-cultural psychology, and psychotherapy. American Psychologist, 46(3), 187-197.
Jenkins, A. (1990). Invitations to responsibility: The therapeutic engagement of men who are violent and abusive. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
Kazan, Z. (1994). Power: A multi-dimensional perspective. Dulwich Centre Newsletter, 1, 28-31.
Keeny, B. (1983). The aesthetics of change. New York: Guilford.
Keeny, B., & Sprenkle, D. (1982). Ecosystemic epistemology. Family Process, 21, 1-22.
Kuhn, T. (1970). The structure of scientific revolution. Chicago: University of Chicago Press.
Kvale, S. (Ed.). (1992). Psychology and postmodernism. London: Sage.
Laird, J. (1989). Women and stories: Restorying women’s self-constructions. In M. McGoldrick, C. Anderson, & F. Walsh (Eds.), Women in families: A framework for family therapy (стр. 427-450). New York: Norton.
Laube, J., & Trefz, S. (1994). Group therapy using a narrative theory framework: Application to treatment of depression. Journal of Systemic Therapies, 13(2), 29-37.
Law, I. (1994). A conversation with Kiwi Tamasese and Charles Waldegrave. Dulwich Centre Newsletter, 1, 20-27.
Lax, W. D. (1991). The reflecting team and the initial consultation. In T. Andersen (Ed.), The reflecting team: Dialogues and dialogues about dialogues (стр. 127-144). New York: Norton.
Levin, S., Raser, J., Niles, C., & Reese, A. (1986). Beyond family systems toward problem systems: Some clinical applications. Journal of Strategic and Systemic Therapies, 5(4), 62-69.
Lipchik, E. (1988). Interviewing with a constructive ear. Dulwich Centre Newsletter, winter, 3-7.
Lipchik, E., & de Shazer, S. (1986). The purposeful interview. Journal of Strategic and Systemic Therapies, 5(1), 88-99.
Lobovits, D., & Freeman, J. C. (1993). Toward collaboration and accountability: Alternatives to the dominant discourse for understanding sexual exploitation by professionals. Dulwich Centre Newsletter, 3 & 4, 33-46.
Lobovitz, D., Maisel, R., & Freeman, J. (1995). Public practices: An ethic of circulation. In S. Friedman (Ed.), The reflecting team in action. New York: Guilford.
Lowe, R. (1991). Postmodern themes and therapeutic practices: Notes towards the definition of “family therapy”: Part 2. Dulwich Centre Newsletter, 3, 41-52.
Madanes, C. (1981). Strategic Family Therapy. San Francisco: Jossey-Bass.
Madanes, C. (1984). Behind the one-way mirror: Advances in the practice of strategic therapy. San Francisco: Jossey-Bass.
Madigan, S. (1991). Discursive restraints in therapist practice: Situating therapist questions in the presence of the family. Dulwich Centre Newsletter, 3, 13-20.
Madigan, S. P. (1993). Questions about questions: Situating the therapist’s curiosity in front of the family. In S. Gilligan & R. Price (Eds.), Therapeutic conversations (стр. 219-230). New York: Norton.
Madigan, S. (1994). Body politics. Family Therapy Networker, 18(6), 27.
Madigan, S. (в печати). Undermining the problem in the privatization of problems in persons: Considering the socio-political and cultural context in the externalizing of internalized problem conversations. Journal of Systemic Therapies.
Madigan, S., & Epston, D. (1995). From “spy-chiatric gaze” to communities of concern: From professional monologue to dialogue. In S. Friedman (Ed.), The reflecting team in action. New York: Guilford.
Madigan, S., & Law, I. (1992). Discourse not language: The shift from a modernist view of language to the postmodern analysis of discourse in family therapy. Dulwich Centre Newsletter, 1, 31-36.
Mair, M. (1988). Psychology as storytelling. International Journal of Personal Construct Psychology, 1, 125-137.
Maisel, R. (1994). Engaging men in re-evaluation of practices and definitions of masculinity. Paper presented at “Narrative Ideas and Therapeutic Practice,” Third International Conference. Vancouver, BC.
Maturana, H., & Varela, F. (1980). Autopoesis and cognition: The realization of living. Boston: D. Reidel.
Maturana, H., & Varela, F. (1987) The tree of knowledge: The biological roots of human understanding. Boston: Shambhala.
McLean, C. (1994). Editorial. Dulwich Centre Newsletter, 2 & 3, 2-5.
McNamee, S. (1994). Research as relationally situated activity: Ethical implications. In M. Snyder (Ed.), Ethical issues in feminist family therapy (стр. 69-83). New York: Haworth.
Myerhoff, B. (1986). “Life not death in Venice”: Its second life. In V. W. Turner & E. M. Bruner (Eds.), The anthropology of experience (стр. 261-286). Chicago: University of Illinois Press.
Minuchin, S. (1991). The seductions of constructivism, Family Therapy Networker, 15(5), 47-50.
Morrison, T. (1992). Playing in the dark: Whiteness and the literary imagination. Cambridge: Harvard University Press.
Neal, J. H. (1995). Gender and men in narrative couples therapy. Presented in “Narrative Ideas and Therapeutic Practice,” Third International Conference, Vancouver, BC.
Neal, J. H. (в печати). Consultation and training from a narrative perspective. Journal of Systemic Therapies.
Nylund, D., & Thomas, J. (1994). The economics of narrative. Family Therapy Networker, 18(6), 38-39.
O’Hanlon, B. (1994). The third wave. Family Therapy Networker, 18(6), 18-26, 28-29.
O’Hanlon, W., & Weiner-Davis, M. (1989). In search of solutions: A new direction for family therapy. New York: Norton.
O’Hara, M. (1995). Constructing emancipatory realities. In W. T. Anderson (Ed.), The truth about the truth: De-confusing and re-constructing the postmodern world. New York: G. P. Putnam.
Pare, D. A. (1995). Of families and other cultures: The shifting paradigm of family therapy. Family Process, 34, 1-19.
Parry, A. (1991). A universe of stories. Family Process, 30, 37-54.
Pearson, L. (1965). Introduction. In L. Pearson (Ed.), Written communications in psychotherapy (стр. xi-xii). Springfield, IL: Charles C. Thomas.
Penn, P. (1982). Circular questioning. Family Process, 21, 267-280.
Penn, P. (1985). Feed-forward: Future questions, future maps. Family Process, 24, 299-310.
Penn, P., & Frankfurt, M. (1994). Creating a participant text: Writing, multiple voices, narrative multiplicity. Family Process, 33, 217-31.
Penn, P., & Sheinberg, M. (1991). Stories and conversations, Journal of Strategic and Systemic Therapies, 10(3&4), 30-37.
Rambo, A. H., Heath, A., & Chenail, R. J. (1993). Practicing therapy: Exercises for growing therapists. New York: Norton.
Reiss, D. (1985). Commentary: The social construction of reality-the passion within us all. Family Process, 24, 254-257.
Roberts, J. (1994). Tales and transformations: Stories in families and family therapy. New York: Norton.
Rorty, R. (1989). Contingency, irony, and solidarity. New York: Cambridge University Press.
Rorty, R. (1991a). Objectivity, relativism, and truth: Philosophical papers, vol. 1. New York: Cambridge University Press.
Rorty, R. (1991b). Essays on Heidegger and others: Philosophical papers, vol. 2. New York: Cambridge University Press.
Rosaldo, R. (1986). Ilongot hunting as story and experience. In V. Turner & E. Bruner (Eds.), The anthropology of experience. Chicago: University of Chicago Press.
Rosen, S. (1982). My voice with go with you: The teaching tales of Milton H. Erickson. New York: Norton.
Rosenblatt, P. C. (1994). Metaphors of family systems theory: Toward new constructions. New York: Guilford.
Rossi, E. L. (Ed.). (1980a). The collected papers of Milton H. Erickson on hypnosis. I. The nature of hypnosis and suggestion. New York: Irvington.
Rossi, E. L. (Ed.). (1980b). The collected papers of Milton H. Erickson on hypnosis. IV. Innovative hypnotherapy. New York: Irvington.
Roth, S., & Epston, D. (в печати). Developing externalizing conversations: An introductory exercise. Journal of Systemic Therapies.
Roth, S., & Chasin, R. (1994). Entering one another’s worlds of meaning and imagination: Dramatic enactment and narrative couple therapy. In M. F. Hoyt (Ed.), Constructive therapies (стр. 189-216). New York: Guilford.
Salinger, J. D. (1955/61). Franny and Zooey. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, Ltd.
Schmidt, G., & Trenkle, B. (1985). An integration of Ericksonian techniques with concepts of family therapy. In J. Zeig (Ed.), Ericksonian psychotherapy, vol. II: Clinical applications (стр. 132-154). New York: Brunner/Mazel.
Schultz, A. (1962). Collected parers, vol. 1: The problem of social reality (M. Natanson, Ed.). Nijhoff: The Hague.
Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G., (1978). Paradox and counterparadox. New York: Aronson.
Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G., (1980). Hypothesizing-circularity-neutrality: Three guidelines for the conductor of the session. Family Process, 19, 3-12.
Shilts, L. G., & Ray, W. A. (1991). Therapeutic letters: Pacing with the system. Journal of Strategic and Systemic Therapies, 10(3 & 4), 92-99.
Simon, D. (1995). Doing therapy as a spiritual path. News of the Difference, IV(1), 1-5.
Taggart, M. (1985). The feminist critique in epistemological perspective: Questions of context in family therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 11, 113-126.
Tamasese, K., & Waldegrave, C. (1993). Cultural and gender accountability in the “Just Therapy” approach. Journal of Feminist Family Therapy, 5(2), 29-45.
Tapping, C. et al. (1993). Other wisdoms other worlds: Colonisation and family therapy. Dulwich Centre Newsletter, 1, 3-40.
Tomm, K. (1987a). Interventive interviewing: Part I. Strategizing as a fourth guideline for the therapist. Family Process, 26, 3-13.
Tomm, K. (1987b). Interventive interviewing: Part II. Reflexive questioning as a means to enable self-healing. Family Process, 26, 167-183.
Tomm, K. (1988). Interventive interviewing: Part III. Intending to ask lineal, circular, strategic, or reflexive questions? Family Process, 27, 1-15.
Tomm, K. (1989). Externalizing the problem and internalizing personal agency. Journal of Strategic and Systemic Therapy, 8(1), 54-59.
Tomm, K. (1993). The courage to protest: A commentary on Michael White’s work. In S. Gilligan & R. Price (Eds.), Therapeutic Conversations (стр. 62-80). New York: Norton.
Turner, V. (1986). Dewey, Dilthey, and drama: An essay in the anthropology of experience. In V. Turner & Bruner (Eds.), The anthropology of experience (стр. 33-44). Chicago: University of Illinois Press.
von Foerster, H. (1981). Observing systems. Seaside, CA: Intersystems Publications.
von Glasersfeld, E. (1987). The construction of knowledge. Salinas, CA: Intersystems Publications.
Wagner, V., Weeks, G., & L’Abate, L. (1980). Enrichment and written messages with couples. American Journal of Family Therapy, 8, 36-44.
Waldegrave, C. T. (1990). Just Therapy. Dulwich Centre Newsletter, 1, 5-46.
Wangberg F. (1991). Self reflection: Turning the mirror inward. Journal of Strategic and Systemic Therapies, 10(3&4), 18-29.
Watzlawick, P. (Ed.). (1984). The invented reality. New York: Norton.
Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1974). Change: Principles of problem formation and problem resolution. New York: Norton.
Weingarten, K. (1991). The discourses of intimacy: Adding a social constructionist and feminist view. Family Process, 30, 285-305.
Weingarten, K. (1992). A consideration of intimate and non-intimate interactions in therapy. Family Process, 31, 45-49.
White, M. (1986a). Family escape from trouble. Case Studies, 1, 1.
White, M. (1986b). Negative explanation, restraint and double description: A template for family therapy. Family Process, 25, 169-184.
White, M. (1987). Family therapy and schizophrenia: Addressing the “in-the-corner” lifestyle. Dulwich Centre Newsletter, spring, 14-21.
White, M. (1988a). The process of questioning: A therapy of literary merit? Dulwich Centre Newsletter, winter, 8-14.
White, M. (1988b). Saying hullo again: The incorporation of the lost relationship in the resolution of grief. Dulwich Centre Newsletter, spring, 7-11.
White, M. (1988/9). The externalizing of the problem and the re-authoring of lives and relationships. Dulwich Centre Newsletter, summer, 3-20.
White, M. (1989). Selected papers. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
White, M. (1991). Deconstruction and therapy. Dulwich Centre Newsletter, 3, 21-40.
White, M. (1993). Commentary: The histories of the present. In S. Gilligan & R. Price (Eds.), Therapeutic conversations (стр. 121-135). New York: Norton.
White, M. (1995). Re-authoring lives: Interviews and essays. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: Norton.
Wiener, N. (1950). The human use of human beings. New York: Avon Books.
Wilcoxon, A., & Fenell, D. (1983). Engaging the non-attending spouse in marital therapy through the use of therpist-initiated written communication. Journal of Marital and Family Therapy, 12, 191-193.
Winch, P. (1958). The idea of a social science and its relation to philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.
Wojcik, J., & Iverson, E. (1989). Therapeutic letters: The power of the printed word. Journal of Strategic and Systemic Therapies, 8(2 & 3), 77-81.
Wood, D., & Uhl, N. (1988). Postsession letters: Reverberations in the family treatment system. Journal of Strategic and Systemic Therapies, 7(3), 35-52.
Zeig, J. (1980). A teaching seminar with Milton H. Erickson, M. D. New York: Brunner/Mazel.
Zeig, J. (1985). Experiencing Erickson: An introduction to the man and his work. New York: Brunner/Mazel.
Zimmerman, J. L., & Dickerson, V. C. (1993). Bringing forth the restraining influence of pattern in couples therapy. In S. Gilligan & R. Price (Eds.), Therapeutic conversations (стр. 197-214). New York: Norton.
Zimmerman, J. L., & Dickerson, V. C. (1994a). Using a narrative metaphor: Implications for theory and clinical practice. Family Process, 33, 233-246.
Zimmerman, J. L., & Dickerson, V. C. (1994b). Tales of the body thief: Externalizing and deconstructing eating problems. In M. F. Hoyt (Ed.), Constructive therapies (стр. 295-318). New York: Guilford.
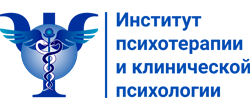

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству




 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
