Библиотека » Общий подход в психотерапии и коррекции » Нейла, Книскерна ред. За пределами психики. Терапевтическое путешествие Карла Витакера
Автор книги: Нейла, Книскерна
Книга: Нейла, Книскерна ред. За пределами психики. Терапевтическое путешествие Карла Витакера
Нейла, Книскерна - Нейла, Книскерна ред. За пределами психики. Терапевтическое путешествие Карла Витакера читать книгу онлайн
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПСИХИКИ
Терапевтическое путешествие Карла Витакера
Под редакцией Джона Р. Нейла и Дэвида П. Книскерна
Перевод с английского М.И. Завалова
FROM PSYCHE TO SYSTEM
The Evolving of Carl Whitaker
Edited by John R. Neil and David P. Kniskern
Москва
Независимая фирма “Класс”
1999
УДК 615.851.6
ББК 53.57
В 54
В 54 За пределами психики: Терапевтическое путешествие Карла Витакера/Под ред. Дж.Р. Нейла и Д.П. Книскерна/Пер. с англ. М.И. Завалова. — М.: Независимая фирма “Класс”, 1999. — 400 с. — (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 71).
ISBN 5-86375-119-3 (РФ)
Настоящее издание представляет избранные работы Карла Витакера, одного из самых выдающихся семейных терапевтов нашего времени. Работы распределены по четырем главным темам: природа психотерапии; подготовка и рост профессионала; структура отношений в браке и терапия пар; структура и терапия семейной системы. Тексты сопровождаются подробными комментариями, объясняющими важнейшие концепции Витакера.
Читатель погружается в причудливый мир образов, метафор, теорий, необычных техник. Этот удивительный мастер работал с семьями всю свою долгую жизнь и считал семью главным приключением человеческого пути. Книга написана остро, парадоксально, порой жестко. Ее прочтут “залпом” не только специалисты — психологи, врачи, педагоги, но и все, кому важно понять собственную семейную жизнь.
Главный редактор и издатель серии Л.М. Кроль
Научный консультант серии Е.Л. Михайлова
ISBN 0-89862-050-3 (USA)
ISBN 5-86375-119-3 (РФ)
© 1982, The Guilford Press
© 1999, Независимая фирма “Класс”, издание, оформление
© 1999, М.И. Завалов, перевод на русский язык
© 1999, Е.Л. Михайлова, предисловие
© 1999, В.Э. Королев, обложка
www.kroll.igisp.ru
Купи книгу “У КРОЛЯ”
Исключительное право публикации на русском языке принадлежит издательству “Независимая фирма “Класс”. Выпуск произведения или его фрагментов без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.
ОДА ВОЙЛОЧНЫМ ТАПОЧКАМ
И иронический склад их души уже давно позволял не придавать значения потушлагбаумным надеждам...
Булат Окуджава.
“Путешествие дилетантов”
Просто поразительно, какие разные люди прочли и оценили “Полночные размышления семейного терапевта”* Карла Витакера: седой психиатр, усомнившийся в абсолютной верности того, чему его учили тридцать лет назад, — и молодая психологиня, “обдумывающая житье”; изысканный дизайнер, весь в коже и серебре, любитель медитативных техник и фотомоделей — и немногословный владелец охранного агентства, переживающий обострение язвы и недавний тяжкий развод; дама неопределенных занятий, сменившая трех психотерапевтов и продолжающая “искать себя”, — и преданная мать четверых детей, которой пока что вообще не до себя; менеджер по персоналу, учительница, даже экстрасенс один случился, не говоря уж о парикмахерах и стоматологах. Читают сами, дают знакомым, подбрасывают родителям и спутникам жизни. Как сказал один из таких неожиданных читателей (кажется, бизнесмен): “Книжка, четкая по жизни”.
Ту, которая сейчас перед вами, ожидает иная судьба. Она отличается от “Полночных размышлений” примерно так, как музей-квартира известного человека — от его же рабочего кабинета при жизни владельца. В музейной комнате вы не увидите милого сердцу беспорядка, в котором может сориентироваться лишь его создатель, заблудившихся или случайных предметов (выкинуть жалко, подарить некому), изгрызенных карандашей, кошачьей шерсти в самых неподходящих местах... Смотритель проследит и за войлочными тапочками, и за тем, чтобы посетители все поняли правильно.
Эта книга, особенно в сравнении с предыдущей, отражает неизбежный процесс “музеефикации” одного из самых непригодных для этого классиков нашей профессии, никогда не бывшего правильным, предсказуемым и чинным. По ней можно готовиться к экзамену — если вдруг предположить, что “наследие К. Витакера” когда-нибудь войдет в экзаменационные билеты здесь, у нас. Она безусловно хороша, даже превосходна: помимо собственных текстов Витакера, совершенно нам неизвестных, есть еще прекрасные комментарии. Поистине, “музей-квартира” обустраивалась руками помнящих и понимающих. Эта упорядоченность — просто дар Божий для тех, кому “Витакер без комментариев” показался слишком стихийным, острым или безумным. Книга отчетливо, внятно вписана в довольно-таки бурную историю психотерапии последних пятидесяти лет, перекличку идей и подходов.
И, кстати, столь же внятно — хотя и невольно — обозначает различия между профессиональным поколением “первопроходцев” (вроде Витакера, Мэя, Эриксона, Роджерса, Сатир и других) и их наследниками. Последним как-то не пришлось ни шокировать коллег, ни годами работать в изоляции, ни двигаться ощупью в темноте. Их больше заботило приведение в порядок “наследства”, придание ему товарного вида, организация колоссальных конгрессов, где можно даже посмотреть на нескольких еще живущих “первопроходцев”, каждое слово которых фиксируется и издается. В общем, как сказал совсем по другому поводу полузабытый советский поэт, “окончилась жизнь — началась распродажа”.
И это тоже жизнь: психотерапия, ставшая на Западе достаточно массовой профессией, должна заботиться о “расфасовке” не меньше, чем о содержании, обеспечивать воспроизводимость, контроль за качеством и прочая. Профессиональная контркультура стала частью культуры, бунтари, дожившие до признания, — почетными академиками; юродивые канонизированы, а сегодняшние пятидесятилетние президенты профессиональных ассоциаций деловиты и респектабельны, что твои банкиры.
Российским же психотерапевтам по-прежнему суждено мучительно объясняться по поводу предмета и задач своей работы, сетовать на отсутствие четких профессиональных стандартов и непросвещенность клиентов, для которых и сегодня что не “иголки”, то “гипноз”. К тому же, наша непростая профессиональная жизнь развивается в аристотелевском “единстве места, времени и действия” и определяется отнюдь не одними тенденциями мирового процесса... Новизна и острота ощущений гарантированы нам настолько, что любимый витакеровский тезис “бытие есть становление” не кажется таким уж парадоксальным. И даже самым матерым и активным из нас не грозит прижизненное зачисление в классики — по крайней мере, так кажется сегодня. Так что войлочными тапками при посещении музея другой психотерапии нас, пожалуй, не испугать.
Может быть, эта книга — отличный повод оценить уникальность момента нашей профессиональной жизни, когда мы существуем и работаем в каком-то переходном пространстве между наивностью и искушенностью, творческой отсебятиной и заучиванием назубок классических текстов, нарушением правил от полного незнакомства с ними и созданием собственных. Закончив эту книгу, перечитайте “Полночные размышления семейного терапевта”. Великолепный стереоскопический эффект.
Екатерина Михайлова
Нашим родителям
ВВЕДЕНИЕ
Представлять избранные работы Карла — это одновременно и большая ответственность, и удовольствие, и вызов. Последние двадцать лет я пытался объяснить Карлу смысл его терапии, уверяя, что, несмотря на все его иконоборческие заявления, у него есть своя хорошо разработанная теория; его техники — не только вспышка подлинного спонтанного творчества, но и нечто, поддающееся описанию, предсказуемое, а, следовательно, их можно изучать и преподавать. Много раз я принимался объяснять ему, как он работает в терапии и как добивается изменения даже в самых неподдающихся системах. И все без толку. Карл всегда благодушно относился к моему стремлению найти объяснение и всегда рассказывал какую-нибудь сказку — не по делу, но забавную, про своего дальнего родственника, близкого пациента или студента. Уютный тон речей якобы простого деревенского парня одурачивал меня. Я комкал свои объяснения, но не терял надежды на достижение успеха в следующий раз. Приглашение Карла написать предисловие к настоящей книге доказывает, что я говорил достаточно убедительно. Но однажды со мной произошла забавная вещь. Я стал глубже понимать и уважать работу Карла и потерял желание ее объяснять.
Данная книга прекрасно все объясняет сама. Стоит войти в нее, и попадаешь на выставку работ мастера. Вы оказываетесь на ретроспективной выставке работ Карла Витакера в Музее Гугенхейма в Нью-Йорке: образы, метафоры, теории, техники, исследования, эксперименты, тупики и надежды, развешанные на стенах овального зала. Наверху, откуда начинается осмотр, — ранние вещи Витакера. Пристально вглядевшись, можно различить за его словами образы и краски старинных мастеров — Адольфа Мейера, Ранка, Адлера, Эйнхорна, Юнга, Салливана и, конечно, Фрейда. Спускаясь к работам сороковых годов, начинаешь различать центральную тему всех его трудов: терапевт и пациент, слившиеся в едином танце, танце роста. Его книга, написанная совместно с Мелоном, “The Roots of Psychotherapy” (“Корни психотерапии”, 1953), почти на два десятилетия опережает новые идеи, связанные с темами переноса и контрпереноса и появившиеся в психоанализе в семидесятых.
То и дело мы, осматривая работы, в изумлении останавливаемся, узнавая в ранних концепциях знакомые черты, которые будут повторяться позже, в другом ракурсе, обогащенные опытом жизни Витакера. Публикация 1957 года “Общение с пациентом без психотических нарушений во время короткой психотерапии” говорит о техниках непрямого общения, об иррациональности терапевта и пациента, о терапевте как о модели свободы, о близости между терапевтом и пациентом. Все эти образы снова возникают в крупной работе 1962 года “Техники первой стадии психотерапии, основанной на личностном опыте, при работе с хроническими шизофрениками” и в последней статье, написанной в 1981 году — “Семейная терапия: символический подход, основанный на личностном опыте”*. Они рассеяны во многих других работах. Интересна сама ретроспектива: мы видим, как растут идеи. Находясь в центре галереи, мы, оглянувшись назад, увидим зарождение и создание определенной техники, а затем можем представить себе, во что это разовьется дальше.
Для человека, столь решительно протестующего против теории и техники, который мог бы повторить саркастическое высказывание В. С. Филда: “Этой стране нужна хорошая доза антитеории”, Витакер удивительно последователен в своей философии человека, в концепциях терапии и роста — человека, пары или семьи — в использовании терапевтических техник. На самом деле в этой книге описано удивительно много техник и методов. Она может служить для тех, кто учится, нитью Ариадны, помогая расшифровывать таинственную алогичность Карла.
Я должен предупредить читателя: Витакер научился языку непоследовательности, это его ответ на абсурдность жизни. Если кто-то настаивает на том, что реальность, как он ее себе представляет, — единственно возможная, Карл задает невообразимый вопрос, предлагает абсурдный ответ, произносит неприличную шутку или засыпает.
Мне, увлеченному мыслью о ретроспективе работ Витакера, кажется правильным, что издатели добавили историческую перспективу к настоящей книге. Последние 40 лет Карл сопровождал и порою вел науку психического здоровья в ее блужданиях. Почему техника кормления из бутылочки появилась в Атланте в тот момент, когда все интересовались оральными проблемами, а техника борьбы руками — тогда, когда фокус переместился на интерес к агрессии? Предшествовала ли практика нескольких терапевтов, работающих с одним пациентом, ко-терапии, или наоборот? Началось ли все это в Атланте, а потом распространилось повсеместно? Оказали ли влияние идеи Витакера о близости терапевта и пациента на более поздние исследования психодинамики переноса и контрпереноса?
Теперь, в конце предисловия, я могу забыть о своей первоначальной скованности и поделиться с читателем собственными впечатлениями от терапии Карла. Работа Витакера поражает многообразием его вмешательств. Он шутит, намекает, соблазняет, возмущается, пользуется первичным процессом, скучает и даже засыпает. И все это мощные инструменты контакта и вызов, брошенный пациенту. Он редко спорит о смысле слов, но так же редко принимает их всерьез. Любое цельное предложение он разбивает на кусочки, как Джеймс Джойс; Витакер переворачивает словарь жизни. Угощает ассоциациями из своей жизни, рассказывает о своем брате, о том, что сказала по этому поводу другая семья, шутит: “Если бы Бог ушел на пенсию, я бы...” При всей кажущейся небрежности его вмешательства служат одной цели: поставить под сомнение тот смысл, который люди приписывают конкретным событиям.
Витакер молчаливо подразумевает, что подобный вызов, некоторая доза сомнения способствуют творчеству членов семьи и семейного целого. Из мешанины переживаний выстраиваются новые взаимоотношения в семье.
Витакер всегда разрушает устойчивые формы. Когда двое из семьи начинают диалог, Витакер вскоре задает вопрос кому-то третьему. Вопрос, лишь косвенно связанный — или совсем не связанный — с их беседой. Содержание разговоров расширяется, появляются такие общечеловеческие проблемы, которые люди признают неохотно: ярость, желание убить, сексуальность, параноидные страхи, инцест. И обо всем этом говорится походя, как бы случайно, среди банальных общих слов. К концу терапии каждый почувствует, что его коснулось разрушительное колдовство Витакера. Каждый ощутит, что ему бросили вызов, его не поняли, не приняли, отвергли, ударили. Но человек обязательно соприкоснется с какой-то малознакомой частью своей души.
В этой книге отражены сорок лет жизни мастера. В ней можно проследить развитие его экзистенциальной теории и простоту его сложных техник. Работы мастера показывают, чего он стоит.
Сальвадор Минухин
ПРЕДИСЛОВИЕ
Карл Витакер получил диплом врача в 1936 году в Сиракузском университете. В те времена психиатрия преимущественно занималась вопросами помещения людей с серьезными психическими нарушениями в специальные заведения.
Психотерапия тогда была тождественна психоанализу, и занимались ею немногие. Витакер в своем профессиональном росте переходит от работы с детьми к терапии шизофрении, потом — к совместной работе группы пациентов и, наконец, к системной работе с семьей. И в каждой области он прокладывал новые пути, часто не получавшие признания. Его работа была и остается вечно молодой и живой, она отражает его стремление к профессиональному росту.
Кроме того, Витакеру всегда была свойственна обезоруживающая прямота — и в статьях, и в работе с людьми. Благодаря искренности Витакера мы можем проследить развитие его идей и увидеть, как на них влияли другие. Среди его учителей Фред Аллен, Барбара Бетц, Гарри Стак Салливан, Фрида Фромм-Райхман. И есть другие, чье влияние Витакер никогда не приуменьшал: его жена, Мюриэл Витакер, и Том Мелон, Джон Воркентин, Ричард Фелдер — три члена Группы из Атланты.
Хотя Витакер и писал статьи обо всем, чем занимался, он, как и Альфред Адлер или Гарри Стак Салливан, никогда не создавал своей системы. Подобно им, он чаще всего передавал свои взгляды при помощи примера или в разговорах. Поэтому во многом развитие идей Витакера зависит от работ и воспоминаний его учеников и коллег. А сами работы Витакера стоит бережно хранить: они понадобятся новым психотерапевтам.
Но, разумеется, сам Витакер отнюдь не склонен утверждать, что его работы надо отдать в музей, что его статьи и идеи уже превратились в классику, что они вообще представляют собой некое законченное изделие. Скорее, по его мнению, эти работы отражают путь его личности и стадии развития психотерапии вообще.
Можно сказать, что работы Витакера важны для нас по трем причинам. Во-первых, его мысли о нормальном развитии семьи, о семейной терапии, о подготовке будущих психотерапевтов, основанные на непосредственном опыте, вполне приложимы к практике. Тем более что Витакер предпочитает быть конкретным и, насколько возможно, избегает метапсихологии, если не видит ее приложения к терапевтической ситуации. Этому вполне соответствует и убеждение Витакера в том, что ненормальность есть разновидность нормы. “Психопатология” — не что-то странное и чужеродное: ее порождают те же самые механизмы, что работают и на “нормальность”. Во-вторых, работы Витакера показывают перемену взгляда на психические расстройства: от глубин психики точка зрения перемещается в межличностное пространство, и затем в картине возникает система семьи. Это движение отражает исторический путь психиатрии в целом, и его можно проследить на работах Витакера. И, наконец, мы убеждаемся в его вере в свое творчество и в неведомые терапевтические возможности человека, остающиеся “за пределами научного объяснения и технических подходов”. Они все еще нуждаются в более глубоком понимании.
Мы распределили работы Витакера по четырем главным темам: (1) природа психотерапии; (2) подготовка и рост профессионального терапевта; (3) структура отношений в браке и терапия пар; (4) структура и терапия семейной системы. Каждая тема сопровождается нашими комментариями, объясняющими его важнейшие концепции.
Мы также написали “интеллектуальную биографию”, которая поможет читателю лучше ориентироваться в работах Витакера. Часть VI (“Коллекция”) служит “приправой” к остальным статьям и позволит читателю “попробовать на вкус стиль Витакера. Это хорошее чтение для “погружения”.
Наконец, мы советуем после части I продолжать пользоваться нашими введениями к другим разделам книги. Это поможет установить перспективу постепенного раскрытия и развертывания идей Витакера.
Джон Р. Нейл
Дэвид П. Книскерн
Часть I
БИОГРАФИЯ
Введение в терапию Карла Витакера
Джон Р. Нейл
Карл Витакер работает в области психотерапии вот уже сорок лет. И эти годы интересуют нас с двух точек зрения: исторической и педагогической. Рост и перемены в жизни Витакера как бы задают направление развитию психотерапии в целом с 1938 по 1978 год. Взаимоотношения между этими двумя линиями развития — его личной линией и линией культуры — довольно тонкие и двусторонние. Отчасти это введение и было написано для того, чтобы показать их крупным планом.
Работа Витакера всегда поучительна. Идеи, технические наблюдения, касающиеся природы психотерапии, обучение студентов, индивидуальная, супружеская и семейная терапия — все это очень живое и интересное. Его мысли отражают жизнь, их нельзя вывести из какой-то школы или системы. Это — знак одаренности.
Карл Алансон Витакер родился в 1912 году на большой молочной ферме около Реймондвиля в штате Нью-Йорк. Там господствовало однообразие тяжелой работы и бремя кальвинистской религиозной традиции с ее акцентом на спасение через добрые дела. Эта атмосфера не позволяла открыто выражать близость. Не доставало мальчику и друзей вне семьи. Тем не менее мать Витакера, раньше мечтавшая стать медсестрой, открыла двери их огромного дома большому потоку “пациентов”: они поселялись здесь на какое-то время, чтобы не так сильно страдать от своего одиночества. Витакер вспоминает, как влиял на него цикл времен года, а также многочисленные проявления жизни и смерти, говорящие о неизбежности изменения.
Для застенчивого и чувствительного, больного астмой мальчугана переезд семьи в пыльный город в то время, когда он учился в старших классах, стал настоящим шоком. Витакер с болью почувствовал, насколько он заперт в своем собственном мире. Он находился на грани нервного срыва. Чем-то этот период его жизни напоминает аналогичные переживания Гарри Стака Салливана, тоже воспитывавшегося в “слишком религиозной” среде штата Нью-Йорк. Но есть два важных отличия. Первое — эмоциональный климат семьи. В семье Салливана царили холод, отчуждение и взаимные обвинения1. В этой католической среде почти не оставалось надежды на избавление как от страданий на земле, так и от вечного осуждения. Салливан стал — и таким остался позже — изолированным, робким пессимистом. Для Витакера, выросшего в кальвинистской традиции, путем к избавлению казался труд: он мог строить сам себя. Витакер вырвался из скорлупы одиночества и заставил себя подружиться: “Я выбрал одного парня, выдающегося своим умом, и другого, социально самого уважаемого, и создал из нас троих союз, который просуществовал до окончания учебы в колледже, пока я не стал студентом-медиком. Я как будто создал команду ко-терапевтов, чтобы вырваться из своего одиночества”. Тут уже видно, как переплетаются корни человека и психотерапевта Витакера. Те же темы — прорыв к росту, исцеляющие отношения, изоляция — снова и снова появляются позднее. Как все это отличается от фатализма и мрачного пессимизма Салливана!
Обучаясь медицине в Сиракузах (1933—1936), Витакер решил специализироваться по акушерству и гинекологии, но после двух лет работы в Городском госпитале Нью-Йорка захотел побольше узнать о психологической стороне своей специальности, что по тому времени было достаточно необычно, и последний год стажировался в психиатрической больнице в Сиракузах.
В те времена американская психиатрия под влиянием Адольфа Мейера только начинала выходить из ограничительных рамок девятнадцатого века. Но, игнорируя идеи Мейера о процессе и реакции, многие профессионалы считали, что расстройства нервной системы, особенно психозы, возникают вследствие неизвестных повреждений головного мозга или интоксикации неясного происхождения. Это был мир Крепелина и Крафта-Эбинга, мир описаний и объективности, крайне враждебный ко всяким психодинамическим теориям. За исключением назначений трипарсамида и использования искусственного повышения температуры для лечения параличей, возможности терапии больных казались крайне унылыми. Витакер был поражен тем, что мог наблюдать, и начал интересоваться вопросом: “Откуда это? Действительно ли психозы необратимы?” Он сочувствовал пациентам и приходил в отчаяние от официальной установки, выраженной в коротком определении: “Неизлечим”.
В 1940 Витакер был принят в интернатуру по детской психиатрии. Интернатура поддерживалась Фондом здоровья. А на короткое время в ожидании занятий он вместе со своей женой Мюриэл переехал в маленький частный психиатрический приют в Кенандайгва, штат Нью-Йорк, где работал врачом. Это место тоже было как бы в ином веке, но в прошлом, в восемнадцатом. Там все еще применялось “нравственное лечение”. Семь месяцев Витакеры жили внутри этого закрытого общества вместе с несколькими психотиками. В больнице в Сиракузах считали, что пациенты — это лишь любопытное зрелище. Здесь, в приюте, Витакер начал понимать, что они сражаются за свою жизнь. Для него, человека чуткого, это было очень важным опытом. Он, благодаря своему загадочному бесстрашию, иногда проводил много часов с кем-нибудь из пациентов, страдающих психозом, общаясь с ними с таким же интересом, с каким исследовал сам себя. В этих страдающих людях, одиноких и перегруженных яркой внутренней реальностью, он распознавал себя и чувствовал свое призвание в том, чтобы помочь им.
В это время он закончил свою диссертацию по психологии. Она называлась “Без психоза — изучение хронического алкоголизма” и была завершена весною 1941 года. Нельзя назвать эту работу образцовым исследованием, но заключение отражает его мысли в то время.
“Нельзя ли предположить, что полное воздержание от алкоголя не должно служить конечной целью лечения алкоголизма? Может быть, его настоящая причина кроется в недостатке эмоциональной зрелости и интеграции? На наш взгляд, изучение алкоголизма посредством применения такого всеобъемлющего, психобиологического подхода может открывать те данные, которые невозможно получить с помощью биохимических, физиологических или статистических исследований, ориентированных на объективный эксперимент. Клиническое приближение к пониманию должно стремиться не к изолированному изучению отдельных факторов, считающихся единственной причиной патологии, но к созданию точной картины всего поля (то есть цельного жизненного пространства) и к детальному изучению серии событий, предшествовавших появлению алкоголизма”2.
Тут чувствуется облагораживающее влияние Адольфа Мейера: больные — это тоже люди с их человеческими реакциями на жизненные события. И еще можно проследить идею о том, что психопатология есть следствие дезинтегрированности или незрелости. Тут уже скорее чувствуется сам Витакер, чем Мейер.
Весной 1940 года Витакер с женой переезжает в Луисвиль и начинает в клинике обучаться детской психиатрии. Он также преподает в медицинском институте, и это ему нравится. С. Спеффорд Эйкерли, его начальник в то время, хотя и проходил психоанализ, но развивал идеи Адольфа Мейера: акцент на психосоциальном параллелизме, типологию реакций, стремление к цельной картине происходящего. А клиника детской психиатрии испытала на себе влияние Отто Ранка, поскольку старший социальный работник был когда-то его пациентом. Работа в клинике, а также в Ормсбай Вилидж, где находился интернат для лечения подростков-правонарушителей, часто ставила Витакера в тупик в его поисках подходящей психотерапевтической техники, как это было раньше с шизофрениками в Кенандайгва.
Похоже, что работы Ранка повлияли на развитие мыслей Витакера, когда он пытался понять, почему пациент сопротивляется терапии и изменению. Ранк открыл, что терапевт более эффективен тогда, когда уклоняется от участия в борьбе двух стремлений, свойственной процессу психотерапии, и принимает пациента таким, каков он есть. Он писал:
“Очевидно, что конструктивная психотерапия для взрослого человека ни в коем случае не сводится к тому или иному роду воспитания или образования, основанного на любви или страхе, а должна быть чем-то иным для взрослого человека, которого уже нельзя “растить”, но можно только понять, то есть принять таким, каков он есть. Совершенное понимание [тут Ранк пишет о психоанализе Фрейда — прим. автора] есть в то же время и обвинение самого себя... Понимание другого основывается на процессе идентификации, присущей любви; посему в понимании аналитика мы видим феномен идентификации, доказательство той любви, которую прежде всего и ищет пациент”3.
В другом месте Ранк замечает: “Опыт нас, тем не менее, учит: как терапевт может лечить только по-своему, так и пациент выздоравливает тоже по-своему”4. Терапевт, согласно Ранку, должен выступать как “помощник”, как “вспомогательное лицо”, наконец, как “друг” пациента. Пациент активен; терапевт следует за движением его роста. Ранк также говорил о динамическом напряжении, присущем жизни каждого человека, о напряжении между волей к соединению с другими и волей к индивидуации, к отделению от другого. Отделение и единение составляли фокус терапии Ранка.
Витакер своей жизнью утверждает мысль Ранка о том, что терапевт — это творец. Творец в триптихе Ранка, посвященном классификации типов личности, создает свои собственные стандарты изнутри себя. Он отличается от невротика, подчинившего свою волю воле группы, и от асоциального психопата, чья воля всегда нарушает волю группы.
Другая идея Ранка, повлиявшая на Витакера, — это разграничение между правдой и реальностью, то есть между психологической достоверностью и социальным мнением большинства. Сначала надо принять первое, а потом уже можно думать о том, надо ли принимать второе.
“Потому что на самом деле есть только одна терапия — реальная жизнь. Пациент должен научиться жить со своею нецельностью, со своими конфликтами, своей амбивалентностью. От них не сможет избавить никакая терапия. Если бы это произошло, человек лишился бы настоящего источника своей жизни... Если бы он только мог научиться жить с неизбежным, с тем неизбежным, которое внутри него, не вовне, тогда он смог бы принимать реальность такой, какова она есть. Это не унылое и пассивное приятие, а скорее активное и конструктивное усвоение”5.
Ранк фокусировал свою терапию на “здесь и теперь”, поскольку “неразрядившиеся накопленные травматические переживания не сданы вытеснением на хранение в бессознательное, а продолжают действовать в настоящий момент жизни... Именно в данный момент жизни или терапии присутствует не только настоящее, но и все прошлое целиком, и только здесь и сейчас может происходить психологическое понимание или терапевтическое действие”6.
Параллели между настоящим моментом и символической жизнью проводил также Дэвид Леви (изучавший юнгианскую психологию) в своей работе с детьми. Он утверждал, что “глубокий” символический, или примитивный, уровень сосуществует вместе с более “сознательным” содержанием и доступен для терапевтического исследования. Идеи Витакера о мотивации и деятельности человека ведут свое начало от Ранка и Леви. У другого психоаналитика, Огуста Эйхорна, он берет терапевтическую тактику.
Он заимствует у Эйхорна его представление о позиции власти терапевта. Эйхорн, сам бывший “почти что” асоциальным психопатом (как Витакер — “почти что” шизофреником), работал так:
“Проницательный ум Эйхорна начинал работать уже в самые первые моменты встречи, в эти важнейшие моменты, когда устанавливаются основы для взаимоотношений. Необыкновенно внимательный ко всем мелочам в поведении пациента, Эйхорн умел избегать двух крайностей: излишней мягкости и излишней суровости. Суровость оттолкнет робкого человека, мягкость будет воспринята как признак слабости. Постоянно поддерживая это тонкое равновесие, Эйхорн создает впечатление, что он союзник, и в то же время — что он обладает властью. Он не разговаривал о проблемном поведении; живо чувствуя, что сейчас происходит в ребенке, он говорил о том, что интересует мальчиков и девочек: о любимом футболисте, о киноактерах, о сказках или о приключениях”7.
Эйхорн считал, что терапевт должен быть посредником между двумя мирами: миром асоциального правонарушителя и миром общества. И в Ормсбай Вилидж Витакер открыл, что это лучше получается тогда, когда существует разделение функций между “терапевтом” и “полисменом”. “Полисменом” (мамашей) был тот, кто отвечал за административные решения в доме, за наказания и так далее. Терапевт, свободный от роли “ключника”, благодаря этому может создавать “нереальное переживание”, необходимое для взросления, — то экзистенциальное путешествие во вневременное сейчас, описанное Леви и Ранком. Позже такое разделение ролей администратора и терапевта стало стандартной практикой в терапевтической среде.
Тем не менее, Эйхорн являлся приверженцем эпигенетической модели развития, поэтому его техникой в терапии было постепенное, слой за слоем, продвижение вглубь: установление нарциссического переноса, обнаружение и разрешение инфантильного невроза. Идеи Витакера есть синтез стратегий Ранка и техник Эйхорна. В терапии он делает ударение на интеграции (на воссоединении отдельных частей), а не на “обнаружении и проработке”.
“Философия терапии этого психиатра такова: терапевтические отношения независимы от других отношений. Они не требуют ни исторической подоплеки, ни понимания происхождения патологии, даже не нуждаются в понимании психодинамики во время терапии, а единственно — в понимании процесса помощи человеку в его взрослении... Создается впечатление, что такие гипотезы, в настоящее время атакуемые с разных сторон, или выдержат проверку на практике, или будут опровергнуты при суровом испытании”8.
“Суровым испытанием” был опыт лечения антисоциальных подростков в Ормсбай Вилидж, ситуация “принудительной психотерапии”, где Витакер пытался применять эти принципы и установки. Опыт оказался достаточно удачным, так что он мог продолжаться при некотором энтузиазме работающего там персонала. Витакера заинтересовали вопросы структурирования терапевтического процесса. Кроме идеи о разделении функций для создания “нереального” пространства терапии (и более поздней мысли о том, что терапия происходит в пациенте), он утверждает следующие положения:
1. Цель терапии — интеграция личности; надо отличать интеграцию от взросления, которое является социальным проявлением интеграции.
2. Интеграция — это задача терапевта. Обучение взрослению — задача социального работника, консультирующего психолога или приемного родителя. Обучение и переживание — две разные модальности познания себя и окружающего мира.
3. Всякая терапия “принудительна”: к ней прибегают или под давлением симптомов, или под давлением возмущенной социальной группы.
4. Преодолеть сопротивление изменению помогает участие личности терапевта: “Восприятие страдания терапевта из-за стремления пациента установить взаимоотношения лишь на вербальном уровне, возможно, является сутью процесса помощи... [так же, как и восприятие того, что] отвержение действительно причиняет терапевту страдание”9.
Витакер пытался быть скорее “ассистентом”, чем фигурой переноса, проводя четкие границы посредством разделения функций.
К концу работы в Ормсбай Вилидж он перемещает фокус своего внимания от структуры терапии к роли чувств и личности терапевта в процессе терапии. Подобные размышления оказались первым шагом в его идее о “профессиональном терапевте” как о человеке, чей рост связан с его работой. Это перекликается и с его поисками самого себя. Витакер интересуется условиями прохождения психоанализа в нескольких крупных городах, но в конце концов начинает ходить к психотерапевту, живущему неподалеку. Его очень занимает вопрос, как найти в себе жесткость, не отказываясь от нежности. Он видел много проявлений жесткости в студентах-медиках, которых учил, но не мог отыскать ее в себе. Возможно, жесткость воспринималась им как эгоизм и противоречила его религиозному воспитанию. Тогда Витакер начал понимать, что и терапевт, и пациент оба что-то получают от терапии в ответ на свои нужды.
Когда Америка вступила во Вторую мировую войну, Витакер начал работать в группе Эрика Кларка в сверхсекретном институте в Окридже, где занимались атомной бомбой. В своих мемуарах Кларк так вспоминает о работе психиатров в институте:
“Как я писал раньше, сфера ответственности психиатрической службы не была четко определена, и потому нам приходилось заниматься многими вещами, выходящими за рамки чистой психиатрии. Это можно назвать проблемами психической гигиены. Никто из нас не мог не поделиться с другими, когда что-то случалось, и часто наши предложения возвращали нам с краткой сопроводительной запиской, в которой предлагалось заняться этим вопросом и уточнить его. Это требовало такого же большого напряжения даже от наших неопытных сотрудников, как поездка на велосипеде с ветхими шинами. Возникает прокол, ты его заклеиваешь и ждешь, когда шина спустит в следующий раз”10.
Напряженный рабочий день позволял уделять лишь по полчаса каждому из двенадцати пациентов, которых надо было принять ежедневно. Витакер вспоминает, что стиль терапии являлся достаточно недирективным, с длинными, как у квакеров, периодами молчания, помогающими пациенту говорить. Вдобавок к этому, психиатры отвечали за маленький стационар на десять мест, где основной терапией служили групповые собрания с участием персонала.
В Ормсбай Вилидж Витакер, как терапевт трудных подростков, почувствовал в себе конфликт между лояльностью по отношению к ним и лояльностью по отношению к обществу. В каком-то смысле то же самое происходило и в Окридже. Должен ли терапевт, подобно полицейскому, игнорировать детские нужды пациентов, или должен принимать их и стараться удовлетворять? Витакер больше склонялся ко второму. К счастью, Эрик Кларк оказался достаточно сильным начальником и мог ограждать от нападок “контркультурные” поступки своих терапевтов. Под такой защитой Витакер развивал в себе нежную сторону своего “Я” и учился глубокой заботе о пациенте.
Он пришел к убеждению, что у психотиков регрессия должна предшествовать интеграции и терапевт должен быть “мамой”, то есть всемогущим, все отдающим, принимающим любое поведение пациента человеком. Это ярким образом продемонстрировал один пациент с манией, который, войдя в кабинет Витакера, схватил бутылочку с молоком, оставленную предыдущим пациентом — ребенком, и стал жадно ее сосать. На какой-то период этот человек вел себя во время кормления почти как младенец. А затем постепенно стал “взрослеть”.
Очевидно, что пациенту помогает то, что терапевт принимает его искусственно вызванную регрессию и участвует в ней. Бутылочка — конкретный символ такого приятия. И регрессию надо действительно пережить, а не просто поговорить о ней. Это коррективное эмоциональное переживание, которое надо интегрировать в жизнь, чтобы оно не стало просто разрядкой, не потерялось. По этой причине индуцированная регрессия в гипнозе или при наркосинтезе нередко не приводит к росту. Тогда казалось, что главная задача терапии состоит в том, чтобы помочь пациенту регрессировать. Многие годы спустя Витакер понял, что параллельно боролся и с собой: может ли он сам принять свое детское “Я”, свое “безумие”? И мы опять видим, как переплетаются его профессиональный и человеческий рост.
Именно в Окридже Витакер открыл ценность и важность близких отношений с коллегами. Тут он повстречал Джона Воркентина, ставшего его спутником и ко-терапевтом на двадцать последующих лет. Они прекрасно дополняли друг друга — интуитивный и экспрессивный Витакер и методичный, организованный Джон Воркентин. Попавший в Окридж после занятий медициной и психологией и работы в области детской терапии, Воркентин был, как и Витакер, человеком, направляемым изнутри. Детство обоих коллег прошло под сильным и репрессирующим влиянием религиозности. Обоих волновала проблема близости — личной и профессиональной. Их отношения как бы давали разрешение на исследование этого вопроса, иначе Витакер мог бы думать, что его поиски являются просто-напросто проекция его “личной психопатологии”.
Профессиональная дружба также выросла между Витакером и Томасом Мелоном. Мелон учился в Дьюке, интересовался теорией психоанализа и сам проходил анализ. По темпераменту он был человек, несколько отрешенный и склонный анализировать факты, — полная противоположность Витакера. Его способность формулировать концепции или прилагать общие законы к конкретным случаям дополняла клинический, ориентированный на конкретные вещи ум Витакера. У этих троих коллег — Витакера, Воркентина и Мелона — образовался очень тесный творческий союз. Результатом его стали две книги: “The Roots of Psychotherapy” (1953)11 и “Psychotherapy of Chronic Schizophrenic Patients” (1958)12 и множество статей. Это была очень органичная группа. Витакер составлял ее “сердце”, Мелон — “мозги”, а Воркентин — “волю”. За годы, проведенные вместе, они стали более схожи между собой, каждый из них развивал свои нераскрытые способности.
В 1946 году Витакеру, которому тогда было тридцать четыре, предложили возглавить факультет психиатрии в Университете Эмори, штат Атланта. И он согласился занять это место, поскольку оно давало возможность обучать студентов, что он делал по своей необычной программе, как миссионер-проповедник. Каждый студент был обязан пройти 200-часовой курс психотерапии, в том числе в течение двух лет участвовать в групповой терапии вместе с другими студентами. На поздних стадиях такая группа работала как терапевт для одного пациента. По замыслу Витакера, студенту надо побыть среди пациентов, пообщаться с пациентами, пока у будущих врачей не образуется мощная “броня характера”, свойственная медикам, броня, защищающая их от чужих страданий. Но реакция студентов на подобный подход была неоднозначной, нередко отрицательной.
Витакер вскоре понял, что возлагал на эту работу слишком большие надежды. Усиливалось политическое давление извне, обещанные деньги — на программу для стажеров и на стационар для психиатрических пациентов — оказались иллюзией. Витакер выступил в роли защитника студентов в треугольнике напряженных отношений между студентами и администрацией. В 1954 году он вместе со своими коллегами уволился из Эмори, и они организовали частную психиатрическую клинику Атланты.
Все эти обстоятельства заставили Витакера острее почувствовать необходимость четкого разделения роли терапевта и администратора — как в терапевтической работе, так и при обучении. “Жаркие” чувства, возникающие при обучении или терапии, совершенно несовместимы с выполнением “холодных” административных задач. Так что уход Витакера из Эмори — нечто большее, чем просто зигзаг карьеры. Он ставил крест на одном из путей самоактуализации — на работе администратора. Больше Витакер никогда не будет пробовать изменить что-либо путем администрирования или политических маневров. Будто бы подозрительность деревенского парня, предполагающего, что в городе одни жулики, оправдалась. В дилемме “человек или группа” Витакер выбирает человека. Он все больше убеждается в том, что стремление человека к росту и изменению всегда встречает сопротивление со стороны общества, семейных правил, поскольку порождает в окружающих тревогу. И поскольку терапевт стоит на стороне пациента, психотерапия является “антисоциальной”. Так что терапевт не может служить двум господам, он должен выбирать.
В период работы Витакера в Эмори среди психиатров появились новые надежды на то, что при шизофрении возможно применять психотерапию и даже лечить ее таким способом. Шли горячие споры о техниках терапии, большей частью чисто схоластические13. Группа сотрудников, работавших вместе с Витакером, тоже интересовалась терапией шизофрении. Еще в начале пятидесятых они работали вместе с Джоном Розеном, который позже создал метод прямого анализа.
Первая статья, написанная Розеном в 1946 году14, рассказывала о драматическом использовании психоаналитической интерпретации для установления контакта с шизофреником, находящимся в состоянии кататонии. Тем, кто видел работу Розена, его теория прямого анализа, появившаяся позднее, казалась карточным домиком спекуляций, не имеющим отношения к его терапевтической практике15. Как и Розен, группа Витакера считала, что крайне важно установить контакт с регрессировавшим шизофреником с помощью активных техник, в том числе и с помощью физического соприкосновения. Как и Розен, они понимали, что терапевт для такой работы должен быть свободен от страха или злости, ему следует стремиться идентифицироваться с шизофреником и его состоянием.
Но взгляды этих двух групп расходились по вопросу о природе симптомов шизофрении. Розен считал, что патология есть патология: признаки шизофрении обнаруживают незрелость, безумие, глупость, и надо их атаковать, чтобы “переломить хребет психоза”. Группа Витакера видела эти симптомы в позитивном свете. Они считали их признаком здоровья, попыткой шизофреника выжить, его заботой о себе и о своей семье, творческой попыткой разрешить мучительные межличностные проблемы. Нельзя атаковать пациентов, стыдить их или дразнить. Создается впечатление, что работы Розена скорее вдохновляли Витакера на эксперименты, чем влияли на его воззрения. Пример Розена помогал Витакеру и его группе продолжать разрабатывать свой путь психотерапии шизофреников, совершенно тогда необычный.
Идеи о том, что любая психопатология показывает стремление организма к выздоровлению, в то время занимала умы также и в связи с работами Мелани Кляйн, английской исследовательницы психоаналитической ориентации. Кроме веры во врожденное стремление к росту, Мелани Кляйн в своей работе с детьми считала важным установить контакт с бессознательными фантазиями пациента, для чего пользовалась символическим (связанным с первичным процессом) языком и действиями16. Особый акцент Кляйн на межличностной основе внутрипсихического конфликта и на использовании пациентом проективной идентификации для решения конфликтов также повлиял на работу группы из Атланты.
Если любая психопатология показывает стремление организма к исцелению, значит, симптомы — это признаки задержки роста. Далее, если рост приостановился из-за неприятных переживаний, новые переживания могут вывести пациента из этого тупика: “Терапия на данной стадии включает в себя символическое разрушение терапевтом интроецированного образа матери. Терапия не просто замещает связь с фантастическим образом символической “матери”, но реконструирует патологическую привязанность... Мы должны развить в себе биологическую реакцию на пациента, не менее сильную, чем реакция его матери в первые недели жизни, у которой сжимается утроба, когда она слышит плач ребенка”17.
Члены группы обменивались своим опытом, для этого было создано много терапевтических структур. Как правило, на вторую встречу с пациентом (из первых трех, целью которых становилась оценка положения пациента и терапии) приходил консультант, один из членов группы. Кто-то брал на себя роль “администратора”, кто-то — терапевта. Нередко два терапевта одновременно работали вместе с одним пациентом. Происходили также еженедельные встречи, где всей группе представляли новых пациентов. Чувство близости, борьба с общими трудностями позволяли каждому терапевту выслушивать, как другие яростно критикуют его работу18.
Витакер и Мелон постепенно всерьез заинтересовались “корнями” психотерапии: тем, какова природа этого процесса, как в нем участвует терапевт и как — пациент. В течение двух лет они собирались трижды в неделю для работы над книгой и делились своими идеями, строили схемы, а потом писали текст, который далее опять перерабатывался и редактировался. В результате этой совместной работы в 1953 году вышла книга под названием “The Roots of Psychotherapy” (“Корни психотерапии”).
Книгу начинает довольно-таки боевой манифест, проводящий различие между психотерапией и психиатрией: первая есть культурная роль, а вторая — чистая наука. Авторы утверждают, что исследования процесса психотерапии, то есть попытка свести его к чистой науке и технологии, вредят процессу и в каком-то смысле даже аморальны. Исследование вторгается на священную территорию терапевтических взаимоотношений и мешает терапевту быть цельным. Если терапевт становится исследователем, то он как бы служит двум господам и начинает думать о своем пациенте одновременно как о субъекте и как об объекте.
В дальнейших главах определяются психологические законы энергетики, передачи энергии, принципы поля, адаптации и процесса энтелехического роста. Патология есть остановка процесса роста, процесса, в котором “организм расширяет свои способности и реализует свои возможности”. При шизофрении происходит “такое действие восстановительных процессов, которое вредит организму в целом”, действие, во многом аналогичное аллергической реакции при сверхчувствительности иммунной системы. Рост можно катализировать с помощью терапии. Критериями роста, который является целью любой терапии, не становятся ни большая адекватность или адаптация, ни исчезновение симптомов. Скорее, “чем больше работает бессознательное, чем больше оно участвует в цельном функционировании, тем адекватнее человек действует на личностном и социальном уровнях, тем больше способен он удовлетворять свои нужды”. Бессознательное рассматривается как источник целостности, оно больше похоже на творческое бессознательное Юнга, чем на бурлящий темный котел, который описывает Фрейд.
Как же достигается рост в процессе психотерапии?
“Может быть, лучше сделать акцент на синтезе и интеграции, чем на анализе и инсайте. То, что терапевт или пациент понимают генетическое происхождение проблемы, играет намного меньшую роль, чем развитие у пациента способности быть целостным человеком, интегрированным внутри себя и в своей культуре. Этот синтез достигается посредством переживания, а не понимания [курсив наш]. Не так важно, понимает он или нет, что его неспособность выражать агрессию по отношению к родительским фигурам связана с инфантильными страхами и виной. А вот момент, когда он переживает агрессию к какой-то родительской фигуре, пускай даже и не понимая, что происходит, очень ценен, если он может выражать агрессию, не чувствуя при этом вины или что его отвергнут. Вот в чем разница между анализом и синтезом, между переживанием и инсайтом”19.
Итак, активность терапевта (который “подталкивает к росту”), фокус на переживании, а не на понимании, движение к интеграции (зрелости), а не к адаптации (или социальной адекватности) — вот признаки настоящей психотерапии. Остальные главы книги посвящены стадиям и техникам терапии, изменению роли терапевта в ходе терапии, значению чувств в процессе исцеления.
Стоит обратить внимание на взаимодействие и соответствие друг другу состояний обоих участников терапии. Обе стороны регрессируют, обе растут и интегрируют. Межличностные отношения есть проекция внутрипсихических, другой — это воплотивший образ фантазии. Чрезвычайно важна относительно большая степень зрелости и интегрированности терапевта. Именно остаточная психопатология терапевта и его способность идентифицироваться с подобной психопатологией пациента и делают терапию возможной. Витакер считает, что терапией неизбежно занимаются “для себя”. Когда терапия началась, каждый становится и пациентом, и терапевтом для другого. Степень личного участия каждого меняется от стадии к стадии терапевтического процесса.
“Корни психотерапии” также разбирает две другие важные концепции —позитивной и негативной тревоги. Негативная тревога происходит от страха: я развалюсь на части, если не будут работать психические защиты. Позитивная тревога рождается от понимания того, что ты не живешь в меру своих возможностей для роста. Восстановительная терапия, стремящаяся к освобождению от симптома, занимается первым типом тревоги. Позитивная тревога, вне зависимости от симптомов, толкает человека к росту и интеграции.
Профессиональный терапевт — это тот, кто посвятил себя, в личной жизни и в работе, своему росту, и поэтому может помогать росту других. Несмотря на то, что терапевт и пациент являются людьми и оба несут в себе следы психопатологии, терапевтические отношения не есть отношения (гуманистические, экзистенциальные) “Я-Ты”. Они носят профессиональный характер, даже когда терапевт, работая с человеком, избегает всяческой техники. Слово “профессиональный” здесь употребляется скорее в моральном, чем в социальном смысле. Это скорее призвание, чем вид работы. Личность терапевта невозможно отделить от процесса терапии.
Интересно заметить, что остальные главы книги как бы неохотно переходят к описанию техник. В разделе “Короткая психотерапия” описываются всевозможные технические маневры, которые терапевт употребляет сознательно, но осторожно, когда поджимает время. В конце обсуждаются такие тактики терапевта, как молчание и “вынужденное фантазирование”, причем больше внимания уделяется не самим техникам, а вопросам их использования. Спонтанный непонятный процесс терапии может быть испорчен терапевтическими стратегиями. Эти опасения очень напоминают боязнь психоаналитика привнести что-либо свое в свободные ассоциации пациента.
Книга “Корни психотерапии” подверглась интенсивной критике. Подавляющее большинство авторов рецензий или горячо ее принимали, или были категорически против. Трудно найти хоть одну уравновешенную рецензию на книгу. Иногда задумываешься: а прочел ли ее хоть кто-нибудь внимательно? Авторов удивили и расстроили некоторые откровенно злобные нападения сектантов от науки, утверждавших, что их работа бесчеловечна, антисоциальна, невежественна и делавших вывод, что авторы книги нуждаются в помощи специалиста. Некоторые положения книги подвергались особенно яростной критике.
Во-первых, авторы ориентировались на переживание вместо инсайта. Это ударяло в самое сердце психоаналитической практики (особенно, эго-психологии), где инсайт, добываемый с помощью нейтрального, в совершенстве владеющего собой и своим пациентом терапевта, считался одним из основных исцеляющих факторов. Совершенно противоположное мнение, что терапевт должен избегать техники и использовать свою психопатологию, подрубало самые корни психотерапии. Все перевернулось с ног на голову, книга предлагала полную переоценку общепринятых ценностей. Тем не менее, серьезная попытка опровергнуть модель Витакера никогда не предпринималась.
Неслыханная активность терапевта послужила вторым поводом для споров. Все знали, что в Атланте во время терапии прибегают к физическому контакту. Пациентов держали за руки, с ними боролись, иногда терапевт и шизофреник давали друг другу пощечины. Это шокировало психоаналитическую среду. Но опять-таки никакие критики не пытались с помощью исследований показать, что такие действия вредны для пациентов. Все обвинения носили характер иррациональной ненависти или предрассудков. Это вдохновляло Витакера, и он продолжал свои исследования.
Традицией клиники в Атланте стало устройство раз в полгода четырехдневных встреч для сотрудников. К ним присоединялась “Филадельфийская группа”, исследующая шизофрению. В эту группу входили психиатры Эд Тейлор, Джон Розен и Майк Хейворд. Материалы десятой конференции, состоявшейся на Си-Айленд, были опубликованы в 1958 году под названием “Psychotherapy of Chronic Schizophrenic Patients” (“Психотерапия хронических шизофреников”).
В Атланте во время конференций все вместе обсуждали различных пациентов. Обычно во время конференции ее участники также занимались интенсивной терапией одного пациента с хронической шизофренией или терапией пациента с его семьей. Терапевты участвовали в групповых, индивидуальных или в других формах терапии. Группа начала обращать все больше внимания на роль семьи в происхождении и развитии шизофрении. Раз за разом исследователи убеждались в том, что стоит пациенту, которого терапевт “вытянул” из психоза, вернуться в семью, как он снова сходит с ума. Витакер обнаружил, что в таких семьях мать еще до рождения ребенка устанавливает с ним симбиотические отношения, чтобы заполнить в себе ощущение пустоты, связанное с собственным детством. Из-за ее мощной привязанности к ребенку муж привязывается к каким-нибудь безличным источникам удовлетворения вне семьи: деньгам, престижу и так далее. А это, в свою очередь, еще больше углубляет изоляцию матери, и в ней растет страх сумасшествия. И тогда ребенок становится для матери проективной идентификацией ее собственного “безумия” (части психики, связанной с первичным процессом). Она становится, по словам Витакера, контршизофреником, то есть она защищается от своих желаний, которые кажутся ей чужеродными и неприемлемыми, проецируя их на своего ребенка. Такой союз, делающий ребенка инфантильным, поддерживается бегством отца, который ищет удовлетворения вне брака. Лишь какое-нибудь внешнее событие (смерть, развод, рождение нового младенца) или биологическое взросление ребенка могут разрушить этот симбиоз. При этом мать бывает перепугана усилением своей изоляции. Это ведет к боязни сойти с ума, и ребенок теряет автономию, которая, как ему кажется, равноценна его смерти (от эмоционального голода). Поэтому шизофрения имеет межличностное происхождение и, в то же время, внутрипсихическое.
Следовательно, важную часть терапевтической работы составляет создание необходимой дистанции между шизофреником и его семьей, так называемая терапевтическая изоляция. Как и терапия с правонарушителями, работа с шизофрениками должна иметь свою заранее заготовленную стратегию: аналогия с хирургом, готовящим пациента к операции, часто мелькает в работах Витакера этих лет.
Терапевтическая стратегия заключается в том, что терапевт заменяет пациенту мать и становится симбиотическим партнером шизофреника вместо нее. Он сам тоже переживает всю “агонию и экстаз” этих взаимоотношений двойной связи. Но терапевт, в отличие от матери, комфортабельно относится к своей регрессии. Именно страх перед регрессией заставлял мать проецировать свое “безумие” на ребенка, тем самым стабилизируя шизофреническую пару. Терапевт предлагает пациенту терапевтическую двойную связь вместо патологической. Поскольку все пути к отступлению блокированы, пациенту ничего не остается, как стать нормальным, контршизофреником, в ответ на регрессивное движение терапевта. Когда это происходит в межличностных отношениях, то же самое может произойти параллельно и в психике. Как раньше пациент переживал спроецированный первичный процесс матери, так теперь он мог пережить и вобрать внутрь себя спроецированную “нормальность”, или вторичный процесс взросления терапевта. Таким образом, терапия является коррективным эмоциональным опытом, главным образом — внутрипсихическим переживанием. Процесс терапии состоит из цикла шагов в сторону регрессии пациента и терапевта и соответствующих или противоположных шагов в сторону интеграции. И при этом крайне важна изоляция от тех, кто может втянуть пациента в старые симбиотические отношения.
Но дальше Витакер понял, что достичь подобной изоляции невозможно. В то время в Атланте не было соответствующего их потребностям госпиталя. Они пытались использовать один частный санаторий, но столкнулись с большими административными трудностями. Попробовали расселить своих пациентов по разным домам, но это тоже оказалось невозможным. Наконец, группа Витакера арендовала дом, где пациенты могли жить, но и это не принесло ожидаемого результата. Оставалась только одна возможность: лечить шизофреника вместе с его семьей.
Уже в индивидуальной терапии они использовали ко-терапию, чтобы образовать подобие пары родителей и разделить роли терапевта и администратора. Теперь, работая с семьями, Витакер увидел, что команда терапевтов необходима для того, чтобы мощная семейная система не проглотила терапевта. У терапевта, ведущего работу индивидуально, слишком велико искушение встать на чью-либо сторону, превратиться в тайного агента одного из членов семьи или совсем убежать от личного участия. Присутствие двоих или нескольких терапевтов предохраняет от подобных ошибок и являет семье гораздо более наглядную модель межличностных отношений. Такая форма работы позволяет гораздо легче то включаться в семью, то отделяться от нее, вместо того, чтобы затеряться в ее джунглях. К тому же, терапевт учится размышлять и комментировать как поведение семьи, так и свое собственное. Терапия, в которой несколько терапевтов работают с одной семьей, стала стандартной практикой в клинике Атланты. Хорошо ли она работала, неясно, поскольку не были проведены исследования результатов, но очевидно, что все участники группы ощущали, что это самый лучший вид терапии.
В начале шестидесятых клиника стала расти и процветать. Ощущение, что это горсточка единомышленников, противостоящих атакам окружающего мира, стало исчезать. Каждый новый сотрудник, приходивший к ним работать, уменьшал их “окопную солидарность”, в которой было столько близости. Стали образовываться подгруппы, отстаивающие ту или иную концепцию организации работы. Клиника превратилась в учреждение; дух сменила организация. Витакер почувствовал желание переменить место работы, хотел вновь заняться преподаванием. В 1964 году он занял место профессора психиатрии в Висконсинском Университете в Мэдисоне, где должен был преподавать теорию и практику семейной терапии.
Его тогдашний начальник, Милтон Миллер, набрал пестрый состав сотрудников. Некоторые из них были учениками Карла Роджерса, незадолго до того работавшего в Висконсине. Другие обучались в Меннинджеровской клинике (как и сам Миллер). Был и Карл Феллнер, экзистенциалист, обучавшийся в Европе. Небольшой круг тщательно отобранных Миллером сотрудников и его харизматическое руководство давали возможность экспериментировать и проводить междисциплинарные исследования, в то время как большинство подобных психиатрических факультетов все еще занимались битвами за ортодоксальность психоаналитического учения.
Витакер начал свою работу в качестве консультанта в стационарном отделении, которое возглавлял доктор Джен Абромс, недавно приехавший из Йельского Университета. Они сразу стали работать со всей семьей, а позже начали приглашать семью в отделение, где проводили что-то вроде марафона. Подробности этой деятельности описаны во многих работах20. Витакер встретился с трудностями: как учить студентов концепциям, которые можно понять только на практике, как жаргон маленькой закрытой группы из Атланты перевести на понятный язык? Кажется, в Витакере возникало какое-то сопротивление: он неохотно излагал свои идеи в статьях, противился облеканию в концепции того, что чувствовал. Он начал приглашать учащихся на свою семейную терапию с пациентами из клиники или из своей частной практики. Появление видеозаписей помогало ему “присутствовать“ на тех встречах, которые он не мог посетить.
В этот период он опять много размышлял о себе и о своих целях. Этому способствовало то, что дома дети уже выросли и в основном его родительские обязанности кончились. На развитие его мыслей влиял также экзистенциальный дух сотрудников факультета. И вновь это было время личных и профессиональных поисков:
“Двадцать лет работы — игровая терапия с детьми, терапевтические взаимоотношения с юными нарушителями закона, материнский уход за сомневающимися в себе невротиками, глубинная терапия с хроническими шизофрениками, — все это перестало радовать, зашло в тупик. Терапия супругов тоже становится все скучнее и скучнее. Как пожилому терапевту сохранить в себе живую жизнь? Даже ко-терапия, это превращение в родителей своих пациентов, после двадцатилетнего употребления кажется бессмысленной и однообразной. И мне стало ясно, что лишь мое собственное стремление к росту должно стать главной целью любых взаимоотношений. Если терапия, основанная на личностном опыте, делает меня живым, тогда я могу быть подлинным образцом для своих пациентов. Раз могу измениться я, могут рискнуть и они. Время моей жизни ограничено; мой брак глубок, продолжителен и разносторонен; а для семьи временных рамок не существует: она живет в измерении вечности”21.
Может быть, битва за интеграцию окончилась для него к этому периоду жизни. Остатки психопатологии были проработаны. Встала очередная задача: исследование взаимоотношений с семейной группой. Это создавало новое напряжение: между Витакером как человеком и им же самим как членом группы. Для достижения изменения он скорее использовал свой порыв к росту, чем “осколки своей психопатологии”. В это время, возможно, не без влияния дзэн-буддистской литературы, которую Витакер тогда изучал, он становится открыто “эгоистичным” в терапии, становится самим собой, а не просто фигурой переноса.
В его концепциях семейной системы чувствуется влияние теоретиков из группы Пало-Альто, исследовавших общение, особенно Джея Хейли. Витакер считает, что здоровая семья отличается гибкостью в распределение ролей: материнской, отцовской, “козла отпущения”. Все они в здоровой семье переходят от одного к другому. Он описывает развитие семьи в ее биологическом времени. Всегда существует динамическое напряжение между потребностью отдельного человека в индивидуации и потребностями семейной системы.
Его терапевтическая техника становится в большой мере стратегической, но при том остается спонтанной. В ней имеются два главных элемента. Пользуясь парадоксом, мистификацией, спонтанными проявлениями своего безумия, он повышает уровень тревоги в семье, провоцирует кризис, подогревая “семейный термостат”. Он одновременно провоцирует, дразнит, соблазняет отдельных членов семьи, чтобы те переменили свои привычные способы обращения с кризисом и двигались к зрелости. Во многом подход Витакера напоминает работу Мюррея Боуэна. Совпадают их точки зрения на биологическую укорененность в человеке стремления к росту, на то, что цель терапии — помочь отдельным членам семьи достичь большей степени дифференциации. Хотя техники Витакера и Боуэна совершенно различны.
Стоит вспомнить, что эта работа с семьями происходила в шестидесятые годы, в то время, когда многие люди помышляли о свободе “делать то, что мне хочется”, боролись с установлениями общества или искали трансцендентальных переживаний. Но в философии Витакера нет признаков эстетизма или анархизма того времени. Он стоял за личность, не видел другого пути индивидуации, кроме диалектических взаимоотношений со своей культурой: “Роль психотерапии может меняться... Заниматься тем, чем тебе хочется, маловато. Это должно расти по мере того, как ты учишься принадлежать другим. Когда я только принадлежу другим или когда я только занимаюсь тем, чем хочу, — роста не происходит. Необходим баланс, развитие и того, и другого. Вот в чем заключается идея нашей терапии”22.
Выход за пределы своего “Я” происходит в семье, а не в изоляции. Витакер никогда не сомневался в том, что все люди включены в цикл жизни. Самоактуализация, развитие возможностей, рост — все это присутствует в обычных человеческих взаимоотношениях, а не в каких-то эзотерических практиках мышления или системах упражнений.
Мы считаем, что основная тема всех работ Витакера — поиск целостности или воссоединения. Человек по своей природе неполон. Выходя из сада детства, он теряет свою целостность на фабрике жизни. Культура, которую сначала представляет семья, а затем “общественная жизнь”, расщепляет нас внутри себя и отрывает от других. Эти два разных мира, два разных паттерна, Витакер описывает такими словами, нередко встречающимися в его статьях:
Паттерн близости:
Природа
Близость в семье
Близость в браке
Шизофрения
Бессознательный
источник жизни
Общение левого
и правого полушарий мозга
Мы живем в мире, говорит Витакер, который всегда течет, находится в постоянном движении. Это не какое-то непредсказуемое или случайное движение; оно циклично, как времена года, как приливы и отливы. Так, возникновение и исчезновение человека нельзя считать трагедией, оно естественно и потому хорошо. И жизнь — не путешествие, не краткая передышка, а цикл, входящий во многие другие циклы.
Цикл жизни человека в рамках времени (для Витакера время — это биологическое направление) состоит из кризиса и обновления. Человек снова и снова открывает то, кем он является. Царствие Божие на самом деле находится внутри человека, сказал бы Витакер. Небеса — это “быть самим собой” и “жить, укоренившись в своем бессознательном”. Напомним, что для него бессознательное — это источник жизни, из которого надо пить, а не страшное чудище, которое надо укрощать.
Чтобы достичь полноты жизни, человек должен существовать вместе с другими людьми — родителями, женой или мужем, семьей, с несколькими поколениями семьи, со всей природой. Вступая во взаимоотношения, человеческое “Я” парадоксальным образом (а для Витакера все в человеческом мире парадоксально) находит себя, что как будто бы противоречит законам природы. То, что отдано другим, остается у человека. Такой парадокс лежит в сердцевине великих религиозных систем (“Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет”). Мы думаем, что жизнь Витакера — религиозна, она не искажена гордостью одинокого паломника.
В этом религиозном контексте мы можем прочитать определение зла. Зло происходит от вмешательства в естественный ход событий, в циклы жизни. Конкретные “грехи”, из-за которых семьи приходят на терапию, есть создание идола из образа своего “Я”, жертвоприношения ложным богам стабильности. Но основное стремление человека не влечет его ко злу, человек устремлен к росту. Люди злы в той степени, в какой они трусливы, обмануты или непросвещенны. Терапия стремится освободить и пациента (или семью), и терапевта из этих оков.
И потому у нее не бывает конца, последней точки, где можно остановиться. И хочется отнести слова Т. Элиота к Витакеру и, может быть, вообще ко всем терапевтам:
Мы не оставим исканий,
И поиски кончатся там,
Где начали их. Оглянемся,
Как будто здесь мы впервые*.
Часть II
психотерапия
Мы предлагаем краткий обзор основных идей Витакера, касающихся психотерапии. Подробнее они развиваются в отдельных главах. В частности, мы бегло рассматриваем вопрос о том, как теории и техники Витакера соотносятся с ортодоксальным психоанализом, особенно с теориями объектных отношений. Сведения о влиянии на Витакера концепций Отто Ранка можно найти в части I.
В этой части рассмотрены работы Витакера, посвященные в основном вопросам психотерапии вообще и индивидуальной психотерапии в частности. Но невозможно выделить его индивидуальную работу и противопоставить ее семейной терапии, поскольку во всем видна одна и та же рука. Так, когда Витакер писал “Корни психотерапии”, он работал с пациентами индивидуально, и его выводы и словарь отражают этот контекст. А его взгляды на “корни” очередной N+1-ой терапии мы найдем в части IV и части V настоящего издания, и они не конкурируют с прежними идеями, но вполне им соответствуют. Было бы неверно сказать, что Витакер проходил какие-то этапы в развитии своей концепции психотерапии, скорее он разрабатывал одни и те же темы, искал их вариации.
По мнению Витакера, важно определиться, что есть психотерапия и что ею не является. Ценная психотерапия, с его точки зрения, — это встреча, столкновение, процесс роста. Более техничным определением было бы следующее: психотерапия есть конкретная последовательность событий, происходящих между профессиональным терапевтом (или командой терапевтов), и пациентом или системой, стремящимися к росту. Этот рост представляет собой явление взаимное и внутреннее, а терапевтический процесс его катализирует. Психическая зрелость проявляется в более компетентном межличностном поведении. Если задуматься обо всех этих определениях, можно сделать вывод: многое, что сегодня называют психотерапией, ей не является.
Рост
Витакер считает, что организму человека присуща телеология, его действия всегда имеют цель. Он всегда борется, стремясь стать тем, кем может быть, — как желудь стремится стать дубом. Рост, происходящий в процессе психотерапии, есть рост психобиологический, целостный рост всего организма. Человек борется за свою “зрелость” — так называется внутрипсихическое состояние, выражающееся в более компетентном межличностном и социальном поведении. Это стремление является для Витакера аксиомой, предметом веры терапевта. И всегда существует напряжение между стремлением личности к росту и окружающей средой: родителями, семьей, группой, культурой. Эти надличные силы стремятся подавить рост отдельного человека, но парадоксальным образом они необходимы для его роста. Этот парадокс — ключ к пониманию взгляда Витакера на отношения личности и группы. Личность не расцветает за счет подавления другого или культуры. То же самое верно и с обратной стороны. Это динамическое напряжение. Неизбежный и необходимый для бытия конфликт создает особые отношения, скорее парадоксальные, чем амбивалентные, между “Я” и другими.
Столкновение
Психотерапевтическое взаимодействие — это встреча или даже столкновение. Столкновение (encounter) предполагает непосредственный спонтанный контакт, присутствие, встречу за рамками ограничений социальных ролей. Это также конфликт, схватка, где задействован и гнев. В психотерапевтическом столкновении царствует непредсказуемость. И отрезаны пути к отступлению: нельзя притворяться или прятать свои чувства. Это потрясение, лишающее человека его былого комфорта, накатанных путей поступков и чувств. И такой неприятный опыт необходим, по мнению Витакера, для того, чтобы пробудить дремлющий процесс роста, присущий каждому человеку.
Внутренний процесс
Витакер считает, что изменение в психотерапии происходит внутри психики, может быть, на биологическом уровне. Тело меняется вместе с психикой. Он понимает слово “рост” достаточно буквально. Это тот же процесс, который ведет к взрослению ребенка. Он включает в себя восприятие, чувства, мысли. Иногда рост как бы восстанавливает хронобиологический возраст человека.
Процесс роста замирает, когда не хватает необходимого питания, тех переживаний, которые обычно дают родители или культурная среда. Зрелость есть, по убеждению Витакера, идеальная цель развития человека, редко достигаемое состояние, к которому всегда стремится организм. Кроме роста, как бы восстанавливающего утраченное здоровье, есть и другой вид роста, выражающийся в стремлении интегрировать разные части своей личности. Часто такой рост происходит на поздних стадиях психотерапии. Целостность проявляется в лучшей деятельности во всех сферах. Взрослый человек, например, переживает себя как бы в разных ролях, и надо различать, “играет” он их или “переживает”. Эти роли могут быть состояниями Эго или состояниями бытия. Они могут находиться в конфликте между собой. Легко ли, если ты не научился интегрировать, воспринимать одного и того же человека (или самого себя) в качестве, например, родителя ребенка и одновременно — любовника? Нужна огромная гибкость, чтобы соединить эти разные состояния Эго, эти образы.
Процесс
Психотерапия — это процесс, то есть серия переживаний и событий, способствующих естественному росту организма. Она требует от терапевта преодоления сопротивлений — своих и пациента, — чтобы установить экзистенциальные, более глубокие, чем социальные, взаимоотношения. Когда пациент углубляется внутрь себя, то же самое происходит и с терапевтом, который с ним взаимодействует. Под глубиной Витакер обычно понимает другие состояния Эго, необычные, но живые (особые состояния мышления, чувства и действия). С точки зрения развития, эти состояния можно назвать более примитивными. Это те состояния, которые не перерос пациент, лишенный необходимого питания. Интеграция (опыт усвоения) этих состояний освобождает пациента, и он может расти дальше, и одновременно ему становится легче переживать такие состояния в себе или при общении с другими. Страшное и неведомое превращается в знакомое и ценное.
Двусторонние отношения в терапии
Оба участника терапии — как пациент, так и терапевт — переживают глубинные состояния Эго (схема 11). Но есть существенная разница между переживаниями одного и другого. Регрессия (или изменение сознания) у терапевта не столь глубокая и полная, скорее — частичная. Примитивная потребность терапевта переживать себя в таких состояниях Эго (например, детское “Я”) уже была удовлетворена раньше. Поэтому переживания пациента полнее, интенсивнее, может быть, более примитивны, поскольку связаны с его неудовлетворенной потребностью, находящей удовлетворение в отношениях с терапевтом, освобождая пациента для движения вперед.
В процессе терапии необходимо преодолеть ту или иную степень сопротивления, инерции привычек. И терапевт, и пациент усвоили культурные запреты, не позволяющие выходить за рамки обычной предписанной роли и нарушать ожидания окружающих, но им необходимо войти в настоящее “столкновение” друг с другом. Некоторые техники (см. ниже) помогают “завести” процесс, чтобы перейти от обычного социального взаимодействия к экзистенциальному. Техники в данном случае используются для роста взаимоотношений, а не как конечная цель.
Тревога и техники
Витакер придает большое значение использованию тревоги в процессе психотерапии для мотивации, для перехода от социального уровня взаимодействия к экзистенциальному. Пациенты обычно приходят под воздействием тревоги, но ее бывает недостаточно для мотивации их участия в терапии. Любое действие, которое изолирует терапевтические отношения от окружающего мира или разрушает готовые представления о другом, повышает тревогу и толкает к общению на экзистенциальном уровне. Например, терапевт молчит, когда пациент задает вопрос. Он отказывается обсуждать житейские проблемы, отказывается поддерживать пациента. Терапевт отвечает пациенту лишь на экзистенциальном уровне, а не на социальном с того момента, как только получает право так поступать.
Стоит провести различие между “позитивной” и “негативной” тревогой. Негативная тревога как раз и привела пациента к терапевту. Она возникает из-за того, что пациент чего-то боится в себе самом, из-за того, что он чего-то не знает, из-за того, кто он есть на данный момент. Позитивная тревога похожа на Кьеркегоровский трепет перед возможностью свободы стать другим, чем ты есть сейчас, в новый момент. Позитивная тревога состоит из страха и ожидания.
Из принципа двусторонних отношений следует тот факт, что терапевт переживает те же виды тревоги. Благодаря своей подготовке в ходе терапии он замечает оба вида тревоги и постепенно учит пациента их различать. Иногда терапевт кажется пациенту жестоким — когда подталкивает пациента и самого себя в сторону большей тревоги. Но терапевт все продолжает двигаться в данном направлении, потому что верит в стремление организма к росту и знает, что чем больше риск, тем больше вознаграждение. Вынужденные через экзистенциальные взаимоотношения путешествовать по новым областям переживаний, обе стороны растут и изменяются. Можно увидеть, как терапией движет напряжение “неравновесия”, то есть как комплементарность отношений делает сальто и становится симметрией (см. схему 1). С этой точки зрения, тревога, которая была симптомом, становится показателем движения в терапии. Благодаря смелости терапевта и своей вновь обретенной свободе пациент учится переносить тревогу, воспринимать ее как тревогу перед возможностью свободного выбора.
В большинстве случаев терапия заканчивается до того, как отношения, по мнению терапевта, действительно подошли к концу. Возникает вопрос: чем объяснить такую “неудачу”? Кто виноват: терапевт (неподходящая техника, контрперенос) или пациент (не подлежит терапии, перенос)? Витакер смотрит на это явление с большим оптимизмом. Он считает, что пациент взял столько от терапии, сколько ему сейчас нужно или сколько он способен перенести. Если терапевт оставался “профессиональным”, то можно считать, что такой преждевременный уход есть “порыв роста”. Человек не вырастает в один момент и не уходит из дому, пока не становится к этому способен. Девушка не бежит из семьи, если ее не ждет за дверью возлюбленный.
В естественном ходе терапии ближе к ее завершению тон взаимоотношений меняется.
“На последней стадии психотерапии любого вида появляется взаимодействие обмена: что-то вроде экзистенциальной консультации двух сверстников. Остаются двое взрослых, один из которых, быть может, обладает особым пониманием отдельных сфер жизни. Он раскрывает все карты перед пациентом, и они оба делятся своим пониманием процесса его жизни. Они уже мало привязаны друг к другу, они свободны, поскольку перенос почти кончился. Пациент похож на повзрослевшего подростка, он достаточно самостоятелен и потому способен слушать, что говорит ему родитель, не чувствуя при этом, что его разрушают или унижают; а поговорив, он идет и сам принимает свое решение. На этой стадии терапевт может открывать что-то о себе пациенту: свои неразрешенные проблемы или, что еще лучше, те переживания прошлого, на которые он сегодня смотрит с дозой юмора”2.
Что есть психотерапия?
Не являются психотерапией любые отношения или воздействия, не направленные на рост, а стабилизирующие эмоциональное положение вещей. Поэтому “поддерживающая” терапия, образование и обучение, консультирование и многое другое, строго говоря, не являются психотерапией. Улучшение общения или инсайт сами по себе нетерапевтичны, если параллельно с ними не происходит качественного изменения душевной зрелости. Только последнее — знак подлинной психотерапии.
Очевидно, многое из того, что называют психотерапией, не подходит под это определение. Из чего следует, что не все люди, обращающиеся за помощью по поводу каких-либо проблем, нуждаются в психотерапии. Возможно, в настоящий период жизни они не хотят или не готовы расти и меняться. Психотерапевт должен это понимать и направлять таких людей к подходящему для них социальному терапевту.
Витакер и ортодоксальный психоанализ
Если различать в психоанализе две вещи — теорию развития человека и технику терапии, — то можно сказать, что Витакер всегда отвергал последнее и всегда принимал первое. Соглашаясь с Фрейдом, он был убежден, что психоанализ и его метод свободных ассоциаций малоэффективен как форма терапии. Соглашаясь с тем, что генетический подход является важным инструментом исследования, он считает его непригодным для терапии, потому что:
“...Cамая существенная динамика психотерапии развертывается в настоящем времени. Именно тут переживание меняет соотношение других актуальных переживаний между собой и интегрирует биологический эффект переживаний прошлого... Можно сказать, что такая терапия основана на личностном опыте (experiential). Она принципиально отказывается от генетического подхода и от историзма, она вневременна, она задается терапевтом и имеет дело скорее с процессами Ид. Этим она отличается от терапии на уровне Эго с ее акцентами на прошлом, на времени, на истории и на причинности”3.
Как показал Роберт Харпер, мысли Витакера о терапии представляют из себя “регрессию” к ранним работам Фрейда с их акцентом на психологии Ид.4 И действительно, с точки зрения Витакера, поведение определяет бессознательное. Но это не есть дикое и инфантильное бессознательное Фрейда; это, скорее, творческое бессознательное Ранка и других мыслителей, бессознательное творца. Поэтому тот факт, что оно детерминирует поведение человека — не трагичен (как у Фрейда), за этим стоит своя телеология, стремление к цели. Человек и социальная группа зависят друг от друга, их взаимоотношения — парадокс, а не амбивалентность. Таким образом, чем более человек становится сам собою, тем в большей мере он может быть вместе с другими, тем его личность эффективнее, и так далее.
Работы Витакера и теория объектных отношений
Интересно поглядеть на идеи Витакера относительно терапии в свете теории объектных отношений.5 С этой точки зрения, процесс терапии, как ее описывает Витакер, состоит из серии замещений и изменений интроекций пациента, вбирающего в себя интроекции терапевта. Иногда это процесс восстановления или выздоровления. В других случаях он выходит за рамки прошлого.
Мы уже говорили о терапевтической ситуации как о столкновении. Терапевт произвольно создает в себе серию комплементарных проективных идентификаций, которые мы называем словом “терапевт”. В таком состоянии, посредством проективной идентификации терапевта, пациент становится для него как бы “внутренним подростком”. Пациент интернализирует эту проекцию и становится подростком (то есть так переживает свое “Я”). В таком состоянии Эго пациент воспринимает терапевта — опять-таки через проективную идентификацию — как своего сверстника, брата или сестру. В ответ терапевт начинает воспринимать себя как родителя, а пациента — с помощью проективной идентификации — как свое детское “Я”. Проекция этого образа детского “Я” на пациента оживляет в нем его собственные представления о детском “Я” — его imago, которое изменяется из-за того, что терапевт проецирует на него свое детское “Я”. Наиболее примитивными их отношения становятся тогда, когда пациент находится в состоянии детского “Я”, а терапевт превращается в первичного родителя. В процессе подобного обмена проекциями, в процессе частичной контридентификации, говоря языком эго-психологии, Я-образ пациента восстанавливается, становится более привлекательным. Он может принять этот образ, не отчуждая его от себя с помощью механизмов защиты. В некоторых случаях, когда психическое взросление сильно заторможено, пациент фактически хранит в себе спроецированный образ хорошего терапевта (образ своего внутреннего подростка). Когда эта “внутрипсихическая семья” образов и интроекций пациента становится для него более знакомой и приемлемой, они интегрируются в более цельный Я-образ. Освобождается энергия, которая прежде тратилась на психические механизмы защиты — на расщепление и проективную идентификацию плохих объектов или их частей, и эта энергия может использоваться для межличностных взаимоотношений.
Период отношений между первичным родителем и детским “Я” продолжается до тех пор, пока не будут удовлетворены детские нужды пациента — потребность воспринимать себя как “хорошего ребенка” или видеть как нечто хорошее свое детское “Я”. И в какой-то момент пациент начинает расти, последовательно переживая более взрослые состояния Эго, параллельно участвуя в соответствующей проективной идентификации терапевта. Он последовательно проходит все эпигенетические стадии нормального развития. Пациент уходит из терапии еще не исцеленным и не взрослым, но измененным. Теперь он способен ощущать и удовлетворять свои внутренние идентификации — “себя” или “другого” — и может заботиться о них, социально приемлемыми способами находить им питание во внешней жизни. Он может чувствовать эмпатию (то есть переживать в атмосфере приятия фрагменты своей психики в других людях), он способен к близости (способен устанавливать двусторонние проективные идентификации с другим человеком).
Теперь обсудим в контексте теории объектных отношений идею о негативной и позитивной формах тревоги. Негативная тревога заставляет пациента идти к психотерапевту. Она сопровождает состояние дезинтеграции, в котором живет пациент, ощущая себя расколотым на части. В процессе терапии негативная тревога усиливается всякий раз, когда терапевт неадекватно отвечает на проективные идентификации пациента. Например, в тот момент, когда пациент интроецирует проекцию детского (хорошего) “Я” терапевта и одновременно переживает свое собственное (обычно воспринимаемое как плохое) детское “Я”, негативная тревога усиливается. Присутствие двух несовместимых частей психики, двух совершенно различных Я-образов сводит пациента с ума. И в этот момент терапевт реагирует верно в том случае, если превращается в хорошего первичного родителя для пациента. (Это соответствующая проективная идентификация пациента, идентификация терапевта как терапевта и идентификация терапевта как личности в данный момент терапии.) Поскольку отчасти ответ терапевта на проективную идентификацию пациента мотивирован позитивной тревогой, можно сказать, что негативная тревога пациента (страх перед интроекциями) встречается с позитивной тревогой терапевта (его переживанием своих хороших интроекций). Другими словами, в тот момент, когда пациент особенно глубоко погружен в свое негативное “Я”, терапевт должен точно соответствовать его хорошей проективной идентификации.
Витакер во многом пользуется фрейдовской моделью развития. Он согласен с теорией психопатологии, утверждающей, что разница между неврозами и психозами объясняется неполадками в прохождении соответственно эдиповой либо доэдиповой стадий развития (травматическая теория причинности психоанализа). Он признает работу защитных механизмов, но скорее видит в них регуляторы гомеостаза, чем просто сопротивление; с его точки зрения, защиты мешают как росту, так и регрессии. Их работа, как правило, отлично налажена, и изменить их крайне трудно, поскольку они базируются на уровне биологии человека.
Итак, можно заключить, что главное расхождение Витакера с психоанализом касается вопросов терапевтической техники: вместо анализа он предлагает синтез, вместо объективности — столкновение, вместо нейтральности терапевта — взаимное погружение в переживания.
Историческое замечание: надо помнить, что Витакер начал свою работу в атмосфере, достаточно враждебной ко всяким новшествам в области психотерапии. Отклонения от ортодоксальной психоаналитической практики с ее техникой свободных ассоциаций могли караться исключением из среды коллег. Витакер начал свою работу при президенте Мак-Карти, в годы консерватизма в политике и общественного конформизма. Это объясняет напряженность стиля его ранних работ: настойчивое подчеркивание того, что терапия — совершенно изолированный процесс, крайнюю степень осторожности при объяснении такой понятной техники, как создание общей фантазии терапевта и пациента.
Моя философия психотерапии
Мы можем наблюдать своеобразный “видеоряд”, показывающий личное и профессиональное развитие Витакера. Люди и места оказываются гораздо более значимыми, чем идеи. Чувство удивления и атмосфера поиска пронизывает всю статью. Внезапные повороты судьбы только придают уверенность, а не обескураживают. На экране скорее чуткий человек, чем мыслитель, человек действия, а не созерцатель. И в действии он, открытый для новых переживаний, прислушивается к своим ощущениям.
С годами его кругозор становится шире: он переходит от человека к браку, отсюда — к семье, затем — к нескольким поколениям семьи. Интрапсихические концепции сменяются межличностными, а тем на смену приходят системные. Любопытно (и прекрасно), что тут нет засушенных теорий, сам Витакер все время присутствует в своих идеях. Витакер в той же мере общается “на короткой ноге” со сборищем нескольких поколений семьи, как он это делал с индивидуальным пациентом, а может быть, даже и в большей степени.
За его философией психотерапии стоит убеждение, что терапевт есть вечный пациент, который просит о помощи всех, кто к нему приходит. Это, разумеется, конечная цель, а не отправная точка. Прежде чем стать терапевтом, человек должен побыть пациентом.
Моя философия связана со структурой моего характера. Я думаю о том, далеко ли я ушел от детства на молочной ферме, где так чувствовалась Мать Природа, питающая и близкая, которая всегда рядом с тобой? Далеко ли я ушел от жесткого протестантизма, когда мне говорили, что в воскресный день играть — грех, что можно читать только Библию и религиозные брошюры? Насколько я далек от желания стать миссионером в Китае, из-за чего я оставил карьеру проповедника и стал изучать медицину? Насколько я ушел от первого обучения в клинике детской психиатрии, когда не было ни специальных программ или семинаров по теории, ни возможности обучаться в психиатрическом госпитале, и мне пришлось учиться, принимая огромный поток пациентов во время второй мировой войны?
Вырос ли я с того момента, как сам стал пациентом психотерапевта, что продолжалось с перерывами около десяти лет, так что я прошел как пациент пять-шесть полных лет психотерапии? В 1941 году я начал работать с малолетними правонарушителями и стал понимать их боль и энергию, а затем ощутил неимоверную нагрузку Окриджа, где приходилось принимать по двадцать пациентов в день почти без перерыва, тратя по полчаса на одного пациента, где мы и начали работать командой.
Любопытно, насколько моя рабочая философия связана с совершенно случайным открытием: что психотиков можно кормить из бутылочки, как младенцев? Как и Том Мэйн в Англии, мы открыли, насколько способствуют регрессии такое кормление или физическая борьба с пациентами. Затем я работал директором в Атланте, где у нас была обязательная двухгодичная групповая терапия для всех студентов с первых лет обучения. Мы стали использовать индивидуальные дома для интенсивной терапии шизофреников, как это делал Джон Розен. За эти годы работы с Томом Мелоном и Джоном Воркентином мы пришли к пониманию терапии, направленной на рост, научились терапевтическому использованию двойной связи и практике частых консультаций коллег. Затем появился еженедельный семинар, где мы исследовали — в течение восьми лет — наши реакции на пациентов и друг на друга. Насколько мое теперешнее понимание психотерапии выросло из убеждения, которое хорошо выразил Бодлер: “В конечном итоге, именно скука рождает преступление”? Почему требования к собственному росту стали ценным критерием моей работы? Насколько моя философия психотерапии связана с собственными супружескими битвами при воспитании шестерых детей, когда я начал понимать, что мое стремление к росту не эгоистично, что свобода любить в психотерапии есть свойство нашей человеческой природы, что важнейшей моделью для психотерапевта является родитель и из этого родился следующий шаг — к семейной терапии?
Из-за всего этого и из-за других менее понятных для меня влияний я стал все больше убеждаться в том, что занимаюсь психотерапией ради себя самого, а пациент просто соучаствует в этом.
Дик Филдер вместе со мною несколько лет работал над вопросом: где проходит граница ответственности между мной и тем, кто пришел ко мне за помощью, тем, кто стал для меня значимым другим, с кем я соприкасаюсь в своей жизни, что-то для себя от этого получая? Мы научились большей свободе в терапии, открыли в себе стремление к росту. Я научился оставаться холодным до того момента, пока человек, говорящий со мною по телефону, не начинал вызывать у меня чувства, положительные или отрицательные. На первом интервью я стал осторожным, боясь превратиться в псевдомать, поскольку настоящую заботу невозможно имитировать. Я все больше начал понимать, что именно моя включенность делает терапию конструктивной как для меня, так и для пациента. Это означает, что и пациенты соприкасаются с моей психопатологией, как я — с их проблемами. Еще раньше я осознал, что доверять самому себе не стоит и что нужен ко-терапевт, который поможет мне меняться в работе. И это не ограничение, такие изменения помогают находить в терапии больше радости, чем раньше, повышают мою компетентность и делают терапию более эффективной для пациента. Сейчас я почти все время занимаюсь семейной терапией или группами.
За моей философией стоит также убеждение, что только изменившись, я могу что-либо понять и выразить словами, поскольку инсайт — не причина изменения, а его побочный продукт. Там, где нет роста, нет и инсайтов, осознания своей индивидуации и своей принадлежности другим людям.
Последние пять лет, а может быть, чуть больше, я все глубже понимаю ценность системного подхода. Я все чаще настаиваю на том, что надо начинать с супругов или с семьи, а еще лучше — с большой семьи трех поколений или с семьи вместе с ее соседями и знакомыми. Насколько нужно и после продолжать заниматься с такой огромной группой — другой вопрос. Но начинать лучше, имея как можно большее собрание людей. Потом, если можно, стоит продолжать ими заниматься, пытаясь вовлечь настолько большую часть системы, насколько это получается.
Психотерапия абсурда
Последние два года я все больше и больше работаю в стиле, как я это называю, “психотерапии абсурда”, продолжающей техники парадоксальной интенции, описанные Милтоном Эриксоном и Джеем Хейли. Моя техника — это своего рода насмешка; я вызываю хаос (теперь это называют “положительной обратной связью”), то есть стараюсь усилить патологию, пока симптом не начинает разрушать сам себя. Это своего рода усиленная иррациональность, которая все утяжеляется, пока абсурдность ситуации не вырастает до размеров Пизанской башни, и тогда она падает под собственной тяжестью.
Я полагаю, что там, где есть жизнь, есть и безумие. Столкновение с пациентом, атаки фантазии, разговоры о собственных свободных ассоциациях и символических переживаниях — все это направлено на расширение представлений о мире, на расширение образа жизни пациента. Психотерапия, на мой взгляд, начинается с переноса, она похожа на отношения родителя и ребенка. При удачном течении терапии отношения изменяются, становятся экзистенциальными, терапевт тут уже похож на достаточно зрелого родителя, который может общаться с подростком, наблюдая его взросление, и в конце концов устанавливает с ним взаимоотношения человека с человеком, а не родителя и ребенка.
В контексте семейной терапии сначала происходит борьба за определение моей Я-позиции (Мюррей Боуэн), когда же эта битва удачно завершилась, начинается сражение за инициативу, за то, чтобы определить их целостность, самостоятельность отдельного организма семьи. Я с огромным уважением отношусь к уходу семьи из терапии на начальных стадиях. Часто это событие значит, что кончился явный или неявный кризис, провоцирующий рост семьи, будь то мучения перед проблемой развода или психоз. Я убежден, что такой рывок роста, похож ли он на рак или на легкий грипп, есть творчество семьи и потому заслуживает заботы и поддержки. Я также уверен в том, что просто любви или, как это называет Роджерс, “безусловного приятия”, недостаточно. Даже если я могу так чувствовать себя по отношению к кому-либо, все равно каждому человеку нужно вдобавок быть моим достойным противником, чтобы наши жизни соприкоснулись. Если им требуется помощь, то и мне тоже она необходима. Самое главное — давать пациенту возможность расти, и при этом он должен терпеть неизбежные муки роста. Не могу себе представить тренера футбольной команды, который скажет своим ребятам: “Если вы устали, закончим тренировку. Это будет вредно для вас”. То же относится и к психотерапии. Как только мы стали командой, я могу чего-то требовать от пациентов, как и они от меня. Жизнь без боли напоминает наркотик, а фантазия непрекращающегося счастья есть “бред слияния”, о котором говорил Хельмут Кайзер.
Как верю я в то, что в семейной терапии присутствует символическое переживание единства, так верю и в присутствие в ней элемента реальности. Реальность переноса имеет ценность, но также имеет ценность и реальность того, что семья меня наняла и может уволить, как какого-нибудь плотника или автомеханика.
В наши дни психотерапия совсем не та, что двадцать лет назад. Тогда она была своего рода контркультурой. Пациенты приходили к нам со страхом, потому что им предстоял разговор о грехе. Сейчас это не так: культура более-менее усвоила психотерапию. Только вместо сексуальности неприличным стало брутальное, а психотерапия в наши дни помогает необычным для мира людям занять свое место в организованной социальной структуре. Как будто бы сегодня нам навязывают новую роль: помогать культуре справляться с деструктивной стороной жизни масс. Как можем мы помешать людям вести себя подобно подопытным мышам или крысам в известных экспериментах? Пентагон возник из потребностей культуры, а сегодня его атакуют. Мы оказались в подобном положении. Мы выполнили их ожидания. Что мы делаем для людей последние годы? Про нас забывают.
Для меня психотерапия — это настоящая жизнь, полная приключений. Я часто думаю, какой скукой была бы окрашена моя жизнь, если бы я стал работать врачом в сельской местности. Мертвое время, однообразный труд — помогать при рождении младенцев. Иногда я дрожу от изумления, потому что мне кажется, что люди, бывшие рядом со мной, исцеляют даже мое прошлое. Благодаря психотерапии я всегда был окружен коллегами, чья любовь превращала стрессы моей жизни в рост. Не знаю, что бы со мною было, если бы я выбрал другую профессию. Джон Воркентин говорил: “Представь себе жизнь, целиком посвященную своему собственному развитию. Это похоже на жизнь вечного пациента или на жизнь со своими детьми. Мы просто встречаем день за днем боль и радость значимых других”.
Меня раньше пугали опасности моей профессии: не сойду ли я с ума, не захочу ли покончить с собой в отчаянии? А потом это прошло и сменилось другими страхами. Не окостенею ли я? Не стану ли все глубже погружаться в спячку, и тогда на вопрос “Как жизнь?” привычно буду отвечать: “Все нормально”.
Разделять боль с другими — порой выше моих сил, это порой ранит меня, и я ищу, как выбраться из ада борьбы. Но какое же это чудо — приходить туда, где каждого я могу попросить стать моим терапевтом, каждого из тех, кто ищет помощи у меня. И еще большее чудо: я получаю у них исцеление.
Три типа безумия
“Безумие”, “сумасшедший” — эти слова постоянно встречаются в работах Витакера, что требует разъяснения. В его ранних работах эти слова являются синонимом того, что на психоаналитическом языке называют “первичным процессом”. Для Витакера бессознательное есть источник творчества — подобно творческому бессознательному Отто Ранка, — и потому является здоровой частью человека, надо ее знать и пользоваться своим бессознательным, своим безумием.
Позже “безумие” стало обозначать любые спонтанные мысли и действия. Витакер скорее определяет его по структуре (непоследовательность, несвязность, парадоксальность), чем по содержанию (язык первичного процесса). В таком контексте “абсурд” превращается в синоним сумасшествия.
А в этой коротенькой заметке мы найдем клиническую феноменологию безумия. Три типа безумия определяет их мотивация: поиск близости, переживание близости или бегство. И не стоит думать, что это не слишком важная классификация. Например, большой ошибкой было бы прервать процесс, когда человек “сходит с ума”, или принять слишком всерьез (назначить лекарства, госпитализировать и так далее) ситуацию, когда человек просто “ведет себя” как безумный.
Не так уж трудно представить себе, что есть три разных вида психозов. Мы говорим: “Его свели с ума”, “Он сошел с ума” или “Он ведет себя как сумасшедший”. Логично предположить, что человек, которого свели с ума, чаще всего пациент, поступивший в психушку, есть тот, которого вытолкнули из дома, из мира близости, и он пытается найти свой дом в окружающем мире. Он пользуется инфантильным языком безумия, чтобы найти кого-то, кто ответит ему на этом примитивном, свободном языке близости, на котором он говорил со своей матерью... Попытка научить его снова играть в “нормального” иногда бывает успешной, но при каком-нибудь добавочном стрессе он легко возвращается к своему безумию. Чтобы помочь ему разрешить свое безумие, став сначала полностью сумасшедшим, то есть оставив всякие игры с терапевтом, ему нужен глубочайший опыт близости, более сильный, чем близость между ним и его матерью в первые два года жизни. А это ужасно трудно для терапевта, многие не желают подобной близости и так или иначе оставляют свои попытки ему помочь.
Тот, кто сходит с ума, относится к иной категории. Все мы более или менее играем в социальные игры и в то же время жадно мечтаем о возможности “заново родиться” и снова пережить свое младенчество, чтобы стать по-настоящему цельными людьми. Любой пациент, если предоставить ему такую возможность, входит в “терапевтический психоз”, направляемый и поддерживаемый компетентным и профессиональным терапевтом. Подобным образом люди “сходили с ума” во время трехдневной шизофрении, которую мы наблюдали во время Второй мировой войны. Подобное безумие очень зависит от контекста и опирается на близость между терапевтом и пациентом. Если терапевт не убегает от такого переживания, оно быстро проходит, и пациент продолжает терапию и становится более цельным, научившись погружаться в терапевтичные переживания своего иррационального, инфантильного, примитивного “Я” и возвращаться назад.
Третий вид безумия, когда человек ведет себя по-сумасшедшему, мало связан с близостью. Психотик, научившийся играть в социальные игры “нормальных” людей, обладает мощным оружием: он может снова играть сумасшедшего добровольно. Может быть, сам он не понимает, что обладает способностью включать и выключать свое безумное поведение; обычно он делает это под воздействием стресса. Но такое безумное поведение радикально отличается от двух других типов, и терапевт, знающий такого человека, легко может выключить такое поведение, просто не обращая на него внимания, смеясь над ним, презирая его или еще каким-то образом превращая в негодное для достижения цели средство. Тем не менее, сам факт, что пациент прибегает к такому незрелому способу справляться со своими проблемами, говорит о том, что ему нужна психотерапия, чтобы научить его более зрелым способам адаптации к социальной структуре.
Тупик
Написано совместно
с Джоном Воркентином и Нэном Джонсоном
Тупик всегда состояние двухстороннее. Пациент или терапевт по какой-то причине (возможно, из-за тревоги или отчаяния) подавили накал чувств, необходимый для того, чтобы терапия могла развиваться дальше. Симптомы всегда переживают оба: один участник, терапевт или пациент, замыкается в себе, а другой чувствует фрустрацию. Оба ощущают, что застряли, их чувства симметричны.
В настоящей статье описываются некоторые причины тупиков, большинство из них сводятся к тому, что терапевт недостаточно вовлечен в терапию. Есть много способов преодолевать или предупреждать ситуации тупика, но все они начинаются с того, что терапевт признает, что он застрял, то есть принимает свое бессилие. Когда ничего не получается и даже консультант извне ничем не может помочь, лучше, как считают авторы, по взаимному согласию закончить терапию, чем направлять пациента к другому терапевту.
Выход из тупика парадоксален: признать свою неудачу значит начать двигаться, переживание своего бессилия освобождает для новых действий6.
В короткой психотерапии часто происходит так, что продвижение вперед после первых нескольких встреч вдруг останавливается. Это особенно относится к терапии, построенной на взаимоотношениях доктора и пациента, в ходе которой мало подбадривают, не дают советов и не интерпретируют. Мы оставим проблемы инерции при самом начале терапии за рамками данной статьи. Мы сосредоточимся на тупике, на причинах его возникновения и на методах его преодоления.
Терапевтический тупик — это патовое состояние, когда процесс движения к терапевтической цели останавливается. Для иллюстрации приведем пример. Один пациент поступил в клинику в связи с гипертонической болезнью. Он считал, что причины повышения давления связаны с его эмоциями и в течение первых пяти встреч терапия шла успешно. Отношения с терапевтом установились, и пациент работал над двумя случаями, в которых можно было связать его головные боли с чувством агрессии. На шестой встрече пациент пожаловался, что ему ничего не приходит в голову, о чем хотелось бы поговорить. Он сказал: “Я чувствую, что-то еще есть, но в настоящий момент это что-то недоступно”. Встреча казалась бесполезной, и пациент, прощаясь с терапевтом, спросил: “Что же теперь делать?” Следующая встреча была такой же пустой, и пациент заметил: “Наши разговоры больше не помогают мне. Раньше было не так: я всегда чувствовал себя лучше после наших встреч”.
Из этого примера видно, что и пациент, и терапевт понимают: терапия застыла, они чувствуют себя неуверенно. Терапевтические переживания как бы потеряли свою яркость, в пациенте появляются цинизм и чувство безнадежности. Отношения разваливаются, и терапевт ощущает неудовлетворенность. Он вкладывает себя в терапию уже в меньшей степени, и она кажется просто потерей времени.
Обобщая, можно сказать, что в тупике всегда бледнеют взаимоотношения. Люди в той или иной форме замыкаются в себе, уходят в интеллектуальные дискуссии, концентрируются на симптомах, убегают в разговоры о событиях реальной жизни или просто сидят и молчат. Из-за такой поверхностности общения возникают раздражительность и неудовлетворенность. Пациент снимает с себя ответственность за процесс общения и просит терапевта им руководить. Он может просить о чем-то взамен терапии, просить, например, выписать лекарства, назначить электрошок, гипноз или амиталовые интервью. Он может даже просить о направлении к другому терапевту.
Тупик есть всегда неподвижность взаимоотношений терапевта и пациента. Главной его причиной не являются какие-либо технические ошибки: недостаточное исследование истории проблемы, неудачная манипуляция средой, неверная интерпретация или что-то еще. Скорее, причиной являются такие взаимоотношения, в которых пациент не может удовлетворить свои глубинные нужды. Он продолжает приходить, но что-то мешает терапии двигаться вперед.
Происхождение тупика зависит от двух динамических сил: пациента и терапевта. Пациент не в состоянии перенести свою зависимость от терапевта из-за того, что в прошлый раз, когда он был зависим, пережил крушение иллюзий и сильный страх. Другой пациент использует первые встречи с терапевтом просто для катарсиса, для уменьшения тревоги. Конечно, у каждого пациента имеются и более глубокие потребности, которые он не может удовлетворить до тех пор, пока взаимоотношения с терапевтом не будут достаточно стабильными.
Третий пациент боится, что у терапевта не хватит сил справиться с его надвигающимся психозом. Он продолжает работать с терапевтом, но не продвигается на более глубокий уровень.
Другой пациент хорошо начинает, устанавливаются сильные взаимоотношения с терапевтом, а затем терапия бывает парализована из-за того, что пациент боится быть отвергнутым. Такой пациент преувеличивает в своем восприятии любые знаки отвержения со стороны терапевта.
Еще пример. Пациент боится потерять свои старые способы адаптации к жизни, какими бы несовершенными они ни были. Он не может отказаться от определенного уровня своих психологических защит, иначе он окажется в растерянности. Вдобавок к этому, он сам сомневается в своей способности найти более удовлетворительный способ существования.
Наконец, пациент может бояться грядущего изменения, и тогда он начинает бессознательно манипулировать терапевтом, заставляя его отказаться от своей роли, создавая в терапевте замешательство. Это может быть достигнуто с помощью слез, юмора, злости, интеллектуальной приманки.
Какова же роль терапевта в возникновении тупика? Тупик возникает тогда, когда терапевту во взаимоотношениях не хватает чувства и энергии. Самый опытный терапевт может стать вялым, если у него слишком много работы или он перегружен другими проблемами. Например, когда психиатр осматривает десятки пациентов в день, ему трудно интенсивно чувствовать эмоциональный контакт с одним-единственным пациентом во время терапии. Подобная потеря витальности угрожает тому, у кого мало возможностей поговорить с коллегами и поделиться своими профессиональными переживаниями. Так же и новичку, начинающему работать с хроническими больными в госпитале, где терапия достаточно мало что меняет, потом бывает трудно найти в себе энергию для работы.
Вопрос о роли терапевта в развитии тупика упирается в вопрос о его мотивации. Первоначальная ясность цели теряется по ходу терапии. В первых интервью терапевт справлялся со своей ролью, но постепенно терапевтическая ситуация приобрела для терапевта еще какой-то дополнительный смысл, превратилась в средство избавления от своих неразрешенных напряжений. И сначала терапевт этого не понимает. А потом он открывает, например, что пытается удовлетворить эмоциональный голод своего пациента, ради этого продлевая время встречи. С другой стороны, его схожесть с пациентом нередко приводит к чрезмерной идентификации с ним. Терапевт может заметить, что в день встречи с каким-то особенным пациентом он надевает самый красивый галстук или напевает про себя любовную песенку сразу после его ухода. Повышенный интерес вызывают случаи, если им является бывший пациент коллеги, с которым терапевт соревнуется, очень богатый пациент или очень красивая пациентка. Многие факторы мешают терапевту работать адекватно, и все они делают тупиковую ситуацию возможной.
Терапевт может также потерять способность двигаться из-за страха перед всеми этими сложностями. Тогда он становится все более холодным и держится на дистанции, и вскоре отношения заходят в тупик. В то же время, он может слишком многого ожидать от пациента, с которым чрезмерно идентифицируется, не замечая, что пациент выражает желание закончить терапию. Сталкиваясь с тупиком, терапевт воспринимает терапию как неудачу, и это заставляет его выйти за рамки своей роли.
Наконец, есть еще один важнейший фактор прогресса терапии: убеждение терапевта в том, что пациент излечим. Когда терапевт начинает думать, что имеется дело со слишком плохой наследственностью или что пациенту становится только хуже от терапии, тогда его безнадежность заражает пациента и мешает ему идти вперед.
Есть несколько методов, которые помогают справиться с тупиковой ситуацией. Даже когда становится ясно, что отношения зашли в тупик, остается искушение как ни в чем не бывало продолжать обсуждение внутренних конфликтов пациента, лишь стараясь делать это более эффективно. Но продолжать уже проигранную битву за изменение пациента бессмысленно. Разумнее, если терапевт и пациент распознают свою общую проблему и попытаются выйти на какой-то иной уровень взаимоотношений. Терапевт должен взять на себя ответственность и инициативу в этой перемене взаимоотношений. У него есть, по крайней мере, три пути: (1) проконсультироваться с коллегой; (2) работать над этой проблемой вдвоем с пациентом; или (3) позвать консультанта к себе на терапию.
Польза от разговора с коллегой пропорциональна степени открытости терапевта в обсуждении своих чувств. После такой беседы терапевт может снова оценить и пересмотреть свои взаимоотношения с пациентом. И это нередко меняет динамику взаимоотношений, так что они становятся более эффективными. Беседа может происходить в контексте обучения терапевта и касаться интеллектуальных материй или быть по-настоящему живым разговором о терапии. Ее эффект часто становится заметен уже на следующей встрече с пациентом.
Теперь терапевт готов бросить вызов двум мотивациям — своей и пациента. И в этой новой борьбе он со свежими силами нападает на пациента, предпринимающего попытку убежать от взаимоотношений. Он более уверенно чувствует себя в своей роли и в большей мере способен пользоваться собственными силами. Это нелегко, потому что терапевт при этом как бы отвергает пациента. Он может сказать: “Меня беспокоит стена, выросшая между нами. Возможно, вы чувствуете, что я уже не с таким участием, как прежде, общаюсь с вами. Я бы хотел, чтобы мы попытались растопить этот лед”. Как бы там ни было, сама постановка вопроса свидетельствует о новой возможности углублять взаимоотношения.
Не всегда есть шанс поговорить с коллегами, или же терапевт сознательно избегает обсуждения своих трудностей. Может быть, обстоятельства вынуждают его справляться со своими проблемами без посторонней помощи. Тогда он должен сосредоточиться не на самом пациенте, а на сложностях взаимоотношений с ним. Раньше терапевт был внимателен к чувствам пациента, теперь он присваивает себе право выражать свои положительные и отрицательные чувства, касающиеся тупиковой ситуации.
Если терапевт уверен в себе, он может отвечать молчанием на поверхностные разговоры, уводящие в сторону от цели терапии. Возрастающее напряжение нередко вынуждает пациента в большей мере взять на себя ответственность за ход беседы. Иногда даже выражение агрессии по отношению к пациенту в связи с его неспособностью глубоко общаться прорывается сквозь барьер его цинизма. Терапевт может выразить свое недовольство словами: “Мне кажется, мы просто теряем время. Вы снова и снова приводите одни и те же жалобы. Нам надо как-то сдвинуться с мертвой точки”. Терапевт может даже напомнить о том, что пациент вправе прекратить терапию.
Третья альтернатива: приглашение консультанта, который станет катализатором для взаимоотношений. Терапевт может сказать пациенту: “Я хотел бы предложить, чтобы мы пригласили моего коллегу. Он может помочь нам. Как только мы решим, что нужда в его присутствии отпала, мы будем снова работать вдвоем”. Важно, чтобы терапевт чувствовал себя в присутствии консультанта уверенно. Пациенту обычно неприятно вторжение кого-то постороннего. Ситуацию усложняет и то обстоятельство, что и терапевт, и пациент будут напрягаться, поскольку предполагается, что оба они оказались неадекватными. Если они могут выразить свои проблемы, тогда консультанту легче стать катализатором их взаимоотношений. В этом треугольнике работу со своими мотивами логично начинать терапевту, тогда пациенту будет легче включиться попозже.
Присутствие консультанта помогает и тем, что на него как бы перекладывается часть ответственности за пациента, и терапевт свободен выразить то, что раньше скрывал из страха показаться незрелым. Даже если консультант не участвует в разговоре активно, само его присутствие облегчает терапевту выражать свои глубинные чувства. Появление консультанта также обозначает, что терапия идет неудачно. Хотя ранее терапевт и обсуждал этот факт с пациентом, в тот момент, когда вошел консультант, неудача сделалась зримой реальностью. Так усиливается интенсивность терапевтической ситуации, в результате чего взаимоотношения пациента и терапевта становятся крепче. Объединившись, они исключают консультанта. Любопытно, что они очень редко просят его прийти во второй раз.
Когда все попытки разрешить тупиковую ситуацию оказались безуспешными, неразумно направлять пациента к другому терапевту или же давать заместители терапии в виде гипноза, амитала или электрошока. Более ценным окажется следующее: следует постараться по обоюдному согласию закончить терапию. Это говорит пациенту о том, что для терапевта эмоциональные взаимоотношения представляются центральным моментом в терапии. Надо дать понять пациенту, что он всегда может вернуться и снова бороться за выход из тупика. Принятие факта неудачи и чувства неудовлетворенности могут изменить динамику личности в последующие недели или месяцы. Также с помощью терапевта пациент может осознать значение своей инициативы в окончании взаимоотношений, хотя это и означает отвержение терапевта.
Резюме
Психотерапевтический тупик определяется как состояние пата, когда приостанавливается всякое продвижение к терапевтической цели. Тупик всегда зависит и от пациента, и от терапевта, поскольку это не столько проблема техники, сколько проявление нарушения взаимоотношений. Пациент может бояться своей зависимости или отвержения со стороны терапевта. Иногда он стремится сохранить поверхностные отношения и для этого пытается манипулировать терапевтом. С другой стороны, терапевт способствует возникновению ситуации тупика, когда начинает предполагать, что пациент неизлечим, или же когда он перегружен делами, что не позволяет ему полностью окунуться в терапевтические отношения. Он может чрезмерно идентифицироваться с пациентом ради удовлетворения своих нужд или страдать от недостаточного контакта с коллегами, что снижает его заинтересованность и мотивированность в занятии психотерапией.
Мы обсуждали также методы разрешения тупиковой ситуации: консультации с коллегой, открытое обсуждение проблемы с пациентом и попытка вместе с ним работать над недостатками взаимоотношений или же приглашение консультанта на терапию. Последний метод имеет особенную ценность в трудных случаях. Если не удается восстановить нормальный процесс терапии, следует стремиться к его окончанию. Когда пациент способен отделиться, отвергнув терапевта, для него это тоже становится ценным терапевтическим опытом.
Тупик в психотерапии
При тупике в терапии оба конца качелей как бы касаются земли одновременно. С технической точки зрения, тупик — это взаимная симметрия взаимоотношений, контролируемая позитивной обратной связью. Ни один из участников не может двигаться к терапевтической цели. Терапевт отвечает за то, чтобы предотвратить тупик или выйти из него. Иногда, чтобы дать необходимую перспективу или вдохнуть новые чувства в старые взаимоотношения, нужен человек или событие, находящиеся за пределами закрытой системы.
Критика психотерапии обычно так или иначе связана с проблемой тупика. То мы жалуемся, что психотерапия плоха, поскольку пациент ничего от нее не получает и ничего не движется. То говорим, что она дурна тем, что продолжается без конца. Пациенты приходят к терапевту из-за того, что зашли в тупик в своей жизни. Так или иначе, они в патовом положении. Если такое положение продолжается долго, мы назовем их “ригидными” или “перегоревшими”. Они приходят и потому, что либо начали выходить, либо надеются выбраться, либо должны вырваться из тупика своей жизни. Психотерапия — микрокосм жизни. Если она не движется, нередко это означает, что наступил пат, что-то вроде холодной войны, когда терапевт и пациент заперты и не могут пошевелиться.
Проблема тупика касается отнюдь не только терапии. В Штатах сейчас [шестидесятые годы] мы можем видеть культурный тупик взаимоотношений черных и белых. Никто не может сдвинуться с места, а напряжение такого запертого состояния пугает. Мир все время кричит о тупиковых отношениях детей и родителей. Готов спорить, они были такими же и у пещерного человека между родителями и подростками. Многие браки сегодня проходят серию тупиков. “Десятилетний синдром” или “неудовлетворенность после семи лет” — метафоры такого застоя между двумя людьми, между группами людей или двумя состояниями бытия.
В тупике есть нечто от симметричного парного танца. Никто не может поменять правила танца, участники как бы связаны этими движениями и не способны переключиться на создание чего-то нового. Этот танец похож на взаимное неуважение. Процесс становится каким-то образом “больше нас самих”, как говорят влюбленные. Таков типичный двадцатилетний тупик взаимоотношений Соединенных Штатов и России. Важно, что в этой ситуации нет чего-то третьего, что превосходило бы эти страны и вбирало бы их в себя. Обе стороны как будто потеряли представление о своих целях. Если бы Штаты и Россия признавали ООН, они бы вышли из тупика и начали строить лучшую жизнь на земле. Может быть, это однажды произойдет. Мы знаем мертвые браки, в которых супруги сидят в своих креслах спиной к спине: она читает любовные романы, он — “Плейбой”. Доктор Шефлен называет таких супругов “кошмарной парочкой”.
Иногда в тупике оказываются трое.
Отец семейства Н. — толстый, мягкий, раздражительный, “мальчик лет семи”, склонный к истерикам. Шумный тиран, но без изюминки в своих эмоциональных бурях. Мать — немая фурия, каждый мускул зажат, готовая взорваться, но все это спрятано за образом идеальной, благородной и покладистой матери. С ними обоими и с их взаимоотношениями крепко связан их шестнадцатилетний сын. Язвительная усмешка пренебрежения, поведение, балансирующее на грани правонарушения, сочетались в нем с унижающими высказываниями в адрес отца и с саркастическим приторным брюзжанием при матери. Тупик в этой семье был интересен. Ни одно сочетание двоих людей не было стабильным. Отец с матерью начинали ссориться, затем отец дрался с сыном или мать с сыном начинали воспитывать отца. Такой треугольный тупик вертелся вокруг постоянной нестабильности, очень стабильной самой по себе.
В терапевтических взаимоотношениях двух людей тупик возникает на пике терапии, после того как с обеих сторон установился перенос. Терапевт и пациент предлагают друг другу свой образ и прячут за ним по обоюдному согласию свою личность. Они оба этим наслаждаются, танец идет и идет. Системный аналитик сказал бы, что две единицы, образующие систему, находятся под контролем и система хранит свое устойчивое равновесие.
Предупреждение развития тупиковой ситуации
Чтобы сознательно противостоять данному процессу, лучше заняться его профилактикой. Это вовлекает многие аспекты психотерапии. Раннее сознательное развитие ролевой структуры помогает терапевту предотвратить будущие тупики. Когда терапевт держит в своих руках все, что происходит в его “операционной”, пациенту труднее загнать его в жесткую ролевую нишу. Когда структура роли установлена, терапевт может с большим уважением относиться к обычному для пациента стилю жизни, не примешивая сюда своей жизни, — лишь свои чувства и свою личность. Предохраняют от тупика и всякие комментарии, например, объективное обсуждение переноса. Позже, когда возникают экзистенциальные отношения на равных, типичные для поздних стадий нормальной психотерапии, они не являются искусственными.
Ни для кого не новость, что можно выражать свои негативные чувства ради того, чтобы вырваться из тупика. Поскольку тупик развивается благодаря закрытости некоего особого пребывания вдвоем, свойственного почти всем видам психотерапий, можно сделать вывод, что раннее приглашение консультанта разрывает эту цепь. Хорошо, когда такой консультант является профессионалом, но часто можно достичь того же результата, пригласив других членов семьи или даже членов расширенной семьи, рассказав им о тупике взаимоотношений в терапии и попросив помочь своим участием. В ходе психотерапии любой свободный творческий поток общения предохраняет от закрытых патовых ходов. Свобода терапевта покинуть сцену — эмоционально или даже физически — также помогает. Если терапевт смело меняет свой ролевой репертуар, он создает необычные ситуации, после которых его трудно запереть в рамки неподвижной роли.
Выход из тупиковой ситуации
Простейший способ вырваться из тупика — объявить войну. Когда холодная война сменяется жаркой схваткой, все меняется. Войну может начать и выиграть, как это часто бывает, пациент. Он прерывает терапию, уходит или еще каким-либо образом разрывает отношения. Лучше, если войну начинает терапевт: тогда она может оставаться словесной и эмоциональной, может превратиться в часть процесса. Если пациент связал терапевта, потом очень сложно разогреть холодные взаимоотношения. Тем не менее, возможна и такая сознательная попытка, уже упоминавшаяся, сделать тупик их общей проблемой, как смиренное приглашение кого-то постороннего. Если это семейная психотерапия, можно оживить семейный роман. Если вы работаете с супружеской парой, можно начать подготовку к разводу. Затем развод может стать новой свадьбой. Самая трудная битва за преодоление тупика происходит при работе с шизофреником. Это всегда своего рода брак с последующим разводом терапевта и пациента, как об этом пишет Линднер. Это безумие для двоих.
Тупик при работе с шизофреником
Рискуя отклониться от темы, я хотел бы объяснить, как происходит рост шизофреника в процессе психотерапии. У шизофреника перенос развивается благодаря тому, что терапевт похож на его мать: мать создавала двойную связь, то же самое делает и терапевт. У них устанавливаются взаимоотношения, в которых терапевт дает двойную связь пациенту и пациент дает двойную связь терапевту. Связь постепенно становится все теснее и теснее, и они в конце концов настолько прикованы друг к другу, что не могут оба отвечать за свои движения. В самом деле, каждый из них способен что-то изменить лишь в ничтожно малой степени. Такое состояние было присуще и отношениям пациента с матерью. Мы знаем, что когда каким-то неведомым пока еще образом пациенту удается выздороветь и выписаться из больницы, часто его мать сама попадает в больницу или сходит с ума. Предполагая, что таковы же и отношения с терапевтом, можно понять, что пациент не осмеливается выздороветь из страха, как бы терапевт не сошел с ума. С другой стороны, терапевт вступил в такие отношения добровольно, а моя цель состоит в том, чтобы полнее встретиться со своим собственным безумием. Так что когда мы с пациентом заперты в тупике нашей обоюдной, восьмеркообразной по конфигурации, двойной связи, я намереваюсь поиграть с моим безумием в гомеостазе наших отношений. Когда я “схожу с ума”, пациенту ничего не остается, как стать как бы антишизофреником в противовес моей шизофрении. Мы в псевдотупике, и каждый из нас способен влиять на другого. Но я, как терапевт, хочу быть “сумасшедшим”, а он, как пациент, тем самым вынужден стать “нормальным”. Как только мы начали так вместе двигаться, амплитуда движений (если все идет хорошо) становится все больше и больше, пока мы не отделяемся друг от друга. И надо добавить к этому “танцу” еще одну вещь. Поскольку для каждого из нас остается возможность уйти, мы способны любить друг друга, и это такая любовь, которая наслаждается успехом другого, а не только своим. При такой любви постепенно происходит отдаление, а точнее, движение в мир каждого из нас, при взаимном уважении к жизни и открытости другого. Любовь продолжается, не прекращаясь, но свобода растет.
Когда нет тупика во взаимоотношениях, не означает ли это, что нет и любви? Почему бы не начать преодолевать тупики один за другим с каждым психотиком? Я отвечу, почему. Общество борется с моим сумасшествием. Каждый раз, когда я сражаюсь против сил, загоняющих меня в социальные тупики, я боюсь!
Окончание терапии путем
административного решения
Нигде так глубоко не проявляется профессиональное искусство психотерапевта, как в его умении сказать “до свидания” в нужное время. Витакер напоминает, что терапия может стать бесконечной в том случае, когда терапевту трудно вынести разлуку. Нам столь свойственно недооценивать силу пациента и переоценивать вред, который нанесет наш уход.
С годами в работе Витакера появилось множество разнообразных вариантов — прямых и косвенных — прекращения терапии. Он может предложить пациенту прекратить терапию и пойти попытаться какое-то время самому решить свою проблему. Или же он с самого начала начинает договариваться об ограниченном количестве встреч. В любом случае терапевт как администратор, отвечающий за структуру терапии, должен сохранить за собой свободу прекратить терапию, когда это нужно.
В диснеевском мультфильме про медведей есть такая сценка: мама-медведица сажает двоих детенышей на дерево, строго велит им сидеть и уходит навсегда. Они через какое-то время начинают чувствовать голод, слезают на землю и открывают, что сами должны о себе позаботиться. Это неплохая модель психотерапии, вопреки нашим обычным представлениям. Много лет назад Отто Ранк уже экспериментировал с такой формой терапии, когда заранее было обговорено время ее завершения7. Никто не обратил на это внимания. Каждый из нас встречал пациентов, которые были вынуждены прекратить терапию под давлением факторов реальности, таких, например, как перемена работы или смерть терапевта. Недавно 65 моих пациентов потеряли своего терапевта, когда я переехал в другой штат. Это заставило меня понять важность такого рода окончания терапии, и мне вспомнились другие аналогичные случаи из практики. Удовольствие от постоянства, когда на протяжении долгого времени ты встречаешь знакомого пациента и проводишь с ним время в удивительной близости, способствует тому, что процесс завершения терапии легко упустить из виду.
Мэри — медсестра, работающая в области психиатрии. Много лет ее первый психотерапевт назад жестоко обманул доверие Мэри. Он использовал содержание их терапии для того, чтобы уволить ее с работы по причине нарушения дисциплины. С того времени у нее стали развиваться тяжелое легочное заболевание и алкоголизм. Я работал с ней на протяжении полутора лет, и это был хаотичный и порой крайне бурный процесс. Она оставила свой цинизм, перестала пить, стала теплой и чуткой женщиной. А затем что-то стало нам мешать. Мы старались преодолеть препятствие, но ничего не помогало, состояние пациентки ухудшалось. В то время я еще не научился использовать консультанта или второго терапевта в ситуациях неудачи. В своих мучениях я не видел другого выхода, кроме окончания терапии. Я решил, что она получила от меня все, что я способен был ей дать. Она найдет другого терапевта или попробует сама решать свои проблемы. Я сказал ей об этом, добавив, что больше ни при каких обстоятельствах не соглашусь быть ее терапевтом. Через неделю она пришла в обычный час наших встреч. Я сказал, что занят с другим пациентом, и она убедилась, что я не собираюсь разговаривать с ней. Она сказала возмущенно: “Вот что. Вы не помешаете мне любить вас и не заставите себя разлюбить меня, что бы вы ни делали”, а потом повернулась и ушла. Больше я не встречал ее, но последние лет пять на Рождество она посылает открытки, где рассказывает о своих делах и поздравляет меня с праздником.
Такое административное завершение терапии похоже на то, что делал Ранк. Правда, в данном случае оно не было заранее запланировано, но на этом примере мы можем наблюдать ценность административного решения о личных взаимоотношениях.
Недавно я в течение девяти месяцев прощался со своими шестьюдесятью пятью пациентами перед отъездом из Атланты. Около восемнадцати пациентов решили продолжать терапию. Часть из них сделали это в согласии с моими намерениями, и такое решение было конструктивным. У многих пациентов мой отъезд вызвал стремление к росту и к большей свободе выражение ненависти и любви, чего они не могли сделать раньше.
Очевидно, что парадоксальным образом административная сторона психотерапии всегда находится в конфликте с ее терапевтическим аспектом. Профессиональный психотерапевт должен одновременно пребывать и внутри взаимоотношения с пациентом, и вне его. Эти взаимоотношения носят личный и в то же время профессиональный характер. Административную сторону терапевтической ситуации можно назвать игрой, но сами отношения — это вопрос жизни и смерти. Административная сторона терапии механистична, социальна, подчиняется правилам, но в то же время эти взаимоотношения личные и близкие, они наполнены чувствами. Короче, можно сказать, что административная сторона психотерапии есть роль, а терапевтические взаимоотношения в своих лучших проявлениях выходят за рамки роли; это отношения, не подчиненные цели, отношения сердцем к сердцу. И тем не менее свобода административных решений может сосуществовать с глубокими терапевтическими взаимоотношениями. Когда административное решение основано на реальности, терапевт имеет на него право, даже когда разрыв отношений ранит как его, так и пациента. В клинике психического здоровья детей терапевты хорошо понимают, что надо заранее планировать вместе с ребенком окончание работы, и когда срок определен, важно закончить терапию согласно временным рамкам. То же самое возможно и со взрослыми пациентами, но часто терапевты, погруженные в удовольствие от взаимоотношений, забывают об этом. Когда я пытался это понять, то стал думать о том, не боится ли окончания, похожего на смерть, сам терапевт, нет ли у него тайного ощущения, что он убивает пациента? Но разрушить таким образом он может, наверное, лишь собственный бред величия. Скорее всего, пациент способен прожить и без него.
Иногда бывает наоборот: терапевту становится скучно регулярно встречаться с пациентом или его злит бесконечное повторение одних и тех же симптомов и своего рода зависимость, которая связывает и его самого, и пациента. И в таком случае также лучше открыто выразить пациенту и свою скуку, и свою злобу. Если пациенты не могут разрешить такую проблему, то, по моему мнению, раздраженному терапевту лучше закончить терапию. Он может сказать пациенту: “Я настолько сердит на вас за нежелание измениться, что больше не могу с вами работать. Вы можете пойти к кому-то еще или попытайтесь бороться за свою жизнь самостоятельно, но я не буду для вас костылем”. Терапевт может даже сказать так: “Моя злость так сильна, что я более не способен быть вам полезным. Поэтому, имея проблему неразрешенной агрессии, мы не в состоянии далее продолжать, хотя подобное решение и предполагает окончание вашей терапии и факт моей профессиональной неудачи”.
Использование агрессии
в психотерапии
В этой главе Витакер размышляет об агрессии психотерапевта, большей частью в условиях групповой терапии. Он считает, что следует различать утверждение себя и враждебность, две разновидности агрессии. Утверждая себя, мы определяем свои границы, ищем свое “Я” перед лицом другого. Враждебность стремится ранить или разрушить другого. Можно увидеть, что в обоих случаях агрессия устанавливает взаимоотношения. В одном случае это симметричные взаимоотношения, где я и другой экзистенциально равны. В другом случае это комплементарные взаимоотношения, отношения господства и подчинения. И по содержанию действия (если мы, например, на кого-то кричим) мы не можем отличить утверждение себя от вражды. Все определяет структура отношений, появляющаяся в результате подобного агрессивного действия.
Эта глава могла бы называться так: “Почему в психотерапии одной любви недостаточно”. Если терапевт верит в то, что у пациента есть биологическое стремление к росту и целостности (как и у самого терапевта) и что рост появляется в отношениях близости, он должен быть агрессивным. Отказываясь от экзистенциального равенства, терапевт превращается из человека в техника. Тогда он воплощает собою миф о всемогущем родителе и убеждение, что во взаимоотношениях любовь надо отделять от ненависти. Выражение своего “Я” терапевтом дает пациенту возможность ощутить свою ценность, он уже чувствует себя человеком, а не предметом, и ему труднее видеть в терапевте только проекцию.
Мы, как специалисты, утверждает Витакер, хорошо умеем как замечать злость в наших пациентах, так и в скрывать нашу собственную злость от самих себя. Злость может наряжаться в самые разные одежды. Наша злость в конечном итоге — это агрессия, лишенная права голоса, агрессия, отражающая наш бессознательный отказ от права быть самим собой, определять свое “Я” в терапевтическом процессе.
Я хотел бы поговорить об агрессии, развивая тему в стиле фуги Баха (я, разумеется, имею в виду не Джорджа Баха). Я хочу, чтобы звучала как тема агрессии, так и ее контрапункт, тогда можно представить себе цельный процесс психотерапии. Важно поговорить именно об использовании агрессии, поскольку мало кто ей сознательно пользуется и поскольку агрессия есть вещь неприемлемая, с точки зрения общества. В аудитории присутствуют богословы, и я процитирую слова Христа: “Не мир пришел Я принести, но меч”. Агрессия входит в диалектику естественного человеческого стремления вступать во взаимоотношения с другим. Всем нам свойственно вовлекаться в отношения, и агрессия — часть этого процесса.
Агрессивность пациента — избитая истина, и в нашей культуре убийство по значимости намного превосходит любовь. Если вы кого-нибудь убьете, общество воздаст вам по принципу “око за око”. Если же вы переспите со своей матерью, мы скажем, что это “плохой поступок”, но внутри себя подумаем: “О, счастливчик”. Только в кабинете психотерапевта любовь стоит на первом месте по сравнению с агрессией во взаимоотношениях, и я искренне думаю, что это может мешать психотерапевтическому процессу. Говоря об агрессивности пациентов, Дэвид Леви8 однажды сказал: “Глубинные эмоции гнева у пациента можно открыть только с помощью агрессии терапевта”, — а мы хотим, чтобы эта ценная вещь принадлежала только пациенту, чтобы только он переживал то, что происходит между нами, чтобы только он был агрессивным.
Роль психотерапевта
Это ставит вопрос о нашей роли и функции. Должны ли мы быть какими-то миссионерами добрых дел, которые помогают каждому прийти туда, куда ему, по нашему мнению, надо прийти? Или же мы похожи на шизофреников, приносящих себя в жертву ради того, чтобы мать хорошо себя чувствовала? Кто-то предполагал, что у всех психотерапевтов родители — шизофреники. Я думаю, это не так. Слишком не вяжется со всем остальным. Если бы это было правдой, нам надо было бы снова задуматься над тем старым вопросом, не похоже ли наше самопожертвование на стиль жизни шизофреника? Не хотим ли мы, в самом деле, стать “никем”, чтобы мать с отцом были счастливы, не жертвуем ли самими собой, ради того, чтобы чего-то добиться? Наблюдения показывают, что терапевт — человек, отклоняющийся от норм в любой группе, а это та же самая мысль, выраженная другими словами. Если мы хотим посвятить себя психотерапии и жертвуем собой, становимся кем-то вроде курицы-наседки, возможно, родившись с этой способностью или обучившись в раннем детстве кормить грудью других, то перед нами возникает вопрос: верим ли мы, что у пациента существует биологический импульс, который защитит нас, когда мы погрузимся во взаимоотношения? Достаточно ли в нем содержится тревоги для выздоровления, чтобы мы могли общаться с пациентом как живые люди, или же лучше сказать: “Сяду-ка я подальше от него и послушаю, я — просто техник, буду вести себя предусмотрительно, осторожно; пока он остается в роли пациента, я в безопасности”?
Это для меня наиважнейший вопрос: если мы верим в то, что у каждого человека есть биологическое стремление к росту и целостности, тогда естественны и наши попытки активизировать такое стремление при установлении глубоких личных взаимоотношений с пациентом. Я подозреваю, что можно классифицировать терапевтов по тому признаку, в какой степени они отдают себя пациенту в процессе психотерапии. И у меня появится искушение судить по данной классификации также о том, что это за люди. Особенно это относится к агрессии. Можно отдаться сексуальным чувствам или чувству материнской нежности: они социально приемлемы. Пациенту трудно понять, что это: верхний слой любви, или проявление глубинной агрессии. Про любовь мы всегда можем, оправдывая себя, сказать, что это проявление социального качества, мы просто стремились быть теплыми, дружелюбными и человечными. Но, выражая агрессию, мы подставляем свою шею возмездию общества.
Использование агрессии в групповой терапии
Нас часто предостерегают относительно агрессии. В Библии в Книге Притч говорится: “Может ли человек нести за пазухой огонь и не обжечься?” Почему надо открывать свои агрессивные чувства? Не достаточно ли для пациента его собственных? Не достаточно ли ему нашей любви, близости, нежности и тепла, нашей идентификации с ним? И снова Библия говорит нам: “Лучше открытое обличение, чем тайная любовь”. И еще: “Тот, кто скрывает гнев за улыбкой своих уст, глупец”. Я сейчас говорю не о нашей профессии, но, может быть, эти правила приложимы и к терапии. Я хотел бы также процитировать доктора Винникотта, лондонского педиатра, ставшего детским психоаналитиком. Среди его работ есть прекрасная статья под названием “Ненависть и контрперенос”, где он очень глубоко рассматривает проблемы, о которых мы сегодня говорим. Он, например, пишет: “Нельзя ожидать от пациента-психотика, что он сможет переносить свою ненависть до того момента, как почувствует ненависть аналитика”. Эти слова могут нас напугать, но они хорошо объясняют, почему в групповой терапии надо пользоваться своей агрессией.
Прежде всего, группа во многом похожа на психотика. Я даже не буду говорить обо всех сторонах этого сходства, вы можете их сами домыслить. Мы можем полностью идентифицироваться с группой, можем стать членами группы или вести группу. Но идентификация с группой — не то же самое, что идентификация с пациентом: она уникальна. Подобная идентификация возникает в терапии пар или в семейной терапии. Другой аспект групповой терапии, напоминающий работу с психотиком, состоит в том, что группа очень часто (мне даже хочется сказать — всегда) смотрит на терапевта сверху вниз. Он может сознавать данный факт или, обманывая себя, его отбрасывать, но я считаю, что обычно это так. Третья черта: группа всегда сильнее терапевта, что тоже напоминает отношения с пациентом-психотиком. Я не говорю, что психотик во всем сильнее терапевта, но есть такие вещи, в которых он сильнее.
Нам надо пользоваться агрессией в психотерапии по той причине, что фантазия о всеприемлющем терапевте — это модель объективного психоаналитика-исследователя. А терапевт, если он действительно хочет быть терапевтом, а не техником, должен быть личностью.
Суть психотерапии составляют взаимоотношения двух людей. Взаимоотношения, наполненные эмоциями, а не “изучением жизни”, поэтому интерпретации представляют слишком слабый ответ на нужды пациента. Это в особой мере относится к группам9. Чувства, которые испытывают люди при встрече лицом к лицу, всегда взаимны и всегда влияют друг на друга. Если мы так считаем, значит, момент встречи с группой или с пациентом есть что-то вроде открытия: оказывается, соседский мальчишка — мой достойный противник. Встреча с достойным противником — особый род взаимоотношений. Чтобы процесс терапии продвигался и вел к изменениям, пациент должен все больше познавать своего терапевта, с которым он вместе работает над своим выздоровлением и построением новой жизни. В терапевтическом общем танце жизненно важную роль играют именно чувства терапевта. Какими бы ни были эти чувства, позитивными или негативными, социально приемлемыми или нет, всегда важнейшее место среди них занимает агрессия. Как человек, терапевт, даже если бы он и мог это сделать, не должен сдерживать свои агрессивные чувства. Сначала их можно сдерживать, на какое-то время, но если так происходит всегда, это приведет терапевта в состояние глубокой апатии, и терапия окажется в тупике. При образовании новой группы отношения растут постепенно: любовь и ненависть увеличиваются в равной мере. Иллюзия, что можно научить пациента любить, можно помочь ему испытывать позитивные чувства к самому себе, исключив негативные, похожа на попытку добыть электричество из батарейки, присоединив провод только к одному из ее полюсов.
Если это верно, то возникает вопрос: что помогает компетентному терапевту в группе или с пациентом конструктивно переживать свою агрессию и ее использовать? Первый и самый очевидный ответ на данный вопрос таков: он должен уметь превращаться в ребенка, и ему следует побыть какое-то время пациентом. Это звучит банально. Есть множество терапевтов, которые считают, что они могут прекрасно работать, никогда не испытывая переживаний пациента. Не думаю, что это возможно. Я бы не хотел в моей клинике работать с терапевтом, который не был пациентом психотерапевта. После того, как будущий терапевт побыл пациентом, наступает другой период, который я бы назвал, в очередной раз пользуясь богословским языком, “сорокадневным пребыванием в пустыне”. Это период одиночества, период открытия самого себя, описанный Кьеркегором. После него — а мы пока говорим о подготовке — человек может начать путь профессионального терапевта. Сравнительно несложно научиться кормить других или, иными словами, научиться материнской функции: питать, принимать, утешать. Но нужно научиться и другой функции: агрессивному взаимодействию, требовательности, научиться кастрировать.
Агрессия и самоуважение
В процессе работы осколки нашей собственной психопатологии временами неизбежно проявляются и ранят пациента. Эти осколки в индивидуальной терапии сравнительно незначительны, но при работе с психотиком или с группой они весьма ощутимы. Поэтому профессиональный терапевт, собирающийся использовать свою агрессию, должен быть достаточно опытным, чтобы уметь в нужное время доставать эти обломки психопатологии из своей коллекции. И чтобы не умереть, профессиональному терапевту следует постоянно стремиться к росту, преодолевая себя. Это означает, что он не боится переживаний, он может рискнуть и сделать нечто большее, чем просто сидеть с пациентом, слушать, просто кивать и мурлыкать: “Так-так”. Том Мейн, которого вы могли слышать, когда он рассказывал об Англии во время войны, этот человек с отцовскими чертами развивал в себе материнскую сторону, прибегая к кормлению из бутылочки и предлагая ее каждому психотику из солдат, с группами которых он работал. Том Мейн открыл зависть к груди, которую мы, убогие мужчины, никак не можем признать, предпочитая рассуждать о зависти женщин к пенису. Винникотт, который, как я предполагаю, прекрасно освоил педиатрию, заинтересовался психотерапией потому, что хотел побольше узнать об агрессии. Он говорит о так называемой оправданной ненависти или “объективной ненависти”, когда мы что-то ненавидим таким же образом, как это бывает в обычной жизни. Как профессионалы, мы способны не только кормить, но еще и драться. Сегодня мы обсуждаем вопрос, как научиться драться и каким образом это делать — в эмоциональном смысле — в нашей работе. Рост каждого человека происходит по-своему, но наша решимость быть открытым для переживаний требует свободы, а свобода быть агрессивным в нашем обществе сильно ограничена.
Я хочу привести один пример. Когда-то я работал с детьми-правонарушителями. В закрытом заведении за городом их жило около трехсот человек, они были направлены сюда и выбраны из 2600 случаев. Их дела рассматривал суд, а социальные работники опекали этих детей в их семьях или детских домах. В нашем лагере находились маленькие дети, прирожденные “козлы отпущения”, большей частью мальчики. Обычно их били от одного до восьми раз в день, били те, кому они попадались под руку. Мелкие и крупные, образованные или простые — все они искусно навлекали на себя агрессию. Я стал работать с ними как психотерапевт. Когда вследствие терапии в них росло уважение к себе, они доходили до такой точки, где что-то внезапно менялось и они начинали драться. Чаще всего другие побеждали их, но теперь кто кого побьет — не играло никакой роли. С этого момента их новое самосознание начинали воспринимать все окружающие дети, и они переходили из разряда “козлов отпущения” в разряд людей. Драки продолжались и после, но никто уже не трогал их просто для того, чтобы выразить свою спроецированную злость. И очевидно, это не имело отношения к тому, что они дадут сдачи. Все это имело отношение к их самоуважению, к некоему внутреннему качеству. О нем мы сегодня и говорим. Возможность быть личностью в нашем обществе мы получаем только через агрессию. Общество требует, чтобы мы были послушными, не сердились, не сходили с ума, поскольку безумие — удел отребья. Мы можем завоевать самоуважение только тогда, когда пытаемся вырваться из навязанной роли “козла отпущения”. Может быть, это свойственно группе таких людей, как психотерапевты. Терапевт, который может быть агрессивным, учит группу или пациента, что агрессия — такое же чувство, как и все прочие чувства. Ее не нужно проецировать на других, когда ты сознаешь, что она — твое чувство. Это в какой то мере предохраняет и от отыгрывания в поведении. Когда терапевт не выражает своей агрессии в психотерапии, а это, согласно общепринятым взглядам, соответствует культурным нормам поведения (держи свою злость при себе, не выплескивай свое раздражение), когда вы скрываете ее от группы или от пациента в терапии, значит, им не повезло, поскольку им приходится нести бремя вашей агрессии. И эта агрессия, накопленная группой или пациентом, вскоре связывает вас, делая их апатичными и заводя отношения в тупик. Вы оказываетесь в сложной ситуации, где всякое движение парализовано.
На эту тему мне вспоминается один случай. Много лет тому назад я работал с пожилой женщиной. У ее мужа был очень скверный характер, вдобавок он был алкоголиком, и я сердился на него, поскольку он не хотел участвовать в терапии. И однажды я понял, что нагружаю ее моей злостью, относящейся к нему. Я делал грязное дело: думая, что хочу научить ее противостоять этому человеку, я на самом деле нарушал баланс их взаимоотношений, вещь гораздо более сложную, чем просто умение жены давать мужу сдачу. Я не думаю, что психотерапия учит пациента только драться. Не так все просто. Приведу еще один пример.
Ко мне пришла женщина с шизофренией, жалуясь на то, что какой-то доктор выписал ей транквилизаторы и от них ее состояние ухудшилось. Я работал с ней года два и обнаружил, что она задолжала мне за терапию около 700 долларов. Я попросил секретаршу отметить этот факт и на следующей встрече показал пациентке счет. Она сказала: “Да, я знаю”, — и мы продолжали обычную работу. На следующей встрече я опять поднял вопрос об оплате. На этот раз я уже был несколько сердит. Она в ответ просто засмеялась и сказала: “Я все оплачу”. На следующей встрече опять пришлось говорить об этом. Она рассердилась, и потом мы перешли к терапии. Затем, на очередной встрече, я вновь опять показал ей счет, действительно разозлившись. Я сказал тогда: “Думаю, что не только вы ничего не получите от психотерапии, так как живете под гнетом вины за то, что задолжали мне деньги, я сам тоже ни на что не способен, поскольку чертовски зол”. В пациентке тоже возрастало раздражение, в этот раз оно разрешилось парадоксальным образом. Женщина стала мягкой. В течение нескольких следующих месяцев каждый раз, оплачивая мою работу, она сильно злилась на этого сукина сына, своего терапевта. Называла подлым убожеством, очень умело ругала, зная, как коснуться моих больных мест. Шизофреники умеют это делать, у них в арсенале имеется множество способов. Она говорила, что я напоминаю собаку, перечисляла различные породы собак и подробно объясняла, почему и как я на них похож. Но эта драка была такого рода, от которой можно получать удовольствие и многому научиться, если инициатива в ней принадлежит пациенту. Похоже на драку с трехлетним ребенком, который колотит вас кулаками. Но возникает вопрос: что делать, когда дерется не трехлетний ребенок? Когда на вас, например, накидывается группа? Эти люди не будут драться с вами так нежно, тепло и весело, как моя пациентка.
Определение понятия “агрессия”
А теперь я хочу вернуться на шаг назад и дать определение разным видам агрессии. Для этого я воспользуюсь значениями данного слова. У него два различных аспекта. Я рекомендую вам прочесть любопытную книгу Эрика Партриджа о происхождении терминов и понятий. Один из аспектов понятия “агрессия” — это утверждение себя. Оно связано с такими смысловыми оттенками слова, как “добыть пропитание”, “оказаться рядом, подойти”. Очень интересное слово. Обычно эти значения мы не соотносим с агрессией. Другой смысл подразумевает вражду, поскольку и утверждение себя, и вражда идут рядом. Вражда заставляет как нападать, так и разрушать противника. И я бы хотел разделить два последних понятия, чтобы научиться отвечать на вопрос, где мы находимся с нашей агрессией.
Я буду говорить в основном о терапевте, поскольку он в данном случае важнее, чем пациент. Сначала мы сами должны понять, что нам делать с нашей агрессией. Когда работаешь с парой, всегда изумляешься, глядя, как каждый из них хорошо понимает, что не в порядке у его партнера. Каждый из них искренне считает, что вам надо поработать с другим и тогда все будет хорошо. То же самое происходит у терапевта с пациентом. Мы убеждены, что можем исправить пациента, если только тот инициативен, если он готов к психотерапии. Когда терапевт утверждает сам себя, это разрушает влияние контрпереноса, препятствующего биологическому стремлению пациента к зрелости и целостности. Если терапевт отстаивает себя, какой-то свой импульс, в группе происходит экзистенциальное столкновение, открытое, прямое, где не нужно себя сдерживать. Но это относится только к утверждению собственной личности. Если же это проявление враждебности и желания разрушить, атаковать другого, тогда оно неестественно и опасно, — в том случае, когда группа об этом не просит. Подобное утверждение становится, по выражению Дженнифера,10 “оправданной ненавистью” или “объективной ненавистью”. Когда пациент в моем кабинете берет со стола керамическую пепельницу и разбивает ее об стол, это “война”. Оправданная ненависть — ценная вещь в терапии. Почему так произошло? Что заставило старую деву, с которой я четыре года работаю в группе и жизнь которой за пределами терапии столь бедна, дойти до точки, когда она вдруг ощутила поддержку группы в достаточной мере, чтобы сделать с моей пепельницей и моим столом то, что хотела бы сделать с моей головой? Я могу это понять, но все же злюсь. Терапевт должен быть достаточно зрелым человеком, чтобы в терапевтических взаимоотношениях сдерживать свою злость в нужное время. Допустим, пациент, который пришел со своей женой, на первой или второй встрече аккуратно опрокидывает чашку кофе на мой прекрасный белый ковер. Было бы неадекватно сердиться на него. Это было бы не терапевтическое взаимодействие, а просто социальное. Пришлось бы игнорировать его боль, его тревогу в новой терапевтической ситуации. Нормально, что я злюсь: ведь это мой белый ковер. Но не надо обременять пациента моими чувствами сейчас: ему хватает своих забот.
Если вы сдерживаете ваше самоутверждение, если на группе отрицаете сами себя, отказываетесь от ваших прав, от своей личности, это ведет к тупику. Приведу еще один пример. Около пяти лет назад в группе у нас возникал прелестный спор на тему, кто в какое кресло сядет. В комнате находился круглый стол и восемь кресел: некоторые удобные, некоторые — не очень. Обычно группа собиралась раньше, чем приходил я. Нередко они оставались на какое-то время и после моего ухода. Я сражался за кресло, на котором хотел сидеть, иногда физически, когда кто-нибудь еще одновременно устремлялся к желанному креслу и решался вопрос, кто первый его займет. Такое утверждение, определение себя, борьба за свои права, думаю, придает взаимоотношениям экзистенциальную прямоту. Это может выражаться самыми разными способами. Иногда я борюсь за право рассказать свой сон группе, и мне приходится сражаться изо всех сил. У меня не меньше прав, чем у них. На самом деле, даже больше, потому что я обязан быть личностью.
Агрессия как самоутверждение
При агрессии в форме самоутверждения вы получаете удовольствие от борьбы с другим человеком. Это, если хотите, любовная игра терапевта и пациента. Если вы скрываете в себе чувство агрессии, в группе возникают проблемы. Но агрессия в форме вражды и ненависти неуместна, если рядом с вами не сидит ко-терапевт — тот, кто поможет вам должным образом обращаться с этим чувством. В нашей клинике в тех случаях, когда наступает тупик в результате враждебного отношения терапевта к пациенту, мы снова приглашаем консультанта. Он предлагает пациенту стать помощником, чтобы они вместе могли справиться с проблемой злости терапевта.
Но когда пациент объявляет войну по своей инициативе, это другой случай. Недавно один из наших сотрудников работал с женщиной раз в неделю на протяжении пяти-шести месяцев. В процессе терапии постепенно стало ясно, что надо пригласить ее мужа, крайне параноидного человека. И тот пришел. Терапевт разозлился на его подозрительный характер, но ничего об этом не сказал. Так он сдерживал себя месяца два или три. Муж приходил, садился, а терапевт продолжал работать с женой. Однажды муж спросил: “Что я по-вашему тут делаю? И есть ли какой-то прогресс? Происходит ли что-нибудь вообще? Стало ли лучше моей жене?” И тут терапевт сорвался: “Не знаю, достигли мы чего-нибудь или нет, но знаю, что мне неприятно работать с вами. Я не жду наших встреч и не получаю от их радости. Мне не нравится ваше поведение во время терапии, мне все это противно. Но я обязан помочь вашей жене. Я хотел с ней работать, но уверяю вас, мне очень тяжело, не так, как я себе это представлял, и виноваты в этом вы”. В данной ситуации мы имеем дело с проявлением вражды, а не утверждением себя. Но когда пациент сам напрашивается на враждебное отношение, ему гораздо легче конструктивно перенести подобную агрессивность терапевта, чем когда это происходит не по его инициативе.
Все намного проще, если вы начали выражать свою агрессию с первых встреч. Когда вы позволяете агрессии накапливаться, а перед пациентом представляете любящую мать, сидящую и наблюдающую, как растут детишки, а потом внезапно мать исчезает и появляется этакий сердитый сукин сын, тогда возникают проблемы.
Есть одна хорошая история на эту тему про трех проповедников в Гайд-парке. Они стоят на ящиках из-под мыла и вещают прохожим. Один говорит: “Вы — дети Божии, вы сотворены по Его образу, ваш свет светит на Него, и Он этому радуется”. И так далее в том же духе. Толпа кидает ему пенсы. Другой оратор, обращаясь к собравшейся вокруг него группе, говорит: “Вы, в сущности, неплохие люди, вы — Божии дети, но вы живете неправильно, и надо сделать ваш путь прямым, вам надо исправиться”. И толпа швыряет ему четвертаки. А чуть поодаль еще один проповедник и говорит: “Все вы мерзки, все вы грязны, вы — дети дьявола, мусор на лице земли”. И люди бросают ему золотые монеты.
Типичная история. В этом мы недавно могли убедиться в клинике. К нам пришел один пациент, очень компетентный и способный человек, сейчас убедитесь сами. Примерно на пятой встрече он спросил терапевта: “Доктор, а я вам нравлюсь?” Тот ответил: “Да, нравитесь”. Пациент сказал: “Я имею в виду, нравлюсь ли я вам как человек?” Терапевт повторил: “Да”. Тогда пациент уточнил: “Я хочу понять: я нравлюсь вам как человек? Вам, как человеку, я нравлюсь?” “Да, вы мне нравитесь”, — вновь ответил терапевт. И тогда пациент попросил: “А не могли бы вы направить меня к другому терапевту?” И потом пояснил: “Если вам действительно нравится такой человек, как я, то трудно поверить в вашу мудрость”. Можно понять его таким образом: он увидел, что терапевт похож на его родителей, и подумал, что тот будет его так же использовать, как использовали родители. Думаю, он преподал нам хороший урок.
Противопоказания
Каковы же противопоказания для свободного проявления агрессии терапевта? Некоторые, очень специфичные, были уже упомянуты. Очевидно, если вы сами никогда не были пациентом психотерапевта, нельзя доверять своей агрессии и поддаваться искушению превращать группу или пациента в своего терапевта или проецировать на них свои глубинные личные нужды. Когда терапевт неопытен, когда у него нет супервизора или взаимоотношений с коллегами, тогда, полагаю, ему будет нелегко найти способ использования своей агрессии в терапии. Добавлю один личный момент: я бы никогда не рискнул заниматься психотерапией в одиночестве. Если бы рядом не находился коллега, с которым можно было работать, я бы вернулся на свою ферму. Не думаю, что взаимоотношения, в которые я постоянно вступаю, требуют, чтобы рядом был человек, обязательно равный мне, человек, который остановит меня, когда я начну действовать некомпетентно. Я полагаю, что супервизор помогает использовать свою агрессию, но тут может помочь и любой другой посторонний человек, кто угодно, за исключением того, кто приходит и говорит: “Я больной маленький ребенок, пожалуйста, будьте добры ко мне и помогите мне”. У многих терапевтов, когда они видят пациента, возникает чувство, что он такой же человек, как и я, равный мне, и с ним можно установить обычные человеческие отношения. Это не так. Пациент решился принять на себя особую символическую роль, что требует особой функциональной роли и от вас. Это надо понять и помнить. Терапевт, который боится проявлять агрессию в других сферах своей жизни, будет так же подозрительно относиться и к проявлениям своей агрессии во время терапии. И в такой момент помощь коллеги может оказаться незаменимой.
Каковы же минимальные необходимые ограничения, которые терапевт должен наложить на проявления своей агрессии и враждебности? Во-первых, самое очевидное, нельзя выражать агрессию при первой же встрече. Это необходимо для того, чтобы терапевт мог учиться, но пациенту в первый момент требуется атмосфера защиты. Если пациенты вынуждены присутствовать на терапии, это другая ситуация. Когда мы проводили групповую терапию для студентов-медиков — мы этим занимались десять лет, — я знал, что могу вести себя как мне угодно, они все равно будут здесь сидеть и через два года. Если же вы пытаетесь достичь независимости действий — как пациента, так и своих, — не стоит выражать сильные чувства, позитивные или негативные. Терапевт не выплескивает все, что переживает, на пациента на начальном этапе психотерапии. Выражение агрессии, как и выражение тепла, пациент просто не заметит, если терапевт лишен чувства времени и глух к межличностной ситуации. Это напоминает мне историю о терапевте, который потерял целую группу новых пациентов потому, что сразу выразил им свои тепло и любовь. “Я так рад, что вы сюда пришли”, — и уничтоженный терапевт останется в одиночестве.
Теперь я несколько переменю тему и опишу вам характерные черты скрытой враждебности терапевта. Он все равно не сможет ее сдерживать, и в такой ситуации терапевту нужна помощь: в виде терапии, общения с супервизором или, может быть, в форме исповеди перед группой. Удивительно, сколь многого можно достичь, когда ты внезапно, в борьбе с самим собой, открыто становишься пациентом перед Богом и всеми людьми. Так часто в словах членов группы можно найти какой-то намек на то, что в тебе происходит. Ты вроде бы ни к кому не испытываешь вражды, но кто-то в группе говорит, что ты холоден и напрягаешься: “Твое лицо стало жестким, и ты как бы отсутствуешь”. Помню одну встречу в тот период, когда группы для меня были внове. Как-то я приехал на день позже, чем нужно, а группа отрепетировала набор моих привычных фраз и потом устроила мне двадцатиминутное представление. Они отвечали на мою скрытую злобу, о которой я даже и не подозревал. Не знаю, почему я так себя чувствовал. Даже не знаю, связано ли это с работой. Я чувствовал, что не могу помочь пациенту.
Скрытая злоба
Может быть, наш самый излюбленный способ скрывать злобу — быть сладкими: “Нет, я не сердит”. Я называю это интерпретацией несвязности, когда кто-то в группе говорит: “Знаешь, я слышал, что ты сказал, но это меня совсем не трогает”; “Я вижу, но не чувствую и не понимаю, почему ты говоришь об этом таким приятным голосом”. Возьмем установки Я, Мы, Ты. Часто в группе терапевт создает отдельную группу из самого себя, противопоставляя остальным. Может быть, в 1922 году, когда Пратт собирал язвенников в Бостоне, это было и неплохо, но не в наше время. Есть еще одна вещь, которая тайно проникает в мое поведение: я идентифицирую группу с моим прошлым. Первыми помогли мне обнаружить такую особенность мои дети. Один из них сказал мне как-то утром: “Я знаю, как ты пробирался через сугробы, когда был маленьким, и что на все твои карманные расходы хватало пяти центов в неделю... Только ради Бога, не рассказывай этого снова”. Мне кажется, то же самое часто происходит в группах. Мы думаем про себя: “Ага, раньше я был таким же”. Это проявление злобы. Для некоторых профессионалов типично прятать злобу за так называемыми “горячими” интерпретациями, в которых пациент не понимает ни слова. При этом мы ничего не делаем вообще, просто берем единицу, прибавляем к ней другую единицу, получаем четыре и потом говорим пациенту: “Теперь вы сами видите, в чем дело”. Я рекомендую вам прочитать замечательную поэму Бодлера под названием “Скука”. Скука есть один из самых хитрых способов прятать злобу и глубокое раздражение. Можно делать это и в форме обзора прошлого: “Итак, группа прекрасно развивалась за последние три месяца”.
Еще один прием для маскировки злости — “скованное взаимодействие”. Мой опыт участия в психодраме и опыт других говорит о том, что в подобном взаимодействии человек отсутствует. Если вы будете внимательны, то услышите, как люди скажут вам об этом. Кто-то заметит: “Доктор, вы можете держать мою руку, но ваша рука холодная”. Когда я размышлял над этим, ко мне пришла свободная ассоциация. Дарю ее вам без объяснений: “Пациент есть пациент есть пациент есть пациент”. Злость может скрываться за постоянством. Иногда пациенты говорят: “Доктор, на прошлой неделе вы говорили совсем другое, вы непостоянны”. Для меня это комплимент. Тот, кто постоянен неделю за неделей, тот постоянное никто. А в социальной группе агрессию обычно скрывают за “дружелюбностью”. Если этим пользуется терапевт, значит, он психопат. Есть еще такая хитрость, пациенты помогут вам ее уловить: сексуальное взаимодействие вместо злости. Когда скрываешь злость, очень легко развиваются сексуальные отношения с оттенком иронии: или у тебя с одним, двумя, несколькими членами группы, или же у других с твоего молчаливого ободрения.
Около года тому назад я собрал анонимную группу, состоящую из супружеских пар. Никто не знал ничьих фамилий, адресов, места работы, откуда кто родом, что с ними было прежде. Известно было только то, что все пары проходили супружескую терапию. Это было нечто. Они придумывали друг другу фамилии, пытались угадать, где кто работает. Затем это превратилось в какие-то психологические прятки. У четырех людей возник друг к другу подвижный перенос, никогда раньше я не наблюдал ничего подобного. После обычного притяжения к чужому мужу или чужой жене появилось гомосексуальное взаимодействие. Я думал, что сейчас начнется обмен женами. И все это происходило из-за моей злости. Тогда я был неопытен, но сейчас думаю, что такое сексуальное взаимодействие являлось бегством от злости психотерапевта.
Далее. Есть одна детсадовская кричалка примерно такого содержания: “Мы в нашей группе занимаемся своим делом, мы все играем нашими кубиками, а чужие даже и не трогаем”. Попробуй потрогай — на тебя сразу все накинутся. Существует иллюзия нейтральности. Все мы слышали про “нейтрального” терапевта. Иллюзия же состоит в том, что нейтральность путают с теплом и приятием. Мы могли наблюдать Неру на политической арене. Пусть про нейтральность он расскажет своей бабушке.
Еще одна форма бегства от агрессии — проецирование ее вовне группы. Можно сердиться на чей-то хронический алкоголизм, на гомосексуальное поведение и так далее. Терапевт проецирует свою групповую агрессию во внешний мир, на людей из других групп.
Группе свойственно отрицать свои кризисы. Удивительно, насколько бывает трудно группе или терапевту признать, что они зашли в тупик. Как будто бы славное прошлое предохраняет от падений в настоящем или в будущем. Мы говорим: “Будем жить счастливо, останемся друзьями ради детей, будем спать в разных комнатах”. И все в таком роде. Это следствие агрессии, злости терапевта. Или еще один ход: перенаправить пациента к другому терапевту. Я перестал так поступать, но знаю, что это происходит повсеместно. А затем последний рывок — и отношения кончаются. Мы могли наблюдать это у одной супружеской пары, обратившейся к нам. У мужа с женой был чудесный брак до того момента, пока муж однажды не пришел домой и не сказал жене: “Я хочу развестись”. На другое утро он отнес в суд нужные бумаги. То же самое происходит с группой, находящейся в состоянии тупика.
Право терапевта быть человеком
Поговорим о другой стороне проблемы. Позвольте мне перечислить характерные черты здорового, агрессивного, утверждающего себя терапевта. Терапевт должен сражаться за свою личность в группе: он имеет право быть человеком. Когда мой индивидуальный пациент первый раз приходит в группу, а потом говорит: “Вы себя вели просто подло, не обращали на меня внимания, как будто меня не существовало в этой группе, вы меня не представили, ничего не рассказали обо мне, вы отвратительны”, я радуюсь. Для меня это комплимент. В группе я собираюсь быть человеком, о чем заранее всех предупреждаю. Я не собираюсь быть отцом. Группа — это круглый стол, и я не намерен строить из себя директора. Так терапевт борется за свое право быть человеком в группе. Я думаю, что это здоровая агрессия. Другая форма здоровой агрессии — борьба со стереотипным представлением о терапевте, поскольку в группе такой образ уже существует. Пациенты представляют вас очень зрелым человеком. Они считают: раз терапевт сказал, значит, так оно и есть, он всегда любит по-настоящему пациента и всех окружающих, в его жизни никогда не бывает неприятностей, личных проблем, у него здоровые сны. “Разве не чудесно быть женой психотерапевта?” Моя жена в ответ на такой вопрос скажет: “Поговорили бы они со мной на эту тему”.
Терапевт должен пользоваться правом на параноидные мысли. В культивации собственной паранойи состоит одна из агрессивных радостей терапевта. Замечательно участвовать в сражениях подгрупп. Ты эмоционально встаешь на сторону одной из подгрупп, которая объявила войну остальным. Надо присоединяться к тем, за кого тебе действительно хочется бороться. Вас удивит, что остальным понравится сражаться против вас. Группа сильнее, чем терапевт, если, конечно, терапевт не стоит вне ее. Когда сам терапевт внутри группы, группа сильнее его. Важно, чтобы все получали удовольствие от группы. Наши пациенты часто критикуют нас, говоря, что мы получаем от терапии удовольствие и, следовательно, не работаем. Выражать пациенту свою амбивалентность, когда ты действительно относишься к чему-то одновременно и позитивно, и негативно, есть признак здорового утверждения самого себя. Я люблю делиться с пациенткой (конечно, если я с ней хорошо знаком) своими мыслями о том, хотел бы я на ней жениться или нет. Это имеет большое значение, когда это правда. Нечто похожее происходит и в группе, когда ты, оговорившись, начинаешь исследовать, почему и что за этим стоит. Или пациент скажет: “Я не понимаю, почему вы опоздали”. Вы почему-то думаете всерьез, что это проявление психопатологии. Я всегда опаздываю, никто не мог меня от этого излечить.
Делиться спонтанно пришедшими в голову ничего не значащими мыслями тоже полезно. В нашей клинике мы говорим (извините меня за грубость): “Терапевты всегда ожидают большого дерьма”. Вы ждете того момента, когда скажете что-нибудь очень глубокое, что войдет в их жизнь на долгие годы. А пациент никогда не забудет, как поделились своей свободной ассоциацией, как вы что-то неправильно поняли, оговорились, рассказали о пришедшей в голову фантазии. Я вспомнил об одной такой своей дикой фантазии. Моя группа настолько опустела, что в ней осталось три человека, и все шло в тупик. Я подумал, не включить ли в эту группу кого-нибудь еще, и не понимал, что происходит. Однажды во время нашей встречи мне в голову пришла такая фантазия. Я словно увидел где-то вдалеке и внизу корыто и трех свиней возле него, а за ними стоял я сам. В руке я держал палку, какими иногда пользуются при кормлении свиней. Внезапно я изо всей силы стукнул среднюю свинью по голове, потом ударил левую. Такую фантазию было несколько неловко пересказывать группе, но если вы честны, то лучше не хранить ее в себе, иначе стоит пойти и попросить коллегу о помощи. Но удивительная вещь: группу фантазия расстроила меньше, чем меня. Разумеется, они разнесли меня на клочки, но они это делали и раньше.
Сейчас к нам ходит семья: отец, мать и дочь. У последней — шизофрения. С ней работает команда из четверых терапевтов, и мы встречаемся раз в месяц. Встреча продолжается три часа. Во время последней такой встречи один из терапевтов уснул. Проснувшись, он рассказал о своем видении на тему, как забавно выглядели бы родители, если их обезглавить. Мы пользуемся такими снами во время встречи все чаще. Лет десять назад это казалось нам чересчур странным, но постепенно все терапевты начали прибегать к своим фантазиям. Мы проверяем ценность новых техник по тому, распространяется ли это среди наших терапевтов. Привычка спать среди встречи стала до того распространенной, что один ко-терапевт обязательно засыпает и потом всегда рассказывает три сна. Но я шучу.
Терапевт должен не бояться рассказывает о своих переживаниях в обычной жизни, о своих ночных снах, о фантазиях, о группе, о каких-то внешних событиях. Но очень важно хорошо понимать, насколько это своевременно. Конструктивная агрессия терапевта выражается также в разрушении мифа о всемогущем родителе. Наконец, я хочу сказать, что кастрация — тоже ценный опыт. Это творческий акт, если в нем участвует кто-то другой, тот, кто тебя любит. Вот почему нам не стоит кастрировать самих себя.
Подводя итоги, скажу, что терапевт — это человек и в своей жизни он часто бывает агрессивным. Его профессия — тоже часть жизни, и он должен делиться агрессией со своим пациентом или с группой. Когда он делится чем-то социально неприемлемым с пациентом, в их совместной работе открываются новые пути. Если он не перегружен чрезмерно своими конфликтами или негативным переносом, его агрессия становится проявлением человеческого уважения к себе, тем, что мы называем утверждением себя. И, разумеется, тут есть равное уважение к другому. Надо быть осторожным, когда вы делитесь оправданной агрессией. Свобода заразительна, свобода выражать агрессию придает нам смелости для выражения самой главной свободы —свободы через любовь и ненависть становиться настолько самими собой, насколько это возможно.
Приглашение в мир
нереальных переживаний
В этой главе Витакер показывает, как можно использовать фантазию для того, чтобы “поймать на крючок” трудного, не склонного мыслить психологически пациента, и вовлечь его в процесс терапии. Так, при работе с супружеской парой, о которой говорилось выше, он с помощью техники развернутой фантазии учит мужа, чья жена находится в состоянии психоза, большей чуткости к переживаниям женщины. Он открывает окно между его и ее мирами. При этом Витакер не говорит мужу: “Вы должны научиться тому-то и сему-то...”, но фактически требует этого, и тот начинает знакомство со своими собственными фантастическими переживаниями.
Профессиональный психотерапевт по складу своей личности ценит все субъективное, его интересуют идеи и внутренние переживания. Ему доставляет естественное удовольствие поговорить с подобным себе человеком. С такими психологически мыслящими пациентами легко работать. При работе с парами супруг, похожий на сиделку психиатрической больницы, воспринимается нами как препятствие, когда мы стремимся помочь его обремененной симптомами жене. Встречаются также трудные пациенты, которых мы называем “людьми без психологического мышления” или — более честно — “плохими” пациентами. Они живут в обычной реальности, и психотерапевт кажется им сумасбродом, погруженным в нереальный мир, который к их жизни не имеет никакого отношения. Они напоминают пациентов в препсихотическом состоянии или же со скрытым психозом, настолько опасающихся нереального, что заражают этим страхом и нас. К “плохим” пациентам относятся мрачные интеллектуалы, холодные ученые-физики, догматичные члены коммунистической партии, практики, погруженные в мир фактов, твердолобые христиане и вообще все те люди, которые не видят снов и не мечтают.
Терапевты изобрели множество специальных техник для работы с такими пациентами. Опишу одну из них, наиболее близкую мне. Раньше я называл ее техникой вынужденной фантазии. Доктор Хансарль Лейнер (1955) описал подобный метод, которым он успешно пользуется со своими коллегами в Германии. Его метод контролируемого воображения отличается от моего тем, что в его клинике терапевт применяет такой подход, оставаясь на техническом уровне, и использует его также для диагностики.
Наша техника похожа на свободные ассоциации: мы используем то, что возникает в сознании пациента, стремимся расширить с ее помощью терапевтические взаимоотношения и обращаемся к этой технике, если терапевт начинает чувствовать скуку при работе с пациентом.
Сначала в беседе с пациентом мы ищем возможность приоткрыть окно в мир его нереальных переживаний. Это может быть слово, намекающее на сильное чувство, или выражение, которое можно превратить в визуальный образ. Бывает, что мы находим уникальное слово, наполненное для пациента особым смыслом, о котором не подозревает ни терапевт, ни сам пациент. Или же это обычное слово, употребляемое пациентом странным образом или слишком часто. В нижеприведенных примерах, такими словами являются “поле” и “стена”. Разумеется, подобное действие при усилии терапевта можно произвести почти с любым словом. Описание места можно развернуть в визуальную фантазию, а для описания состояния — придумать окружение.
После ответного шага пациента терапевту следует подтолкнуть его к созданию визуального образа места, а затем — попросить или как-то еще заставить пациента представить в этой картинке самого себя. Далее я обычно прошу поместить в эту фантазию меня. Поскольку психотерапия есть терапевтические взаимоотношения, мне кажется важным, чтобы в фантастических переживаниях проявились отношения двух людей. Присутствие терапевта внутри фантазии также избавляет пациента от паники при параноидальной мысли о том, что терапевт подглядывает за ним.
Когда визуальный образ более-менее сформировался, пациента просят, чтобы он шел дальше, что-то менял, двигался, действовал. Лучше, наверное, когда инициатива принадлежит самому пациенту, но если это невозможно, терапевт может предложить какое-то действие внутри фантазии, оставляя пациенту свободу выполнить его, отвергнуть или же предложить что-то свое. Когда движение началось, терапевт и пациент вольны двигаться куда и как им хочется, изменять картину и ее участников или прекратить развитие фантазии. Возможно даже, что оба попросят друг друга не участвовать в их фантазиях и разойдутся в разные стороны, не разрушая при этом своей общей фантазии.
Пациент пришел со своей женой, которая была в маниакальном состоянии и все время безостановочно говорила. Терапевт спросил мужа, что происходило в его внутренних переживаниях за последний уик-энд. Тот ответил, что пытался подумать о себе и наткнулся на непроницаемую стену. “Как выглядит эта стена?” — “Я просто говорил теоретически”. “Не могли бы вы представить себе эту стену зрительно?” — “Нет, это не зрительный образ”. Я попросил его все же попытаться себе ее представить, и после нескольких попыток он сказал: “Ну, это не какая-нибудь кирпичная стена”. Затем он не раз извинялся, пытаясь уйти от продолжения разговора, говоря, что эти вещи нереальны и он не думает о них. “Почему бы вам не подумать сейчас?” Он помолчал, а потом произнес: “Я представляю стену деревьев”. Я спросил, как близко он стоит от деревьев. Пациент ответил, что может их потрогать. Оказалось, что он представил себе что-то вроде искусственно посаженного ряда деревьев, у которых ветви опустились до земли и соприкасаются с соседними ветвями. Мне пришлось задать множество вопросов, чтобы воспроизвести эту картину. Наконец, он добавил, что на стене написано имя его жены, Эвелин. Ему было нелегко ответить на вопрос о размерах букв или всей надписи, но после долгих расспросов удалось выяснить, что буквы были четырех футов в высоту, а все слово — около двадцати футов в длину. Он отказывался отвечать на вопрос, как была сделана надпись, и потом внезапно сказал: “Что-то вроде тумана”. “Что-нибудь видно за стеной?” — “Нет”. — “А себя вы видите?” — “Да”. “Во что вы одеты?” — “В военную форму”. “Можете ли вы увидеть там меня?” Сначала он ответил отрицательно, а потом, после некоторого давления, сказал, что может. Тогда я задал вопрос: “Как я одет?” Он не смог ответить, а я и не настаивал. Я спросил, нет ли Эвелин за деревьями, и он произнес: “Да”. Я спросил, как близко от него нахожусь. Пациент был смущен и не мог ответить, как если бы речь шла о чем-то постыдном и страшном. Затем после многих вопросов он сказал, что мы с ним стоим достаточно близко, чтобы прикоснуться друг ко другу рукой. Я предложил пробраться на другую сторону. Он дважды отказывался, а потом согласился. Я спросил, пойдет ли кто-то из нас первым или же мы пойдем сразу вместе. Он предложил, чтобы мы пошли вместе. “Мы идем?” — “Да, уже проходим через стену”. “Мы уже по другую сторону?” — “Да”. На вопрос, что он там видит, пациент ответил: “Восход солнца”. Я спросил, здесь ли Эвелин, и он сказал: “Да”. На вопрос, как она одета, он опять засмущался и потом заметил: “На ней никакой одежды”. “Тогда я лучше вернусь назад за деревья”, — предложил я. И он вдруг сказал: “Я внезапно вспомнил одну песню”. Песня называлась “Я увижу милую на рассвете”. Тут время нашей встречи закончилось.
В данном примере терапевт использует образ, промелькнувший в словах пациента, и расширяет его с помощью своей фантазии, настаивая на том, чтобы пациент отключился от реальности. Так пациент отчасти может понять психотические переживания своей жены. Полагая, что психотерапия учит использовать сон, нереальную сторону жизни, терапевт включает свои сны и фантазии в работу для того, чтобы пациент мог встретиться со своими снами и понял бы все их значение для реальной жизни. Жизнь во сне и жизнь наяву существуют в единстве.
Терапевт работал с пациенткой, которая до этого уже провела около двухсот часов с другим терапевтом. Эта терапия была похожа на пьесу внутри другой пьесы. Она происходила в кабинете первого терапевта и в его присутствии. Процесс шел быстро, и я надеялся скоро его завершить. На нашей десятой встрече пациентка сказала: “Ваше последнее замечание в прошлый раз открыло для меня одно старое поле. Я так давно его не замечала, что оно даже кажется новым”. Я попросил ее представить себе это поле. Она отказывалась: “Я имела в виду поле интереса, поле внимания, а не какое-то реальное пространство”. Я предложил представить его себе в виде поля. Она стала описывать картину. Это было зеленой поле. “Видите ли вы себя”. — “Да”. “Как вы выглядите?” — “У меня светлые волосы [в жизни она — брюнетка], и мне восемь лет”. “Можете ли вы представить там меня?” — “Нет”. “Что там еще?” — “В углу поля пасется лошадь”. Я попросил представить на этом поле меня, она отказывалась, а потом согласилась. “Как я одет?” — “Как фермер”. “Что мы делаем?” Она ответила, что я на другом конце поля и медленно приближаюсь к ней. Далее я узнал, что ей хочется и одновременно не хочется броситься мне навстречу. Наконец, в нашей фантазии я подошел к ней, взял ее на руки, поднял, и она сказала: “Теперь я в безопасности”. Дальнейшие попытки развивать эту фантазию ни к чему не привели, на том она и закончилась.
Пациент может создать визуальный образ на основе слова или какого-нибудь понятия. Обычно пациент включает в свою фантазию терапевта, если тот заботится о пациенте и хочет там оказаться. Но возможные действия внутри фантазии имеют свои рамки. Обычно через какое-то время фантазия приходит к естественному концу. Хотя бывали случаи, когда мы возвращались к одной и той же фантазии на протяжении нескольких встреч. Каждый такой эпизод ярок, и обычно пациент не развивает эту фантазию вне кабинета терапевта. К фантазии, когда она установилась и приобрела качества реальности, несложно подключиться. Мои собственные фантазии могут сопровождать фантазию пациента, а могут и течь своим ходом. Это не искажает фантазии пациента. Некоторые предложения и переживания терапевта пациент принимает, некоторые отбрасывает. Однажды у меня был случай удостовериться в этом: я тогда настаивал на том, что в своей фантазии пойду в ином направлении, чем пациент. Нам пришлось расстаться. Пациент продолжал развивать свою фантазию, терпимо относясь к моей — как к отдельной реальности.
Примеры, приведенные выше, показывают, как терапевт своей поддержкой может ввести пациента в нереальный мир, где тот открывает новую глубину своей повседневной жизни. Когда это получается, терапевт с пациентом могут путешествовать по своим нереальным переживаниям еще дальше. Они могут исследовать замешательство и скованность — свои собственные и друг друга, — могут включать фрагменты фантазий в разговоры, делиться своими ассоциациями и спонтанно возникающими образами, необычными переживаниями и телесными ощущениями, которые, на первый взгляд, возникают во время терапии случайно, но приобретают смысл, как только о них скажешь вслух.
Еще одно достоинство такой совместной терапии состоит в том, что работа превращается в игру, в удовольствие. Это альтернатива тяжеловесному интеллектуальному общению при терапии, ориентированной на содержание.
Роль молчания в короткой терапии
Написано совместно с Джерманом В. Розом,
Френком Н. Гейзером и Нэн Джонсон
В этой короткой главе мы находим перечисление различных способов использования молчания в индивидуальной терапии. Молчание может служить признаком поверхностного смущения, сопротивления или погружения в свои мысли. Большое значение представляет вопрос: как терапевт и пациент могут использовать молчание для продвижения процесса. Витакер утверждает, что самая глубокая терапия происходит в молчании. Это верно потому, что терапевтический процесс — вещь внутренняя, происходящая в межличностном контексте доверия. По мере того как пациент переходит от обыденной жизни в “нереальный мир психотерапии”, он уходит “внутрь себя”, отключаясь от окружающего. Внутренний процесс изменения нельзя ускорить, но можно создать для него нужные условия. Как квакер в молчании ожидает прикосновения Святого Духа, так пациент с терапевтом ждут проявлений движения к целостности. Иногда им приходится ожидать в молчании.
Попытки понять короткую психотерапию в основном сосредоточиваются вокруг разговоров или действий терапевта и пациента, а то, что происходит помимо слов, остается загадкой. Отчасти по этой причине молчание в терапии почти не исследовано. Поэтому наши теоретические размышления носят более или менее гипотетический характер. В данной статье мы попытаемся сформулировать концепцию процесса молчания: какие силы работают в момент молчания, как ими можно пользоваться в терапевтических целях, какие здесь заключены опасности. Молчание можно разделить на два типа: первый тип возникает спонтанно при общении пациента и терапевта, а второй терапевт создает намеренно. Сначала мы поговорим о спонтанном молчании, а потом перейдем к молчанию, сознательно организованному терапевтом.
Периоды времени, когда спонтанно возникает молчание, различаются по своему значению. Например, в социальном контексте молчание, следующее за моментом, когда кто-то предложил новую идею, более поверхностно, чем молчание смущения, наступающее после оговорки. Очевидно, что смущение несет большую эмоциональную значимость, чем работа разума, поскольку после оговорки каждый погружается в фантазию, наполненную эмоциями.
В терапии глубина молчания тоже может быть различной, это зависит от взаимоотношений терапевта и пациента. Если терапевт еще не превратился в символического родителя или не установил своей профессиональной роли, общение во многом останется на социальном уровне, и тогда моменты молчания будут поверхностными. По мере развития переноса появляется более эмоционально значимое молчание. Оно важно как результат новой свободы во взаимоотношениях, которую ощущает пациент.
Часто на начальных этапах терапии молчание дает пациенту возможность подумать о настоящем и будущем взаимоотношений с терапевтом. Молчание в начале терапии иногда пугает, а иногда и ободряет пациента. Он может бояться, что взрывоопасные силы бессознательного, агрессия и сексуальность, разрушат его. Он порой также опасается, что терапевт насильно затащит его в мир фантазии, откуда невозможно выбраться. Пациент может бояться осуждения со стороны терапевта или бояться его административной власти, его нападения. Хотя молчание подобного рода часто возникает в тот момент, когда пациент погружается в фантазию, нередко причины его не могут понять ни пациент, ни терапевт.
Некоторые пациенты, особенно подростки, молчат из чувства бунта, из нежелания начинать разговор, — тогда это ситуация борьбы. Она во всем похожа на словесную борьбу, но терапевт может этого и не замечать. Признаки жаркой схватки можно распознать по выражению лица, по агрессивным вздохам и напряженным движениям.
Кроме страха пациент может чувствовать также, что его принимают. Ощущая поддержку терапевта, он нередко решается на исследование самого себя, на столкновение со своими бессознательными импульсами. Когда он начинает понимать, что терапевт не отвергнет его, в нем появляется чувство защищенности от нападений реальности, от цензуры социальных правил, от ограничений разума. Полагаясь на эту защищенность, он лучше переносит встречу со своими сексуальными и агрессивными фантазиями. Переживание подобных фантазий в символическом мире терапии — важная часть терапевтического процесса.
Молчание может прервать пациент. Так лучше, но бывают ситуации, когда этот шаг должен сделать терапевт. Например, когда подошло к концу назначенное время встречи. Терапевт может прервать молчание и если видит, что пациенту требуется поддержка. Чаще это бывает в начальный период терапии, когда достаточно прочные взаимоотношения еще не установились. Подобным образом интуитивное чутье подсказывает терапевту, что надо заговорить в момент возникновения опасности, что он слишком сильно идентифицируется с пациентом. Не стоит хранить продолжительное молчание, если ясно, что пациент не погружен в свою фантазию. Всегда может случиться, что пациент будет слишком сильно тревожиться, что переживание ему не под силу, и тогда тоже стоит прекратить молчание.
Действие молчания складывается из отношения пациента к терапевту и из его отношения к своей фантазии. Иногда можно узнать об этом из последующего разговора, но бывает, что пациент показывает внешнее безразличие, скрывает вызванную фантазией тревогу, утаивает саму фантазию от терапевта или словами отрицает значимость и глубину своих переживаний во время молчания. Иногда он может уйти из кабинета терапевта в панике или в ярости.
По мере углубления терапии пациент способен все более открыто говорить о своих переживаниях, возникших после периода молчания. Он может сказать о значимости этих переживаний. Пациенты говорят: “Время летит, пока мы сидим молча”. Или: “Не понимаю, что это и откуда, но что-то во мне забурлило и поднялось на поверхность”. Или можно заметить усталость, следующую за эмоциональной бурей, что само по себе свидетельствует об интенсивности переживания пациента. Тогда ему нужна помощь терапевта, чтобы либо вернуться к реальности, либо с большею смелостью углубляться в фантазию.
Пациент может в большей мере встречаться со своими фантазиями тогда, когда он становится зависимым от терапевта. Он яснее понимает, что инициатива принадлежит ему и что его не заставят двигаться вглубь, если он не в силах интегрировать свое переживание. Следовательно, с помощью терапевта он сумеет встретиться с самыми глубинными сторонами своей души, с которыми побоялся бы соприкоснуться, если бы был один. “Наркоз” терапевтических взаимоотношений позволяет ему осваивать новые пространства своих фантазий. Один пациент, например, после долгого периода полного молчания произнес: “Первый раз я понял, какие у меня кровавые мысли. Я представлял себе, что делаю такие вещи, о которых раньше никогда и не помышлял. Я понял, что мог бы и даже хочу убить кого-нибудь”.
Некоторым пациентам необходимо помолчать, чтобы ощутить свои внутренние импульсы. Они открывают в себе новую возможность добровольно переживать иррациональные моменты и начинают понимать, что молчание вдвоем помогает пройти через такие переживания вместе с терапевтом. Часто пациентам этого хочется, и тогда терапевту надо просто следовать за своим пациентом и отвечать на его молчание своим. Другие пациенты сопротивляются, страшась иррационального состояния и молчания, которое вызывает подобное состояние. Но сам факт, что установилась тишина, не означает, что пациент погружен в иррациональные переживания. Некоторые пациенты спонтанно пользуются молчанием для того, чтобы найти в себе мотивацию для лучшего взаимодействия с терапевтом. А иным пациентам нужна помощь в виде молчания терапевта.
Когда сам терапевт замолкает, усиливается напряженность и яснее становится бессмысленность поверхностных разговоров. Если он молчит в ответ на просьбу пациента что-то проинтерпретировать, значит, терапевт настаивает на эмоциональных взаимоотношениях. Молчание терапевта или молчание, к которому он принуждает пациента, разрушает поверхностное общение и требует большей глубины. Это преднамеренное молчание терапевта.
Когда терапевт молчит сознательно, возникает иная ситуация, не такая, как при спонтанном молчании. Последнее является нормальной частью любых взаимоотношений. Преднамеренное молчание кажется пациенту угрозой, во-первых, потому, что оно искусственное, и, во-вторых, потому, что теперь уже терапевт берет на себя инициативу во взаимоотношениях. Пациент также может почувствовать, что его покинули. Тогда он воспринимает молчание как знак отвержения, и это действует разрушительно. Пациента может травмировать и та ситуация, когда длительное молчание вводит его в глубокие переживания, а взаимоотношения с терапевтом еще недостаточно прочны для поддержки в этом погружении. Как подростка может травмировать слишком резкое столкновение со взрослой сексуальностью, так и приглашение войти в глубокие эмоциональные взаимоотношения в форме продолжительного молчания может привести пациента к панике.
Молодой мужчина с выраженными психопатическими чертами характера две встречи с терапевтом провел в разговорах о малоинтересных событиях своей прошлой жизни. Наконец, терапевт заметил: “Если вы не можете вспомнить ничего действительно значимого, лучше помолчите”. Последовало пятнадцать минут тишины, во время которой между терапевтом и пациентом происходила молчаливая битва. Два месяца спустя пациент сказал, что чувствует себя значительно лучше: “Когда вы просто сидели и смотрели на меня, я начал думать. Я понял, что не так уж сильно отличаюсь от других людей”.
Молчание — сильное терапевтическое средство и может в некоторых случаях представлять опасность. Терапевт нередко молчит для того, чтобы убежать от своих амбивалентных чувств по отношению к пациенту или от своего желания его отвергнуть. За молчанием терапевта часто скрывается агрессия или сексуальное влечение, иногда же незрелый терапевт с его помощью показывает свою символическую власть над пациентом. Молчание может казаться пациенту насмешкой над его зависимым положением или признаком осуждения. В полиции пользуются этой деструктивной властью молчания, чтобы усилить чувство вины, запугать, принудить к “чистосердечному признанию”.
Когда молчание вводит пациента в иррациональное состояние, мера ответственности терапевта невероятно возрастает. Поскольку молчание терапевта часто оказывается атакой и увеличивает тревогу, его небрежность в этот момент нередко серьезно ранит пациента. Когда пациент находится в иррациональном состоянии, это является проверкой зрелости терапевта. Он может ужаснуться примитивной силе своей идентификации или погрузиться в психопатологию, отчуждаясь от пациента.
Когда терапевт не уверен в том, что может выдержать серию встреч с пациентом, общаясь с ним на психотическом уровне, он должен думать о запасной возможности поместить пациента в палату, где тот будет находиться в безопасности на этот период терапии. Покинуть пациента в такой момент — преступление. И еще более опасно молчание терапевта, с помощью которого он скрывает свою неспособность общаться с пациентом на этом уровне.
Принимая на себя активную роль, терапевт должен сознавать, что он сам является существеннейшим фактором восстановления целостности пациента. Очевидно, что не стоит брать на себя такую ответственность тому, кто сам не был пациентом в психотерапии. Если терапевт пережил значимый опыт своей собственной психотерапии, он скорее сможет разглядеть за паникой своего пациента исцеляющее действие подобной борьбы.
Общение с пациентом
без психотических нарушений
во время короткой психотерапии
Эта ранняя (1957) работа рассказывает об использовании ряда техник, которые дают пациенту понимание того, в чем заключается процесс психотерапии. Мета-общение передает пациенту, что: (1) ему принадлежит инициатива в процессе психотерапии; (2) психотерапия есть переживание близких взаимоотношений.
Эти положения сообщаются пациенту скорее не прямо, а косвенно, на мета-уровне, на языке действий терапевта. В этом контексте (в качестве “предварительной социализации”) не столь весомо сказать, как показать. Например, терапевт не просит пациента быть откровенным, но сначала сам показывает образец открытости, разговаривая о своих свободных ассоциациях, мечтах и телесных ощущениях. Терапевт передает эти сообщения “по всем каналам”. В психотерапии действия сильнее слов, ибо они порождают ответные действия. Встретившись с открытостью терапевта, пациент может либо шагнуть ему навстречу, либо убежать. Он не может стоять на месте.
Одна из главных проблем психотерапии — проблема общения терапевта и пациента. Много лет психиатрия придавала огромное значение пониманию пациента: во-первых, пониманию его прошлого и, во-вторых, пониманию его поведения. Позже, под влиянием Фрейда и открытой им техники свободных ассоциаций, мы стали понимать сообщения пациента полнее. Накопленные факты были столь необыкновенны, что пришлось искать для них совсем новый научный язык.
В последнее время для понимания пациента производятся исследования записей и киносъемки общения с пациентом, а Мелмо и его сотрудники пришли к исследованию общения через физиологические изменения в теле пациента — пульс, потливость, давление и дыхание. Так они стремились измерить сообщения пациента.
Сейчас из-за ограниченности подобных подходов психиатрия для лучшего понимания теории общения обратилась за помощью к чистой науке. В том числе, к кибернетике, новой науке, описывающей отношения человека и сложных электронных машин. Размышляя о том банальном факте, что общение — процесс двусторонний, важно понять, что психиатрия большую часть своих усилий затратила на понимание лишь одной из сторон. Отчасти сложность заключается в том, что и пациент, и терапевт оба и посылают, и получают сообщения как два человека, одновременно говорящие по телефону. Были также попытки понять общение во время психотерапии в его целостности. Таковы идеи Салливана об участвующем наблюдателе. Вопреки акценту на роли сообщения, посылаемого пациентом, психиатрия в недавнем прошлом заинтересовалась сообщением, которое передает терапевт. Появилось несколько публикаций о времени, выбранном терапевтом для интерпретации, и, конечно, много внимания было уделено проблеме контрпереноса. Тем не менее, молчаливо предполагалось, что терапевт — величина постоянная в процессе терапии, он предсказуем и управляет собой, а пациент является переменной величиной. Недавние исследования заставляют усомниться в этом предположении. Они показывают, что функция и личность терапевта — самые главные переменные в терапии. Это подтверждает высказывание Барбары Бетс11, динамика терапии проходит через личность терапевта. Из этого следует, что чем лучше личность терапевта, тем лучше и терапия для пациента. Чем “лучше” терапевт, тем лучше общение, а из книги доктора Рюйша12 мы знаем: чем больше общения, тем лучше результат для пациента. Таким образом мы сделаем еще один шаг и придем к следующей гипотезе: чем больше сигналов получает пациент от терапевта, тем в большей мере он выздоравливает.
Группа из Института психиатрии много занималась попытками видоизменения сигналов, посылаемых терапевтом, предполагая, что усиление каких-либо сигналов или более частое их использование продвинут нас к пониманию того, как можно стать более эффективным психотерапевтом. Между нами, меня обнадеживает одно открытие инженеров связи: для лучшего восприятия сигнала необходим определенный уровень шумового фона. Я упоминаю об этом потому, что мы, психиатры, наверное, боимся свободно посылать наши сигналы из-за того, что знаем, как много шума содержится в нашем обычном общении.
Прежде чем перейти к вопросам тактики общения психотерапевта с пациентом, вспомним об одном необходимом для такого общения условии, на что давно обратила внимание психиатрия: о значении психотерапии или анализа для самого терапевта. По нашему убеждению, возможности эффективного общения терапевта с пациентом крайне ограничены, если у терапевта нет такого личного опыта, глубокого и продолжительного, дающего настоящее понимание его функции и значимого для его личного роста. Полезность анализа содержания терапевтических взаимоотношений не нуждается в доказательствах. В этом каждый из нас убедился на своем опыте. Кроме того, терапевты получают огромную помощь от изучения магнитофонных записей своих разговоров с пациентами, и многие из нас, те, кто не является чистыми исследователями, понимают, как важно изучать свои заметки, сделанные во время этих разговоров. Это необходимо нам для нашего профессионального роста.
Очевидно, что тесные взаимоотношения и совместная работа с коллегами заметно способствуют профессиональному росту любого психотерапевта и, следовательно, помогают ему лучше общаться с пациентом, лучше передавать ему смысл всего процесса терапии. Добавим, что, по мнению многих психиатров, вербальное общение отнюдь не исчерпывает все возможности психотерапевта. Из нашего опыта многосторонней терапии, которой мы занимались с хроническими шизофрениками, появились некоторые техники, пригодные для работы с пациентами, не страдающими психотическими нарушениями.
В настоящей главе обсуждается использование давно известных, созданных для лучшего понимания пациента, методов. Но они прилагаются к терапевту, который сам передает сообщения пациенту. Среди этих методов — свободные ассоциации терапевта, использование терапевтом фантазий, о которых он говорит пациенту, вербальное общение о поведении, отражающем реакцию терапевта на пациента, и, наконец, высказывания терапевта о своих телесных ощущениях, возникающих по ходу терапии. Все это относится к классу сигналов, возникающих в терапевте. Отчасти их можно усилить и передать пациенту.
Пытаясь усилить общение терапевта с пациентом, мы явно изменяем традиционные подходы терапии. Когда пациенту предлагают высказывать свободные ассоциации, это может быть слишком сложно для человека, который и так эмоционально загружен и подавлен. Терапия усиливает пассивную зависимость еще и тем, что пациенту предлагают сделать что-то ради доктора, а стремление пациента удовлетворить своего терапевта разговорами на определенную тему нарушает общение. Если же терапевт в большей мере берет на себя ответственность за то, что он сообщает пациенту, и за процесс “слушания третьим ухом”, тогда он вынужден дойти в своей “внутренней правдивости”, (выражение Мартина Гротьяна) до желания все больше и больше показывать всего себя пациенту13.
Очевидно, у многих терапевтов в ходе терапии возникают свободные ассоциации, но они не говорят об этом своим пациентам. Тот, кто сообщает пациенту о своих свободных ассоциациях, чтобы этим углубить взаимоотношения, предполагает, во-первых, что пациент не уйдет, услышав “странные речи” терапевта. Во-вторых, терапевт предполагает, что пациент обладает способностью бессознательного восприятия скрытого содержания этих ассоциаций. В-третьих, терапевт считает, что здоровье сильнее болезни и пациенту не столько навредит бремя психопатологии терапевта, сколько поможет его более полное участие. Еще терапевт в этом случае предполагает, что его благополучие превосходит благополучие пациента или хотя бы имеет другую природу. И, наконец, он считает, что его мечты и фантазии во время терапии имеют прямое отношение к тому, что сейчас происходит, и задают терапии направление.
Развитию описанных техник предшествовали эксперименты с ограничениями, наложенными на общение в ходе терапии. Например, в нашей группе мы сознательно на какое-то время отказались вести поверхностные разговоры и, как правило, отвечали на вопросы только на символическом языке. Другими словами, терапевт отвечал только на скрытый смысл того, что приносил ему пациент. Часто в терапии отношения углубляются, когда терапевт настаивает на том, чтобы пациент не говорил о вещах, которые для терапевта не имеют символического значения. Создается впечатление, что когда терапевт заставляет пациента замолчать, рождается невербальное общение, лучше передающее эмоционально насыщенное содержание.
Ниже следуют примеры такого участия терапевта во взаимоотношениях с пациентом, которое происходит за пределами преднамеренного сознательного понимания14. Конечно, терапевт должен пытаться понять, что же он сказал и что произошло, когда он спонтанно в ходе терапии выражает себя. Но надо помнить, что терапевт столкнется с теми же препятствиями, какие испытывал, будучи пациентом. Он делится с пациентом проявлениями своей остаточной психопатологии, которые могут способствовать взрослению пациента. Простейший пример — оговорки терапевта во время беседы с пациентом. Оговорка полнее вовлекает его в терапевтические взаимоотношения, и если он начнет ее отрицать или попытается оставить без внимания, пациент поймет, что терапевт не полностью вовлечен в процесс собственного роста. Например, недавно, в начале терапии с новым пациентом, вместо слова “оплата” я употребил слово “бесплатно” и сразу стал вслух, на личном уровне, размышлять о причине этой оговорки. Когда терапевт таким образом показывает себя, ту свою часть, которая явно вмешивается в его действия, он не только убеждает пациента в своей честности и искренности, но и дает ему понять, чего ожидает от него на терапии. Лучший способ объяснить пациенту, что такое свободные ассоциации, — показать свои собственные ассоциации.
Другой пример подобного участия: терапевт включается в фантазии пациента, по приглашению или без него. Нередко пациент представляет возможность пофантазировать вместе, и терапевт, если он готов, легко и свободно может подключиться к такой совместной фантазии. Рассмотрим пример:
На третьей встрече пациент сказал: “Мне порой кажется, что я здесь лишь наполовину”. Терапевт тут же включился: “А где другая половина?” Пациент ответил: “Другая моя половина, думаю, на ферме с отцом и матерью”. Терапевт спросил: “Ты ее можешь увидеть?” “Да, конечно, — ответил пациент, — я там в коричневой рубашке играю на заднем дворе”.
Грамматический переход в настоящее время показывает, как пошла общая фантазия. Терапевт движется за пациентом: “Можешь ли ты увидеть там вместе с собой меня?” Пациент естественно может включиться в фантазию, или же терапевт может его подтолкнуть, предложив, например, посмотреть повнимательнее. В другой раз во время терапии пациент заметил: “Иногда я чувствую себя ребенком”. Терапевт получает возможность установить фантастические взаимоотношения с ребенком. Один пациент сказал: “Вчера я себя чувствовал пустым”. Терапевт стал размышлять о том, как они вместе заполняют пустоту. Другой пациент заявил: “Я себя ощущаю как на дне колодца”. Терапевт начал фантазировать о том, как он помогает пациенту выбраться оттуда, как долго ищет колодец, а еще надо вернуться в машину за веревкой, чтобы помочь пациенту выбраться.
Опыт покажет, насколько полезно пациенту брать на себя инициативу в фантазии. Терапевт ждет, чтобы пациент сам предпринимал важнейшие шаги. Нередко когда терапевт начинает что-то придумывать, пациент с ним не соглашается. Но терапевт может, по крайней мере, способствовать зарождению общей фантазии.
Пациент Л. на восьмой и девятой встрече с терапевтом изо всех сил старался вспомнить свои взаимоотношения с родителями в раннем детстве. Ничего не получалось, и он сказал: “Мое прошлое похоже на пустыню”.
Терапевт. Вы можете представить себе, как она выглядит?
Пациент. Да, я видел такую на севере Индии. (Описывает картины реальных воспоминаний.)
Терапевт. Вы можете увидеть себя в пустыне?
Пациент. Да.
Терапевт. Как вы одеты?
Пациент. Шорты, походная куртка, тропический шлем, две фляги...
Терапевт. А меня вы можете увидеть?
Пациент. Нет. Да, вообще-то, могу. Вы — старший спутник. (По своей инициативе он представляет джип, запас топлива, описывает переход в шестьдесят миль, говорит о правилах безопасности и т.д. Постепенно он переходит как бы от выдумки к реальности, начинает говорить в настоящем времени. Он изображает передвижение со скоростью пятнадцать миль в час: руки и ноги перенапряжены, жутко трясет, из-за чего каждый час надо менять того, кто за рулем.)
Терапевт. Мои руки чертовски болят, можете меня сменить?
Пациент. Да.
(Он описывает, как мы останавливаемся, чтобы поменяться местами. Жара невыносима. Пациент замечает, что мы проехали всего лишь десять с половиной миль вместо ожидаемых пятнадцати за первый час. Дорога становится почти непроходимой, и он советует терапевту взять карабин и идти пешком вперед. Он встревожился, когда терапевт скрылся за поворотом, оставив его одного. Потом, когда тот снова появился в поле зрения, его охватывает радость. Неожиданно на нашем пути оказывается бурная речушка. Пациент вылезает, чтобы посмотреть, как лучше проехать. Течение слишком быстрое, он возвращается, и мы ищем какие-нибудь подручные средства. Наконец, он перебрался на другой берег и машет терапевту, чтобы тот сел в машину и пересек речку. Джип застревает на середине потока. Тогда он снова входит в воду, и вместе нам кое-как удается выехать на берег. Он обеспокоен тем, что за два часа мы сделали только восемнадцать миль пути, хотя выехали рано утром. Придется ехать во время дневной жары, а это опасно. Пациент понимает, что невозможно повернуть назад и решает: надо продолжать путь, но при этом чувствует отчаяние.)
Может быть, вышеприведенный пример и не позволяет в полной мере понять, насколько пациент свободен не соглашаться с терапевтом, предлагающим свои ходы в совместной фантазии, но когда фантазия оживает, он с легкостью передает терапевту инициативу. Очевидно, что участие терапевта качественно меняет фантазию, делает ее более терапевтичной для пациента. Фантазия, о которой пациент просто рассказывает терапевту, слушающему и участвующему в ней только невербально, не столь действенна.
Пациент Д.K., жаловавшийся на страх перед гомосексуальными чувствами, сначала встречался с терапевтом раз десять, а потом снова пришел к нему год спустя. Он опять говорил в общих словах о подобных чувствах, но на этот раз сказал, что ему нравятся люди. Терапевт предположил, что тот уже принял свою женственность, но пока не осмеливается быть мужчиной.
Пациент. А здесь я ничего не понимаю, пустота.
Терапевт. Что в пустоте? Вы можете себе представить?
Пациент. Да. Множество маятников.
Терапевт. А мы там есть?
Пациент. Нет.
Терапевт. Вы можете представить там себя?
Пациент. Да. Я лежу лицом вниз под ними.
Терапевт. Они все одинаковой длины?
Пациент. Да.
Терапевт. А меня вы там видите?
Пациент. Нет.
Терапевт. Может быть, вы сможете меня увидеть, если поглядите вокруг. (Небольшая пауза. Потом на лице пациента появляется улыбка.)
Пациент. Теперь вижу. Вы стоите на другой стороне и весело смеетесь.
Терапевт. А почему я смеюсь?
Пациент. Не знаю.
Терапевт. Можно здесь что-нибудь поменять?
Пациент. Да.
Терапевт. Как?
Пациент. Я могу встать и уйти отсюда.
Терапевт. А я?
Пациент. И вы. Я как раз собирался вам это предложить.
Терапевт. Ну что же, идем?
Пациент. Сначала я сделаю одну вещь.
Терапевт. Какую?
Пациент. Не знаю, но, боюсь, если этого не сделать, я опять лягу на землю. (Пациент встревожен и обеспокоен.)
Терапевт. Что же вам надо сделать?
Пациент. Сломать маятники, наверное.
Терапевт. Вы сможете это сделать? С помощью инструментов?
Пациент. Обычно я этого не чувствую, но, кажется, у меня есть чем их сломать. Руками. (Три минуты молчания.)
Терапевт. Вам понадобится помощь?
Пациент. Да, подойдите сюда. (Раскрывает руки, приглашая терапевта.)
Терапевт. Я подошел?
Пациент. Нет, я сам подошел. (Придвигает свое кресло поближе к терапевту.)
Терапевт. Где мы теперь?
Пациент. За маятниками.
Терапевт. Теперь можно уйти отсюда?
Пациент. Нет. Я их сломаю.
Терапевт. Как?
Пациент. Об колено, но по одному.
Терапевт. А почему не все сразу?
Пациент. Не знаю. Они могут быть прочными.
Терапевт. Так что же, начнете?
Пациент. Хорошо. Возьму вот этот, писательский. (Это имеет отношение к его навязчивой привычке все записывать. Внезапно он берет воображаемую палку и ломает ее об колено. Напряженность проходит, он начинает смеяться.)
Пациент. Теперь он разрушен. Чудесно.
Совместная фантазия показывает, как терапевт может передать пациенту свою поддержку в его стремлении сломать детские оковы, делающие его рабом времени и навязчивости, имеющей отношение к подавленной агрессии. Интересно заметить, что подобную фантазию очень просто приостановить, если кончилось время встречи. Обычно фантазия продолжается в течение двух-трех встреч. Иногда ее приходится обрывать посередине, если время истекло и пациент может продолжать фантазировать уже без терапевта. Например, пациент, который ломал маятники, через три встречи сказал, что сам завершил свою фантазию, пока сидел в ожидании назначенного времени у терапевта. Он этим очень гордился. И сказал, что схватил один из маятников и с его помощью разнес на щепки все остальные. Начал искать их на полу, но потом решил плюнуть на это занятие.
Ошибки восприятия терапевта нередко являются средствами общения. Так, например, я работал с пациентом, с которым у меня сложились глубокие взаимоотношения, и мне однажды показалось, что из его левого глаза капают слезы. Я переменил свое положение и смог убедиться, что это иллюзия. Свободные ассоциации помогли мне понять, что слезы были моими. Я рассказал об этом пациенту.
Когда мы начали экспериментировать с засыпанием терапевта в присутствии пациента, многие были смущены и не хотели воспринимать такую технику всерьез. Позже мы научились пользоваться ей так, что терапевт мог уйти в дремотное состояние или на несколько секунд, на полминуты погрузиться в настоящий глубокий сон, а потом пробудиться и рассказать пациенту свое сновидение. Часто такие сны легко интерпретировать, но терапевт не пытается этого сделать, чтобы не испугать пациента. Когда же их просто пересказывают, они не усиливают тревоги пациента, но продвигают терапию вперед. Бывают сны, исполненные смысла и очень ценные для продвижения пациента. Одна пациентка играла в своей семье роль какой-то служанки и была этим недовольна, но в терапии мы ничего не могли поделать с ее проблемой. На пятой встрече я заснул и, проснувшись, рассказал о своем сновидении: “Я глядел на ваше лицо, и оно превратилось в огромный серебряный половник”. Затем я начал фантазировать и представил себе, как пациентка за столом обслуживает семью, сидящую напротив. Она разливает суп, держа в руке большой серебряный половник, а рука ее так замотана пластырем, что она никак не может налить суп в свою тарелку. Пациентка добавила, услышав мою фантазию, что сама питается тем, что случайно выплеснется из половника. Этот пример показывает, как можно обострить восприятие пациента и его понимание динамики своих проблем с помощью такого общения терапевта.
Последний пример использования сновидений взят из ситуации ко-терапии. Молодой психопат многое проработал в своей терапии, и однажды оба терапевта на одной и той же встрече увидели целую серию сновидений. Первый терапевт рассказывал свой первый сон: “Пожилая женщина упала на битые стекла. Я удивился, что она не поранилась”. Второй сон: “Женщина стоит на причале в черной кружевной юбочке”. Третий: “Мы с вами [с пациентом] говорим о ветре. Тут есть какая-то загвоздка. Мы думаем, что делать. Вы [пациент] говорите про ветер, что в конце концов он же тоже человек”. А второй терапевт на этой же встрече видел такие сны: пациент стоит на сцене в черных очках. Второй сон: на полу женщина бьется в истерическом припадке. Рядом стоят двое мужчин, но ситуация не воспринимается как проблема. Третий сон: что-то со всех сторон покрыто льдом. Он не может понять, что это — одежда или человек.
Можно заметить, что эти сновидения фрагментарны. Возможно, их ограничивают взаимоотношения двух терапевтов. Тем не менее, они являются еще одним каналом общения, по которому терапевт может что-то сказать, а пациент способен услышать нечто важное для своего изменения в процессе терапии.
Обычно считают, что поведение терапевта во время работы с пациентом имеет отношение к его профессиональному росту, но не является фактором помощи пациенту. Мы же полагаем, что необходимо обсудить с пациентом различные мелочи поведения терапевта, по меньшей мере, следует обратить на них внимание: “Я скрестил ноги”, “Я верчусь в моем кресле”, “Мне захотелось спать”, “Я немного ослабил мой пояс”. Это может указывать на скрытую агрессию терапевта, на его оральные фантазии, на подавление своей агрессии, на тот факт, что в нем живет интроецированный образ пациента. Обычно, по нашему мнению, терапевту не стоит интерпретировать данные явления, просто нужно сказать о них. А возможно, мы еще не научились в таких случаях интерпретировать эффективно. Наконец, в нашей группе мы стали говорить пациенту о соматических симптомах, появляющихся в ходе общения с ним. Таким образом терапевт показывает свою включенность в терапевтическую ситуацию. Мы сообщаем о всевозможных симптомах: о парестезиях, покашливании, головных болях, о приступах удушья или ощущениях, которые возникают при сенной лихорадке и гриппе, о напряжении мышц ноги или руки, о болях в желудке, об онемении конечности или о том, что хочется плакать без очевидной причины. Такое поведение терапевта еще мало изучено, но создается впечатление, что оно помогает пациенту.
Техники первой стадии психотерапии,
основанной на личностном опыте,
при работе с хроническими
шизофрениками
Написано совместно с Ричардом Е. Фидлером,
Томасом П. Мелоном и Джоном Воркентином
Замечание Гамлета о том, что “безнадежные болезни отчаянием и лечатся, — или же не лечатся вообще”, описывает ситуацию, в которой оказывается терапевт при работе с хроническим шизофреником. Чтобы эффективно работать с такими пациентами, терапевту надо пробиться сквозь их защитную изоляцию и вызвать в них хоть какие-то межличностные чувства. Терапевт должен быстро разрушить барьер страха, возникающий между собой и пациентом, чтобы установить с ним взаимоотношения вне его бреда. Вступая в такие взаимоотношения, терапевт должен в то же время прервать другие важные в развитии психоза отношения пациента.
И мы видим, что такие цели лучше достигаются косвенно, с помощью невербальных средств, в парадоксальной манере. Я не могу убедить вас в том, что я не боюсь или что я о вас забочусь. Но я могу, тем не менее, заботиться и не бояться. Шизофреник не доверяет словам или плохо их понимает, поэтому терапевт должен говорить своими действиями. Например, терапевт “бессознательно” утверждает, что не боится параноидного пациента, засыпая в его присутствии (см. ниже описание техник). Многие из техник первой стадии устанавливают контроль за общением с пациентом и структуру взаимодействия. Основная цель — создать “терапевтическую” двойную связь, из которой пациент и терапевт потом выходят. Но сначала надо построить отношения близости вне бреда — это цель первой стадии. И нам надо помнить, что все техники служат только строительству таких взаимоотношений. Когда возникают близкие отношения, техники становятся излишними.
При психотерапии сложных пациентов-шизофреников большинство неудач приходится на начало терапии. Авторы настоящей статьи на практике отыскали некоторые техники, которые помогают справиться с подобными проблемами. Во всех случаях мы не сомневались в диагнозе шизофрении, установленном или на основании симптоматики на данный момент, или на основе истории пациента. Мы исключили из этой группы неврозоподобную шизофрению и проблемы людей с шизоидным характером. Все пациенты, о которых пойдет речь, не готовы вступить в значимые взаимоотношения с терапевтом. Их перенос направлен на самих себя, то есть они не взаимодействуют с другими людьми. Нарушения межличностных взаимоотношений и общения у них столь велики, что обычные подходы терапевта неадекватны и неэффективны.
Сложности ранней стадии терапии таких людей возникают из-за характерной для них скудости взаимоотношений с другими, что ставит терапевта перед дилеммой. Для эффективной психотерапии нужны значимые взаимоотношения двух людей (Malone, Whitaker, Warkentin, & Felder, 1961a). Для терапевта недостаточно стать значимой частью бреда пациента. И потому в самом начале работы терапевт находится как бы в вакууме. Пациент вызывает у него только стереотипные чувства по отношению к “шизофренику” вообще. Этот уровень отношений похож на бред пациента. Терапевт должен установить такие отношения с пациентом, когда тот что-то значит как человек. Можно сказать о том же, глядя с другого конца: пациент должен дойти до такой точки, когда он не сможет игнорировать терапевта — не сможет просто включать его в свою бредовую систему или замыкаться в себе. И одновременно терапевт должен достичь такого состояния, когда он не сможет игнорировать пациента — не сможет просто быть администратором взаимоотношений и не станет убегать в лабиринт озабоченности его психопатологией. Моменты, когда оба они становятся друг для друга людьми, возникают на мгновение и исчезают. Проблема ранней стадии заключается в том, как сохранить и расширить эти моменты, чтобы возник контекст взаимоотношений, необходимый для терапии.
Сталкиваясь с такими пациентами, мы начали ставить перед собой определенные ограниченные цели. И вокруг этих целей строится начало терапии. Они отнюдь не охватывают весь процесс терапии, но их достижение на раннем этапе создает терапевтические взаимоотношения, внутри которых можно достичь всего остального.
Прежде всего, если говорить об этих ограниченных целях, мы хотим заставить пациента чувствовать (Malone, Whitaker, Warkentin, & Felder, 1961b). Спровоцированные взаимоотношениями чувства необходимы для развития переноса. Вторая цель — устранить страх пациента и, в какой-то степени, страх терапевта. Ужас — центральное эмоциональное переживание шизофреника. Терапевты, сталкиваясь с ужасом своих пациентов, нередко испытывают тревогу в ответ на нереальные переживания. Иногда эта тревога близка к ужасу. Третья начальная цель — установить взаимоотношения с пациентом вне его бредовой системы. Мы сознательно и упорно противостоим попыткам пациента нейтрализовать взаимоотношения путем включения их в бредовую систему. Четвертая цель — нейтрализовать взаимоотношения пациента, существенно влияющие на развитие его психоза. Мы не подразумеваем под этими словами разрешение патологических интроецированных внутренних взаимоотношений. Это составляет цель всей терапии. Мы только имеем в виду взаимоотношения в его реальной жизни, поскольку часто они связывают, парализуют или пугают пациента (Whitaker, Warkentin, & Malone, 1959).
Цель первая: заставить пациента
испытывать чувства по отношению к терапевту
Техника 1. Интенсификация и усиление чувств
Как и в других техниках, мы выводим из равновесия восприятие пациентом терапевта. Пациент видит, что обычные социальные правила не работают, и ему кажется, что “он никогда не встречал такой ерунды” (Warkentin, Felder, Malone, & Whitaker, 1961b).
Пример:
Пациент. Я вам не доверяю, я вообще никому не доверяю.
Терапевт. И не стоит, я всегда обманываю.
Техника 2. Прямая конфронтация
По нашим наблюдениям, конфронтация по поводу фактов или логических противоречий неэффективна. Но полезно заставить пациента понять, что у него имеется психоз.
Пример:
(Пациент-параноик украдкой глядит в окно.)
Терапевт. За окном слышны голоса.
(Пациент незаметно кивает.)
Терапевт. Вы в самом деле сумасшедший, правда?
Техника 3. Эмоциональное сальто
Шизофреник часто убегает от взаимоотношений с терапевтом, деля внезапное эмоциональное сальто: он неожиданно меняет свои чувства на противоположные. Терапевт, пользуясь этой техникой, таким же образом поступает и с пациентом. Он осознает свои чувства и намеренно выражает противоположные, стараясь усилить их как можно больше.
Пример:
Пациент (кататоник, время встречи кончается). Я ценю вашу заботу.
Терапевт (внезапно изменив свой тон). Мы закончили.
Пользуясь данной техникой, как и предыдущими, терапевт никак не объясняет своего поведения и не пытается быть последовательным.
Техника 4. Преднамеренная двойная связь
При помощи сознательного использования двойной связи можно вызывать тревогу и стимулировать образование переноса (Whitaker, 1958).
Пример (прототип любого вида двойной связи):
Терапевт провоцирует злость пациента, стряхивая пепел своей сигареты на его волосы.
Пациент выглядит раздраженным, сжимает зубы, ничего не говорит.
Терапевт. Если вы сердитесь, почему не скажете об этом прямо?
(Пациент вербально выражает свою злость.)
Терапевт (с грустью). И за что вы на меня так набросились? Я ведь только стараюсь помочь вам.
Техника 5. Насмешка над уловками пациента
Терапевт насмехается над бредом, неадекватным поведением, ложными чувствами или попытками его соблазнить. Этим он дает понять, что терапевт может быть циничнее своего пациента.
Пример:
Пациент (параноик, улыбается). Я уверен, вы хорошо знаете свое дело.
Терапевт. Сотрите эту дерьмовую улыбку со своего лица.
Техника 6. Отрицание священного отношения
к терапии
Ритуальная торжественность терапии отрицается для того, чтобы дать место человеческим взаимоотношениям.
Пример (ко-терапия):
Пациент. Как вы думаете, я когда-нибудь поправлюсь?
Терапевт 1 (обращается к другому терапевту, полностью игнорируя пациента). Тебе удалось починить лестницу за выходные?
Терапевт 2. О, да, сейчас расскажу.
Пациент. Я когда-нибудь поправлюсь?
Терапевт 1. Не перебивайте, мы говорим о важных вещах.
Техника 7. Молчание
Молчанием мы называем общение пациента и терапевта без слов, без улыбок, без движений. Они могут смотреть друг другу в глаза или на что-то еще или в пространство. Молчание может быть пустым, бесполезным и бесплодным, и тогда мы предполагаем, что молчание испорчено самоосознанием терапевта. Оно может быть наполнено самыми разными чувствами: любовью, гневом, ощущением единства с другим или ощущением одиночества. Усиливая чувство одиночества у пациента, молчание может привести к психотической реакции. Молчание создает вакуум инициативы, который может заполнить пациент. Терапевт иногда продолжает молчать, несмотря на попытки пациента вовлечь его в разговор. Каждый раз когда пациент начинает говорить, терапевт предлагает ему заткнуться, с каждым разом все агрессивнее и агрессивнее. Когда же пациент словами выражает чувство, мы относимся к такому общению с уважением.
Техника 8. Угрозы
Это попытка пробудить чувства в пациенте, вынуждая его взять в свои руки инициативу и ответственность за свою жизнь.
Пример:
Пациент. Я ничего не получаю от этой терапии.
Терапевт. Ты получишь место на койке в психушке на всю оставшуюся жизнь, если не сможешь получить что-то от терапии.
Техника 9. Использование примитивного языка
Различные разговоры на примитивном языке могут провоцировать шизофреников и нередко бывают эффективными средствами общения с ними. Уличный вульгарный язык, похабные анекдоты шизофреники не воспринимают как что-то неприятное и не видят в них юмора. Тем не менее, по их реакции можно понять, что такое сообщение для них ценно.
Пример:
(Можно рассказать любую неприличную историю, какая придет в голову, если, конечно, терапевт чуток и понимает ситуацию. История рассказывается не как смешной анекдот, а как притча.)
Такое общение показывает пациенту нашу готовность выйти за рамки обычных социальных правил. Пациент приглашается в мир фантазий психотерапевта. Мы пользуемся данной техникой интуитивно, методом проб и ошибок.
Техника 10. Деструктуризация
Мы специально обесцениваем магическое качество ситуации терапии, чтобы лишить пациента его представлений о том, что и как терапевт с ним делает. Тогда ломаются естественные стереотипы. Это помогает противостоять стремлению пациента подчинить программу терапии своему психозу. Деструктуризация разрушает психопатическую защитную систему пациента, с помощью которой он убегает от взаимоотношений и вызывает тревогу и замешательство.
Пример:
Пациент (параноик). Что нового вы поняли о моей болезни после нашей последней встречи?
Терапевт. Очень многое. Я специально оставался тут каждый вечер на три часа, чтобы молиться за вас.
Цель вторая: устранение страха
Техника 11. Профессиональное отыгрывание
в поведении
Мышление шизофреника бывает и конкретным. Шизофренику следует дать возможность выражать свои мысли через поведение. Когда в присутствии терапевта это невозможно, тогда с большей вероятностью у него возникнут проблемы в социальном взаимодействии с людьми. Моторное и проприоцептивное общение между терапевтом и пациентом помогает снизить ужас фантастических переживаний и способствует установлению контакта. Когда пациенту предоставляют возможность выразить сильные и пугающие его чувства, например, желание убить, через символические действия, его страх снижается.
Пример:
Пациент. Что у меня не в порядке?
Терапевт. Давайте сыграем в шашки, и тогда я вам все объясню.
(Пациент все время отдает свои шашки во время игры, и это действие полно символического смысла.)
Техника 12. Противодействие попыткам
пациента создать раскол
Пациент ужасно боится того, что может разлучить своих родителей. Мы называем это страхом создать “раскол” (Whitaker, Malone, & Warkentin, 1956). В индивидуальной терапии это страх расщепить материнскую и отцовскую функции терапевта. Пациент может также создавать раскол между терапевтом и своей семьей. Более явно данная тенденция проявляется при наличии двух терапевтов. Техники, которые утверждают первенство взаимоотношений между двумя терапевтами и вторичность отношений каждого из них с пациентом помогают значительно снизить его тревогу. При самом первом контакте с пациентом мы утверждаем это вербально. Так, однажды мы сказали одному пациенту: “Мы вдвоем уже многие годы, мы как бы супруги, и вам не удастся изменить наши отношения”.
Другая мера профилактики попыток пациента создать раскол — отказ от любого изменения структуры терапии, которое разделяло бы терапевтов. Например, один терапевт отказывается принять пациента, когда второй терапевт не может прийти, если, конечно, он ожидает появления таких проблем. Другой пример: один терапевт не принимает критику в адрес отсутствующего коллеги и настаивает на том, чтобы пациент прямо высказал ее в адрес этого человека. Еще один случай: один терапевт поддерживает решение другого, хотя мог бы и спорить с ним по данному поводу. Тем не менее, бывают случаи, когда, несмотря на все меры предосторожности, пациенту удается произвести раскол между двумя терапевтами. Тогда его ужас усиливается. Существует множество техник для выхода из подобного положения. Одна из них — передача ответственности в руки пациента. При этом ему следует сказать: “Вам удалось поссорить нас. Как вы будете теперь выкручиваться?” Или можно исключить пациента из взаимодействия до тех пор, пока терапевты не справятся с проблемой сами. Например: “Вы разделили нас. Сидите теперь молча, пока мы будем в этом разбираться”.
Техника 13. Телесный контакт
Причина, по которой терапевт или пациент вступают в телесный контакт, имеет отношение к инфантильному способу взаимодействия регрессировавшего шизофреника. В каком-то смысле терапевт относится к пациенту как к настоящему ребенку, для которого мало что значит слово, но зато важен телесный контакт (Warkentin, & Taylor, 1957). Иногда прикосновение руки изменяет направление общения, а порой — даже и всей терапии. Надо ясно сознавать, что поведение пациента мотивировано его потребностями, а поведение терапевта — профессиональной оценкой ситуации.
Пример (соприкосновение рук):
Пациент (кататоник). Не знаю, что делать с моими руками. (Он непрестанно двигается.)
Терапевт. Ваши руки потерялись.
(Пациент сидит молча, смущен и заинтригован, но не способен произнести слово.)
Терапевт (протягивает левую руку, ладонью вниз, затем говорит). Вы можете положить вашу руку на мою?
(Пациент какое-то время неуверенно смотрит, затем медленно и со страхом мягко кладет свою руку на руку терапевта. У обоих дрожат руки, они напряжены и скованы.)
Терапевт. Мне приятно, что ваша рука теплая.
(Пациент начинает расслабляться, его рука располагается с большим комфортом на руке терапевта, и начинается общение на новом уровне.)
Техника 14. Терапевт засыпает
Иногда нам случается засыпать во время работы с пациентом. Хотя это происходит непроизвольно, мы не сопротивляемся желанию заснуть. Это может оказаться сильной техникой для того, чтобы снизить страх пациента.
Пример:
(Терапевт пробуждается после короткого сна.)
Пациент (параноик). А вы не боитесь, что я вас убью?
Хотя бывает и так, что сон терапевта — это следствие тревоги, он все равно ясно показывает пациенту, что не боится его агрессии.
Другая причина сна: терапевт не испытывает никаких чувств к пациенту и делает бессознательную попытку их отыскать. Иногда сон терапевта вызывает эмоции у пациента. Нередко терапевт видит при этом сон о пациенте и, пробудившись, рассказывает его.
Кроме того, терапевт таким способом дает понять, что его ответственность за пациента и за ход терапии не безгранична. И, наконец, сон терапевта и его расслабленная поза помогают пациенту расслабиться и таким образом снижают страх. Терапевты чаще засыпают в ситуации ко-терапии. Если же пациент засыпает во время терапии, терапевт может его будить или не будить, полагаясь на свое понимание данного момента.
Техника 15. Ожидание
Терапевт предполагает, что само его присутствие — терапевтично. Это скорее установка, чем поведение. Она позволяет спокойно относиться к общению, не переживать по поводу того, когда же наконец построятся взаимоотношения, не думать об окончании терапии.
Пример:
(Терапевт с удовольствием участвует в маленьких разговорах, растягивая каждую тему до абсурда.)
Пациент. Кажется, дождик пошел.
Терапевт. А я ждал дождика еще вчера. Вряд ли будет лить до завтра.
(И так далее.)
Техника 16. Временное всемогущество терапевта
Образ сильного и директивного родителя снижает страх пациента. Терапевт своим поведением говорит, что может помочь пациенту, что уверен во взаимоотношениях, что пациент вступит с ним в контакт.
Пример:
(Пациент-гебефреник никогда не приходил к терапевту вовремя, поскольку обычно в нужный момент у него возникали приступы поноса и рвота.)
Терапевт. В следующий раз приходи на час раньше, и если тебе захочется покакать или поблевать, сделай это в ожидалке и принеси сюда в пакетике.
Пример:
(Пациент-кататоник, войдя в кабинет терапевта, трижды щелкает пальцами.)
Терапевт. Хочешь все разрушить, а? (Тоже три раза щелкает пальцами, и пациент подпрыгивает.)
Терапевт. Берегись, а то я щелкну в четвертый раз.
Техника 17. Временное признание в своем бессилии
Пациенту нужно давать возможность идентифицироваться с терапевтом. Это невозможно, когда терапевт кажется всемогущим. Идентификация играет существенную роль в снижении страха пациентов. Ужас шизофреников во многом является побочным продуктом чувства зависимости.
Приписывая ответственность за выздоровление самому пациенту — насколько позволяют его силы Эго, — мы уменьшаем страх. Здесь необходимо тщательно рассмотреть ситуацию. Лучше передать ответственность пациенту, чем приписывать ее себе. Сам по себе выбор уменьшает страх, иногда вследствие динамики двойной связи. Когда терапевт играет роль Бога, выбора нет. Можно признать свое бессилие многими различными способами.
Пример:
Терапевт. Вы победили меня.
Терапевт. Может быть, дальнейшее продолжение терапии будет ошибкой.
Терапевт. Если нам повезет, удастся добиться того, что вы больше не будете попадать в больницу.
Терапевт (параноидному пациенту, который за последние годы уже побывал у нескольких терапевтов). Я не лучше, чем мои предшественники.
Цель третья: установить взаимоотношения
с пациентом вне его бредовой системы
Техника 18. Смена техник
Терапевт должен уметь выводить пациента из равновесия. Сама по себе неожиданная смена техник достигает этой цели. Терапевт может поменять свое поведение на совершенно противоположное. Противоположности свойственны шизофрении, и такие перевороты принимают во внимание данную особенность пациента. Примером может служить ситуация, когда сначала терапевт приписывает себе всемогущество, а потом признает свое бессилие.
Техника 19. Терапевт делится своими фантазиями
Терапевт, начиная работу, в ответ на слабую включенность пациента в терапию предлагает ему свои фантазии16. Подобные фантазии возникают спонтанно как свободные ассоциации по поводу поведения и слов пациента. Терапевт предлагает их безо всякой интерпретации. Они косвенно показывают пациенту динамику его бреда, так что пациент вынужден продолжать борьбу с данной проблемой внутри себя. Это отнимает у него возможность убежать от взаимоотношений путем включения терапевта в свою бредовую систему.
Пример:
Параноидный пациент, внешне расслабленный, сидит с закрытыми глазами. Терапевт говорит о своей внезапно пришедшей ему на ум фантазии о том, что у пациента есть маленькие щелочки в веках, сквозь которые он наблюдает за окружающим миром. Пациент отвечает: “Мне вдруг стало стыдно. Никогда раньше не знал, что я так чувствую. За две минуты от этого ощущения я страшно устал”. (Терапевт как бы сказал пациенту: “Ты сам подглядываешь за жизнью других людей, а не другие за твоей жизнью”.)
Техника 20. Игнорирование вторичных симптомов
Пациент может говорить о симптомах для того, чтобы избежать взаимоотношений с терапевтом. Терапевт не принимает эти симптомы всерьез, прямо называя их враньем или настаивая на разговоре о чем-нибудь более реальном.
Пример:
(Пациент долго описывает воображаемое межпланетное путешествие.)
Терапевт (после того, как неоднократно перебивал его). Вы хотите, чтобы я помог вам?
Пациент. Мне, конечно, нужна помощь.
Техника 21. Отражение
Это что-то вроде психиатрического дзюдо. Терапевт усиливает бред пациента.
Пример:
Пациент (параноик). Что, в настольной лампе микрофон?
Терапевт. Конечно. Все разговоры также записывают и потом публикуют в “Ежедневной газете Атланты” невидимыми чернилами.
Техника 22. Овеществление и очеловечивание
Часто шизофреники в своем искаженном восприятии превращают людей в предметы. Они отчаянно защищают такую бредовую систему, пока терапевт не проломает в ней брешь. Он может это сделать, разбив на отдельные фрагменты переживания пациента или показав свои переживания, сходные с бредовой системой пациента.
Пример:
Терапевт (вне связи с предшествующими словами пациента). Вы — мраморная статуя посреди площади в Греции.
Техника 23. Речь “наоборот”
Иногда вследствие защитного отвержения реальности пациент говорит противоположное тому, что чувствует. Он может, например, заговорить о своей безнадежности в тот самый день, когда в терапии началось движение вперед. Поскольку прямая атака на такие слова ни к чему не приводит, терапевт может присоединиться к пациенту и вести разговор на языке, перевернутом с ног на голову. Это порою выглядит как сарказм терапевта, хотя он, терапевт, совсем не сердится. Данная техника обесценивает слова и подчеркивает, что между пациентом и терапевтом должно происходить какое-то взаимодействие.
Пример:
Пациент. Я хочу сказать, что моя мать не имеет отношения к моей болезни.
Терапевт. Разумеется, это так, ваша мать замечательный человек и очень может вам помочь сейчас. Она уже сделала для вас все возможное.
Техника 24. Двойная связь наоборот
Двойная связь — это наружное выражение любви и метачувство холодного отвержения. В данной технике мы делаем все наоборот. Терапевт выражает враждебность с метачувством теплого приятия. Техника помогает снять чары первоначальной двойной связи.
Пример:
Терапевт. Почему я должен это делать?
Пациент (гебефреник). Это мне поможет.
Терапевт. Меня не волнует, поможет это вам или нет.
Цель четвертая: нейтрализовать
взаимоотношения пациента,
существенно влияющие на развитие его психоза
За многие годы работы с шизофрениками мы стали понимать, что самой трудной проблемой начальной стадии терапии являются административные взаимоотношения терапевта с семьей пациента. Мы испробовали множество техник для нейтрализации семьи, чтобы сделать возможной психотерапию пациента. И тем не менее, все они оказались достаточно неэффективными. Мы старались изолировать пациента от семьи. Пытались включить членов семьи в параллельную терапию. Приглашали членов семьи на терапию пациента-шизофреника. И все время наталкивались на серьезные трудности. Мы все больше склоняемся к той точке зрения, что основная проблема шизофреника — это принятие на себя роли спасителя семьи, особенно, спасителя своих родителей. Все наши техники направлены на то, чтобы избавить пациента от такого самопожертвования. Сейчас нам представляется, что лучший способ нейтрализовать взаимоотношения пациента, существенно влияющие на развитие его психоза, — это терапия со всей семьей шизофреника как с единым целым.
Резюме
Мы перечислили и кратко описали некоторые техники, которые, по нашему мнению, можно эффективно использовать на ранних этапах психотерапии шизофреников. Эти техники отражают более общие установки. Во-первых, мы стремимся принять ограниченные возможности работы с такими пациентами на ранней стадии терапии. Во-вторых, мы понимаем, что в большей мере отвечаем за шизофреников и за работу с ними, чем при терапии других пациентов. Это отчасти выражается в том, что мы напрямую общаемся с внутренним “ребенком” пациента и с его болезнью (Whitaker & Malone, 1953). В психотерапии же невротика мы, напротив, большею частью прямо обращаемся к “взрослому” пациента и к его здоровью. Но основа психотерапии — это всегда встреча двух людей.
Превербальные аспекты
психотерапии шизофреников
Что побуждает терапевта заниматься интенсивной психотерапией с шизофреником? Эта работа быстро становится личной до боли. Ответ Витакера может изумить: терапевту это нужно. Точнее говоря, терапевту, который может успешно работать с шизофрениками, присуща особая потребность, может быть, бессознательная, — интегрировать свою собственную иррациональность. Терапевт действует и на основании этой личной потребности, и на основании заботы о пациенте. Заботу он выражает многими способами, самые важные из которых — невербальные или же превербальные. Поскольку превербальный уровень общения связан с дословесной жизнью младенца, он не такой расплывчатый и более надежный, чем слова, появляющиеся позднее. Шизофреник не доверяет словам, а бессловесное общение ему понятно и вызывает доверие. Так выражение заботы становится конкретным и недвусмысленным. Выражая себя помимо слов, терапевт символически присутствует в терапии весь целиком. Тогда шизофреник понимает, что терапия — не просто “встреча двух умов”, но целостная встреча двух людей. Терапевт таким образом показывает свою конгруэнтность и ждет того же от пациента. Иными словами, он передает пациенту, что в терапии невозможно говорить одно и делать другое и что всякое действие отражает в себе слова.
Другое превербальное сообщение терапевта говорит о том, что терапевт, хотя он и заботится о пациенте, в той же степени сознает и уважает свою собственную целостность. И тогда шизофренику становится трудно не относиться подобным образом к самому себе. Читатель должен помнить, что “забота”, о которой говорит Витакер, представляет собой взаимоотношения, а не определенный набор поведения. Проявлять заботу — вовсе не то же самое, что быть дружелюбным, вежливым или добрым, как мы увидим это на примерах.
Хотя моя тема и называется “Превербальные аспекты психотерапии шизофреников”, я все же не совсем ясно представляю себе значение слова “превербальные”. Оно может нас обмануть, и в результате никто так и не поймет, что же оно значило.
Я хочу поговорить о понятии “шизофрения”. О нем не принято говорить лично, хотя это очень личная вещь. Можно заниматься психотерапией со студентами-медиками или невротиками, оставаясь только профессионалом. Но я знаю по опыту, что работа с шизофреником становится очень личным переживанием. Личным до боли. И то, что я собираюсь рассказать, в огромной мере лично касается меня. Общаясь с вами, я пытаюсь прочувствовать и узнать вас. Я хочу рассказать о нашем опыте и о том, что он значит для нас17. Надеюсь, будет время поговорить и о вашем опыте; мне кажется, глупо вставать в три часа утра, если ты не собираешься поговорить о чем-то действительно для тебя важном.
И прежде чем пойти дальше, я хочу рассказать вам, на чем основана наша работа с шизофрениками и мои представления о ней. Все, о чем я буду говорить, есть результат взаимодействия нашей группы. Некоторые из нас приехали сюда, а некоторые остались в Атланте. Мы уже в течение двух-трех лет регулярно обсуждаем проблемы психотерапии шизофреников. То, что я скажу, чем-то похоже на то, о чем говорили Джон Розен, Милтон Вечлер или Майк Хейворд16. Если вы попытаетесь найти здесь сходства и отличия, то обнаружите, что основные расхождения у нас намечаются по вопросу о вербализации, поскольку говорить о невербальном сложно. Я почти не буду касаться вербального общения, поскольку, на мой взгляд, слова при шизофрении значат сравнительно мало.
Я все больше убеждаюсь в том, что терапевтические взаимоотношения — это взаимоотношения личные. И я хочу поговорить о моей личной роли в психотерапевтических отношениях. Подзаголовком к названию моей темы можно поставить слово “общение”. Есть вербальное общение, главное в социальном взаимодействии. К этой же рубрике можно отнести и письменную речь, музыку и многие другие привычные формы общения. Естественно отнести сюда же и устную речь, но в ее состав входит то, что я бы отнес к превербальному общению — тембр, модуляции голоса, тон, паузы. В психотерапии люди стремятся к пониманию того, что стоит за вербальным общением, и мы в каждом пациенте стремимся создать особое напряжение, которое заставляет его заполнять пробелы как в нашем вербальном, так и в невербальном общении. Может быть, лучше назвать его “вневербальным”, чем “превербальным”. В шизофрении мы общаемся не с ребенком, а со взрослым человеком, у которого сформировались свои способы общения, не такие, как у ребенка. В категорию вневербального общения входят многие виды межличностного поведения: проприоцептивные ощущения, поза, напряжение мышц (особенно мышц лица, рта, шеи и глаз, конечностей и спины. Все это пациент может воспринимать, и он гораздо более чуток к вневербальному общению, чем мы предполагаем. Вдобавок, на нас самих влияют всевозможные напряжения мышц. Наше настроение определяется и изменяется, следуя за позой, тоном и так далее. И все это влияет на терапевтические взаимоотношения.
Еще один вид вневербального общения — взгляды, их взаимодействие. Вы знаете, как это сильно действует, когда на тебя уставился пациент. А тот может в свою очередь сказать, сколь многое он переживает под вашим взглядом. На нас действует сила молчания — когда молчите вы или когда молчит пациент. Существует множество видов молчания: молчание ожидания; теплое, наполненное любовью молчание; молчание битвы двух воль — пациента и терапевта, — которые сражаются за то, кто будет проявлять инициативу.
Откуда берется общение? По каким каналам оно течет? Какая сила его подпитывает? На время хочу сузить фокус нашего внимания и сосредоточиться на том, как пациент передает нам свои чувства и свою тревогу. При этом я хочу еще раз категорически подчеркнуть: по моему убеждению, основа терапии — эмоциональный контакт с пациентом. Вы спросите: “Как же этого достичь, когда с некоторыми пациентами общения совсем не происходит, с другими общение очень ограничено, а с третьими — общение возникает лишь временами?” Есть одна постоянная величина: пациент хочет выздороветь. Он хочет расти и быть зрелым человеком. Я не вижу разницы между биологическим стремлением организма расти, достичь полного роста своего тела, и биологическим стремлением к полной зрелости. Если это так, и пациент — величина постоянная, то проблема заключается только в терапевте. Неспособность вступить в общение с шизофреником — это неспособность терапевта эмоционально вовлечься в ситуацию, чтобы в достаточной мере испытывать чувства к данному пациенту, неспособность в достаточной мере верить в возможность его выздоровления, чтобы вложить самого себя в это общение.
Далее, почему терапевт погружается в подобные взаимоотношения? Почему он испытывает сильные чувства по отношению к пациенту? Вы ответите: “Такова его работа”. Меня такой ответ не устраивает. Вы не пойдете на все эти муки и страдания, необходимые для того, чтобы вступить в контакт с шизофреником, если вас не подтолкнет нечто большее, чем чисто “профессиональный” интерес. Что же заставляет терапевта вступать в общение? Тут могут быть два ответа. Я думаю, у терапевта есть та же самая мотивация, что заставила пациента обратиться за помощью: биологическое стремление к росту, к зрелости, стремление в полной мере стать самим собою. Обычно мы предполагаем, что терапевт — уже зрелый человек, но это не совсем так. Тогда бы ему было незачем стремиться к зрелости. Я считаю, что многие терапевты достаточно зрелые в том смысле, что не страдают серьезными нарушениями в сфере межличностных взаимоотношений, но в то же время в них остались неразрешенные кусочки психопатологии. Возможно, эти проблемы находятся за пределами межличностной территории. И может быть, именно поэтому терапевт так глубоко всем своим существом погружается в терапию, потому что ищет там разрешения своих проблем, например, хочет исправить патологию образа своего тела. Должна быть у терапевта какая-то глубокая и лично значимая мотивация, вынуждающая его вступать в такие сильные и переполненные эмоциями взаимоотношения с шизофреником, без которых невозможна никакая терапия.
Еще один вопрос, который нам надо уяснить, прежде чем мы перейдем к описанию самого процесса этих взаимоотношений. Это вопрос позиции терапевта по отношению к технике. В терапии шизофреника терапевт ищет значение. С невротиками же он интересуется информацией. При работе с шизофрениками существует антагонизм между информацией и значением. Стремясь собрать информацию, мы можем терять понимание значения, а стремление понять значение приводит к неудачному сбору информации.
Другая вещь, на наш взгляд, крайне важная при профессиональной работе с шизофрениками: отход терапевта не только от вербального общения, но также в большой мере и от реальности. Надо, чтобы терапевт сознательно выходил за пределы границ своего Эго. Где же он может найти чувство защищенности, чтобы рискнуть и вступить в столь глубинные взаимоотношения с шизофреником? Самый очевидный ответ: в своей собственной психотерапии, где он был пациентом. Во-вторых, в группе. Проблема, возникающая у терапевта при работе с шизофреником, заключается в том, что он далеко отходит от культурных стереотипов приемлемых чувств и поведения, поэтому ему необходимо иметь веру в себя, иначе он перепугается и не сможет участвовать в столь примитивных взаимоотношениях.
Терапевт как бы постоянно разделен на две половинки. Он одновременно и реальный человек, и символическая личность. Одной ногой вам нужно стоять на территории безумия, другой — на земле. Иногда при глубоком погружении в процесс терапии вы можете совсем оторваться от земли, но только в том случае, если уверены, что найдете дорогу назад. Приведу пример. На прошлой неделе мы начали работать с новой пациенткой, страдавшей шизофренией. В середине третьей нашей встречи у нас произошел полный глубокого символического значения обмен трубками. Мы были втроем: двое терапевтов и пациентка. Мой коллега предложил ей свою трубку, но та не смогла курить ее и возвратила назад, а он, в свою очередь, тоже не смог ею воспользоваться. Тогда, думая, что ему хочется курить, я протянул ему мою трубку. Он покурил и предложил мне свою. Я сделал несколько затяжек из нее, а потом протянул ее пациентке. На этот раз она смогла курить.
Думаю, наши действия были исполнены особого значения: пациентка заметила выражение любви терапевтов к ней, но смогла наблюдать также и их взаимную любовь друг к другу. Такие вещи глубоко западают в душу. Потом время нашей встречи истекло, и мы произнесли: “Ну, все”. Как будто стали другими людьми, вырвались из того мира, где только что пребывали втроем. Она сказала: “Хорошо, до свидания”. Но не двигалась с места. Кто-то из нас, совершенно переместившись в реальность, спросил: “Так что же вы не уходите?” Терапевту следует использовать обе свои половинки, и та, и другая нужны пациентке. Ей необходимо знать, что вы принадлежите ей, и в то же время — самому себе, что она тоже в чем-то существует независимо от вас.
Другая важная часть таких взаимоотношений (также невербальная) — переживание общих фантазий. Мы все время пытаемся учить пациентов, говоря им о необходимости выражать свои свободные ассоциации. Мне кажется, что подобный подход не работает при терапии с шизофреником. Лучше, когда сначала поток ассоциаций выдает терапевт. Осмеливаясь говорить вслух обо всем, что лезет в голову, и выходя за границы своего Эго, он прокладывает дорогу для пациента. Тут встает следующий вопрос: как достичь способности общаться преимущественно невербально? Это можно сделать, выходя за рамки функции своего Эго, освобождаясь от реальности в той мере, в какой это для вас возможно.
Такой подход имеет свою долгую историю развития в нашей группе, где мы пробовали разные формы и механизмы работы. Прежде всего, мы практиковали ко-терапию. Это многое дает при работе с шизофреником, и порой мы выясняем наши собственные взаимоотношения в присутствии пациента. Как вы можете себе представить, иногда это затрудняет работу и даже порождает свои проблемы. Но результаты данного подхода и присутствие двух терапевтов, взаимодействующих друг с другом на глубоком уровне, искупают все его недостатки. Для того чтобы психотерапевт мог дозреть до общения на превербальном уровне, мы использовали множество культурно неприемлемых и примитивных форм контакта с пациентом. Одной из первых таких техник стало кормление пациента из бутылочки — символическое вскармливание грудью. Делая это первый раз, я был в панике. То же самое я чувствовал, когда впервые усадил пациента к себе на колени, когда впервые осмелился дать пощечину женщине, ударившей меня, когда впервые дал пощечину пациентке, прежде чем та ударила меня. Такая решимость, выхода за пределы своего самоконтроля и способность дойти до того состояния, когда используешь свою собственную незрелость в терапии, требует защиты. Прежде всего защиты терапевта от его собственной боли. И здесь невероятно помогает присутствие ко-терапевта.
Почему надо учиться таким странным вещам? Насколько я понимаю, кормление пациентов из бутылочки (я начал делать это в 1945 году) появилось в результате чувства неуверенности, которое я испытывал, принимая на себя роль матери. Я стыдился своих материнских чувств. Вот что заставило меня повернуться к этой проблеме и разрешить ее. Так продолжалось два с половиной года. Позже я пользовался кормлением из бутылки всего-то не более шести раз. Оно стало для меня лишним. Пациент получает то, что хочет, через выражение моего лица, тон голоса и другие невербальные проявления моего отношения к нему.
То же самое относится и к агрессии. В самом начале моя телесная агрессия по отношению к пациентам была патологической. Она и сейчас такова. Я буду выражать им мою патологию до тех пор, пока не дозрею до состояния, когда это станет излишним для терапевтической помощи. Вы спросите: “Может быть, им можно помочь и без этого?” Я лично в этом сомневаюсь.
Хочу также поговорить и о том, как терапевт может развивать свои способности к общению на невербальном или превербальном уровне. Привыкая молчать и обмениваться взглядами в качестве общения, терапевт приходит к убеждению, что можно заставить пациента посмотреть на тебя, то есть побыть вместе с тобой визуально. Это усиливает фрустрацию. Фрустрация же ведет к засыпанию, что можно интерпретировать разными способами.
Некоторые из интерпретаций могут нас расстроить. Может быть, терапевт погружается в сексуальные фантазии? В агрессивные фантазии? Или он просто утомлен? Чепуха! Мне снятся сны, которые потом помогают пациентам. Это невербальное общение. Я часто сам не понимаю, что значит такой сон, не понимает и пациент. На пятой или шестой встрече с одним пациентом я заснул, и мне снился целый десяток сновидений. Первого сна я не помню. Во втором было что-то про алюминиевую сковородку, я тоже его не запомнил, он казался бессмыслицей. Третий сон был про электростанцию. Я стоял на мостике рядом с каким-то человеком. Это был Кеттеринг18. Он сказал: “Я пришлю моих людей, и мы все наладим”. Это имело отношение к пациенту. Пациент, в отличие от меня, понял мой сон, и такой сон был нужен ему на уровне эмоций. Мой коллега предположил, что это была реакция на фрустрацию. Не знаю. Не думаю, что это верно.
Последняя история, и я заканчиваю. У нас была пациентка, страдающая шизофренией. Мы работали с ней вчетвером. Она все время повторяла: “Сидите там. Не подходите ко мне”. Мы обсудили нашу тактику и однажды уселись вплотную к ней. Она ударила меня по лицу. Я ударил ее в ответ и позволил ей ударить меня снова. Она ударила меня с удвоенной силой. Тогда я обезумел от ярости. Я дал ей оплеуху изо всей силы. Вы можете себе представить, как врачи проделывают подобные вещи в экстренных случаях с пьяными пациентами. На следующей встрече наши взаимоотношения с пациенткой стали глубже, улетучился страх. Потом у нас наладились нормальные отношения близости и любви. Это можно объяснять по-разному. Я понимаю, что изменение пациентки произошло в ответ на мое требование, чтобы она признала во мне человека и относилась как к человеку и к себе самой. Если я смогу рискнуть выйти из себя и в каком-то смысле “сойти с ума” в ее присутствии, тогда, может быть, и она сможет сделать подобный шаг. В результате лучше будет нам обоим.
Индивидуальная и семейная терапия
в психотерапии шизофрении
В этой лекции Витакер приглашает нас совершить прогулку по территории шизофрении и психотерапии. Он изумляется и задает вопросы, и мы видим, как эпизоды его автобиографии, примеры, метафоры и теории, вывернутые наизнанку, то вырастают под нашим взглядом как под увеличительным стеклом, то исчезают из поля зрения. Витакер всегда крайне амбивалентен, когда рассуждает о теории или о заранее определенных мнениях, которыми человек руководствуется в своих действиях. Теория может вредить, лишая терапевта остроты зрения и гибкости (см. часть III). Задавая свои вопросы, Витакер не ждет одного правильного ответа среди всех возможных ответов. Скорее он показывает различные точки зрения на вопрос, многие из которых могут оказаться полезными в практике терапевта. Очевидно, что терапевт выбирает те теории, которые лучше всего соответствуют его опыту, так что свои рабочие теории он может черпать из любого источника, в том числе — и от своей матери! Теории помогают тем, кто учится ремеслу психотерапии. Мы наблюдаем на примере самого Витакера, что теории могут нас вдохновлять и стимулировать, а не только сужать поле зрения и ограничивать. Он хочет, чтобы мы научились ими пользоваться.
Хочу обозначить некоторые главные пункты. Во-первых, мой опыт, мой подход к шизофрении отличается от всяких других теорий и от моей собственной также. Во-вторых, я хочу определить, что подразумеваю под словом “теория”. Это весьма широкий термин, и к нему можно отнести почти любую форму мышления. Насколько “мышление” влияет на терапию шизофрении, для меня очень спорный вопрос. Порой мне кажется, что мышление помогает в огромной мере. А иногда оно мне представляется скорее помехой или проблемой, чем подспорьем. Тем не менее, если я понимаю слово “теория” в самом широком смысле, если в теорию входят фантазии и творчество, тогда ответить на данный вопрос гораздо легче.
Упоминая теорию (в том широком смысле, о котором я говорил выше) и шизофрению рядом в одном предложении, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом: “Что есть шизофреник?” Является ли шизофреник самым чистым представителем всех психотиков? Человеком, который попал в капкан двойной связи и разрушился на этом? Может быть, главное в нем то, что он “козел отпущения” в патологической семейной структуре? Или же шизофрения — это биохимическое изменение, возникающее в определенной психосоциальной среде, изменение, ставшее стойким и необратимым? А может быть, шизофреник — исключенный из родительского треугольника “третий лишний”, “овеществленный” человек, ставший никем, чтобы сохранить дух своей семьи? Такой человек, превратившийся в вещь, все равно играет социальную роль, поскольку и роль городского пьяницы, по словам Марка Твена, есть выборная должность.
Далее. Если предположить, что шизофреник выбран своей семьей как необходимый противовес эмоционально перегруженной семейной жизни, то не является ли сама семья ритуальным актером на социокультурной сцене? Мы даже не понимаем того, как шизофреник участвует в жизни: более полно, чем мы, или в меньшей мере. Пытаемся ли мы подражать шизофренику? Или же в процессе терапевтической борьбы стремимся заставить его подражать нам, чтобы он обладал как своим безумием, так и нашей культурной нормальностью? Иногда мы жалеем его, иногда — завидуем. Если для него любить — значит умереть на кресте, а быть любимым — значит быть убитым, то не означает ли это, что его мир разрушен, а мы играем с ним в восстановление? И опять-таки, не играем ли все мы сами в подобную игру, но с другим набором правил, игру в восстановление мира? Разрушен ли наш мир?
Если мы предполагаем, что помощь нужна скорее ему, чем нам, тогда что у него не в порядке? Многие годы мы думали, что шизофреник получал неправильную материнскую любовь, затем начали думать о том, что неполадки надо искать у его матери. Позднее некоторые переключились на отца и пришли к убеждению, что яд содержался в браке его родителей. Затем кто-то снова заинтересовался генетикой.
Размышляя о теории, я думаю об антиподе шизофреника — о социопате. Может быть, социопат вместо того, чтобы убегать от мира, нападает на мир? Его сложнее лечить и еще сложнее определить, чем шизофреника. Является ли он другим полюсом всего множества людей? Скрывает ли он свою шизофрению?
Является ли он качественно иным соединением из X шизофрении и Y социальной неприспособленности, возможно, со своей уникальной биохимией?
Является ли нормальной здоровой семьей та, которая мягко колеблется между полюсом шизофреногенного поиска “козла отпущения” и полюсом социальной манипуляции? Когда процесс стабилизации семейной системы нарушается, не использует ли она шизофреника как балласт, который выкидывают за борт корабля, чтобы тот не пошел ко дну? Что происходит, когда температура в семье поднимается слишком высоко и все становятся безумными, как хиппи? Может быть, в такой семье слишком много любви для социальной структуры? А что происходит, когда в семье слишком холодно и каждый человек — политик? Такая семья, быть может, слишком механистическая для нашей социальной структуры? В поисках теорий я все время задаю себе такие вопросы. Почему не каждый человек становится шизофреником? А может быть, дар психотического диатеза и есть самый прекрасный дар, который дает семья? Дает ли он глубину?
Существует почти столько же теоретических моделей психотерапии, сколько существует людей, которые ей занимаются. Тем не менее, в терапии, как и в браке, понимание, информация, знания, философская ориентация могут не иметь ни малейшего отношения к самому процессу взаимодействия двух людей. Взяв за основу индивидуальную терапию, мы можем считать ее стандартной единицей изучения. И все совершенно меняется в том случае, если мы приглашаем второго терапевта и создаем треугольник или же приглашаем второго пациента и создаем треугольник. Но если представить себе, что любая диада есть треугольник, из которого изгнали третьего, тогда всякий вид психотерапии — это ко-терапия и терапия пары. Можем ли мы использовать теоретическую модель индивидуальной терапии, чтобы работать с парой или вдвоем с коллегой и открывать то новое, что появляется в такой ситуации? Можем ли открыть ограниченность взаимоотношений двух людей? Открыть ограниченность взаимоотношений в треугольнике, состоящем из двух пациентов и терапевта или из двух терапевтов и пациента? Существуют ли различия между этими двумя видами треугольников?
Согласно моему предвзятому мнению, третий человек вносит свободу во взаимоотношения — будь то большая свобода пациента или терапевта. Становятся возможными новые движения, весьма ограниченные, если в комнате сидят только двое. Одна из важнейших особенностей динамики треугольников — силовые ходы или движения власти. Во многих ситуациях двое явно сильнее одного. Опасность образования стойких или подвижных коалиций, опасность разделения между членами треугольника ведет к интенсивной борьбе за межличностную власть. В данном контексте каждый человек может чувствовать себя как скованным, так и открытым, стремясь к свободе и к удовлетворению своих нужд во взаимодействии.
В партизанской войне, называемой психотерапией, ценны те теории, которые можно приложить на практике. Для моих собственных сражений я добывал теории из разных мест. Самые практичные теории дали мне маленькие дети. Игровая терапия Мелани Кляйн и ранкианская процессуальная терапия Фреда Аллена требовали, чтобы я научился общаться на невербальном и превербальном уровне. Мои способности работать с проблемами оральной зависимости выросли из моего детского одиночества на ферме, из моего голода по контакту с другим человеком и жажды телесного соприкосновения. Кое-что я перенял у Джона Розена, кое-что — у маленьких детей, а еще нечто — у моей святой матери.
Теории контроля, анальной дисциплине и структурированию я научился, главным образом, у Джона Воркентина с его естественной манерой использовать сарказм и контроль. Аналитическая теория Фрейда пришла ко мне через Тома Мелона. Тем не менее, потом она выковывалась в схватках с коллегами, с которыми мы вместе работали в терапии. За три года, проведенные среди трудных подростков, я создал свои собственные теории о том, как придать пациенту статус достойного соперника и как с ним сражаться, пытаясь одержать победу. Я черпал свободу для взаимоотношений с шизофрениками из своей семьи дома и из моей профессиональной семьи. Наша близость при ко-терапии не всегда была теоретической.
Более широкие теории тоже помогали мне учиться психотерапии. Пол Шилдер открыл путь моим фантазиям о нарушении образов у шизофреника по отношению к своему телу, о создании кумира для поклонения, о его “Я”, которое он может потерять. Мои фантазии с бутылочками для кормления младенцев помогли мне открыть, что любой телесный контакт есть, несомненно, близость со своим телом. Не отрицает ли контакт тел матери и ребенка связь его тела с бесконечным “Я”? И если это так, помогает ли психотерапия установить контакт и оставаться в контакте? От людей, занимающихся анализом общения, я научился смирению: мне открылось многое, что раньше можно было разглядеть лишь в движениях тела или в лингвистике. Мы с Томом Мелоном обменивались сигналами при курении трубок. Тем не менее, когда через семь лет я проделывал то же самое с другим пациентом, это оставалось вне моего сознания до того момента, пока я не увидел своего поведения на видеокассете. Это лишь подтвердило мое убеждение, что надо подозрительно относиться к себе, к своей работе, к моим заключениям и восприятию. Мои теории — это просто мои сны.
Бейтсон и его группа с их теориями двойной связи и концепциями комплементарных и симметричных взаимоотношений подтолкнули меня к размышлениям о семьях, а не просто об отдельных людях. Кормление из бутылочки сменилось физической борьбой, что оказалось не менее эффективным подходом, когда я осмелился его попробовать. А сейчас и то, и другое вытеснено позицией властного родителя, структурирующего терапию и вынуждающего пациентов принять на себя инициативу.
Затем, когда мои внутренние чувства и самовосприятие по отношению к ним обретают прочность, я сознательно начинаю сражаться за право быть самим собой и требую того же от них — вопреки и наперекор тревоге в наших взаимоотношениях. Я “теоретически” убежден в том, что взаимоотношения не строятся на действиях и не зависят от них. Ни отвержение, ни отвращение, ни скука, ни любовь не создают взаимоотношений. Взаимоотношения возникают каждый раз заново и продолжаются вечно.
Часть III
подготовка и рост терапевта
В своих работах Витакер много внимания уделяет вопросам обучения и роста личности будущего терапевта. В части II проводится ясное разграничение между социальным терапевтом и терапевтом профессиональным. Первый направляет и поддерживает пациента, но не устанавливает с ним подлинно терапевтических отношений. Социальный терапевт нередко направляет пациента к профессиональному терапевту. Профессиональный терапевт, напомним, всегда ищет в профессиональной работе импульс для своего личного роста. Как учитель в каком-то смысле — это “вечный студент”, так и профессиональный терапевт является “вечным пациентом”. Подобная устремленность личности создает чувство направления в терапевтической работе. При встрече с каждым пациентом профессиональный терапевт ставит на карту свой личный рост. Его надежды на изменение пациента отражают надежды на изменение себя, и одно не может быть сильнее другого. Профессиональный терапевт для Витакера — современная версия шамана или целителя. Шаман сражается со своими демонами не меньше, чем с демонами пациента.1 Шаман берет с собой пациента в иной таинственный мир, где оба они пребывают какое-то время, чтобы потом возвратиться назад исцеленными. Шаман должен заниматься терапией, должен стремиться к тому, чтобы она у него получалась. Его путешествие никогда не проходит легко. В вопросах обучения и роста терапевта, в вопросах взаимоотношений между терапевтами или взаимоотношений между терапевтом и окружающей его культурой мы можно увидеть аналогию с шаманами.
“Сначала поговорим о выборе профессии. Мы предполагаем, что все психиатры выбрали свою работу из-за того, что боялись безумия или интересовались им. Всех психиатров можно разделить на две группы: на тех, кто оставил надежду найти свое безумие, и на тех, кто продолжает поиски. Мы думаем, что психологи выбрали свою профессию из желания, отдающего вуайеризмом, подглядывать за своей внутренней жизнью. Выбор профессии социального работника, возможно, связан с мечтой об обществе, похожем на матушку землю, дающую необходимые для роста питание и порядок, который все мы ищем в социальных структурах или в группах”2.
Следовательно, у терапевта есть свое призвание, есть потребность заниматься терапией, исследовать пределы своего роста, искать источник своего творчества. Откуда такая потребность возникает, мы не знаем, возможно, она зарождается в младенчестве. Часто терапевты в детстве, как бы готовясь к будущей профессии3, в своей семье разрешали проблемы, находили объяснения, играли роль заместителя родителей.
Поскольку природа важнее, чем среда, вся подготовка терапевта, если не считать его участия в терапии в качестве пациента, оставляет достаточно поверхностный отпечаток на его характере. Он должен сам пережить опыт глубокой терапии с более опытным профессиональным терапевтом. Мир переживаний пациента даст будущему терапевту возможность прикоснуться к реальности и откроет значение символической жизни и творчества бессознательного.
Новичок, становясь пациентом, начинает чувствовать свои потребности и психическую незрелость. Отчасти он освобождается от психопатологии, но осколки ее все же остаются. Такая встреча с нереальными переживаниями психотерапии, открытие реальности и значимости символической жизни порождают в обучающемся стремление к росту. Опыт роста, пережитый в тот момент, когда терапевт сам был пациентом, дает надежду на будущее, и эта надежда отражается в его последующей работе с пациентами. Обучаться терапии лучше всего в команде с более опытным ко-терапевтом. Правильнее начинать обучение с семей, потом следует перейти к парам и только в конце — к индивидуальной терапии. Когда человек в своем профессиональном младенчестве начинает с семей, он получает больше возможностей наблюдать разные типы переносов и ролей. А семьи, в свою очередь, меньше страдают от его неизбежных ошибок.
Присутствие более опытного ко-терапевта позволяет экспериментировать во время терапии и обеспечивает защиту. Совместная работа и ее обсуждение — более живой и ценный способ обучения, чем работа с отстраненным супервизором. Каждый терапевт должен найти свой собственный стиль и подход, и, хотя подражание является неизбежным шагом в процессе обучения, Витакер его не слишком ценит. Старший терапевт может научить установкам, а не набору техник. Многие терапевты, конечно, не согласятся с этими утверждениями. Витакер противопоставляет свой стиль стилю Минухина и, косвенно, всем тем, кто считает подражание ценной вещью.
“В отличие от стиля Минухина, мы пользуемся не вертикальной, а горизонтальной моделью и придаем огромное значение интуитивному методу учащегося устанавливать отношения. Сам опыт работы с супервизором более важен, чем обучение техникам и методикам. Вопреки мнению Минухина, мы убеждены, что наблюдение и техническое обучение со стороны супервизора порождает в учащемся сомнения в себе и создает у него зависимость от техники. Тогда (при использовании бихевиористских техник) работа делается скучнее, а терапевт меньше становится личностью, а в большей мере — таким же учителем”4.
Учащиеся всегда будут интересоваться техниками. Витакер считает, что техники — то есть сознательное использование определенного поведения с определенной целью — необходимы для начинающего терапевта или для растущего терапевта, вступающего в новую незнакомую область работы. Тем не менее, все техники быстро изживают свою ценность и превращаются скорее в оковы, чем в помощников. Поэтому от них стоґит как можно скорее избавляться. Например, терапевт может использовать молчание или конфронтацию как сознательную стратегию, направленную на создание близости в терапевтических взаимоотношениях. Тем не менее, построение всей терапии вокруг одной такой техники ограничивает силу терапевта и ставит под сомнение успех его работы. Слишком часто хвост начинает махать собакой.
“[Терапевт, пользующийся медицинской моделью,] отчужден в своей профессиональной корректной холодности, он чувствует превосходство, он — специалист, из милости делящийся своим знанием с нижестоящими. Подготовка терапевтов в таком ключе отличается мертвым формализмом и учит занимать позицию всемогущества по отношению к пациенту. Даже когда такой терапевт пользуется фрейдистскими, неофрейдистскими или экзистенциальными теориями в своей работе, он превращает их в орудие обозначения пропасти между ним и пациентом. Он пытается с их помощью спрятать свою личность, — короче, чтобы уничтожить всякий след того факта, что они с пациентом принадлежат к одной и той же семье людей”5.
Так, например, Витакер отказывается от психоаналитической техники — от метода свободных ассоциаций, когда аналитик выполняет функцию “пустого экрана”, — как от метода психотерапии. Витакер согласен с Фрейдом, что этот метод хорош для исследования, но считает, что он недостаточно эффективен для психотерапии. На деле Витакер показывает, что он принимает многое в психоаналитических теориях развития человека (см. введение к части II).
Использование теории может также стимулировать рост и вдохновлять, а не только ограничивать или способствовать “запору” личности. Под теорией мы понимаем любую схему, объясняющую положение вещей. Как указывали Уильям Джеймс и позднее Адольф Мейер, теория может сделать человека слепым по отношению к фактам, может ограничить его возможности. Размышление над теориями нередко закрывает доступ к переживаниям во время терапии. Каждый терапевт бессознательно выбирает теории, способствующие его росту. Теория — средство, а не цель. Новичку надо предлагать множество теорий, но не вбивать их в голову. А некоторым терапевтам теории роста и терапевтического процесса, быть может, просто не нужны.
Период, когда будущего терапевта защищают и питают, кончается, хотя и не существует обряда, обозначающего его переход в другое состояние. Может быть, такой момент наступает, когда официально заканчивается программа обучения. Это может не соответствовать степени готовности юного терапевта к новому периоду жизни. Как бы там ни было, внезапно терапевт оказывается в так называемом реальном мире. И вскоре открывает две неприятные вещи: (1) он должен хранить свое первоначальное стремление (стремление к росту), чтобы остаться профессионалом; (2) роль терапевта, его роль, как и роль его предшественника, шамана, расходится с традициями культуры.
Тревога и изолированность от коллег ведут к застою. Возникает искушение стать не профессионалом, а техником, не участвующим в своей работе целиком. Чтобы остаться профессионалом в том смысле, в каком это слово употребляет Витакер, терапевту требуется в самом буквальном смысле слова обратная связь, с помощью которой он смог бы увидеть, как он работает. Ему также необходима поддержка в его ежедневных экспериментах на своем рабочем месте, чтобы освободиться от профессиональных переживаний, не нести их к себе домой и не проигрывать в своей частной жизни.
Витакер видит выход в создании “теплой профессиональной группы” — группы коллег, питающих, дающих перспективу и приучающих к дисциплине. Конечно, эти коллеги тоже должны быть профессиональными психотерапевтами, которых, в свою очередь, тоже нянчит группа. Подобную поддержку может давать ко-терапевт или психотерапевтическая группа. Когда у профессионального терапевта есть такие возможности, ему легче жить — как в реальном мире, так и в нереальности мира психотерапии. Эти два мира пересекаются и захватывают нас: мы стараемся лечить наши собственные семьи или ждем любви от наших пациентов. Риск работы в одиночку огромен.
“Каковы же результаты многих лет индивидуальной терапии? Обычно психотерапевт или психоаналитик становится более холодным и отчужденным, менее увлеченным, менее чутким; он несет груз фантазий терапии, но не посвящен ей целиком. Может быть, такой терапевт перегружен чувствами, которые на него проецируют? Может быть, он впал в депрессию, озлобление или мечтает о самоубийстве? Или он станет администратором и будет помогать заниматься терапией другим?”6
Очевидно, что для Витакера психотерапевт — это творец, для которого, как для Сократа, жизнь становится искусством искусств. То, что началось с освоения техники, становится приключением и поиском красоты. Его профессиональная работа и личная жизнь соответствуют друг другу. С годами профессиональный терапевт все больше удивляется парадоксам, укорененным в существовании человека, и все больше готов их принять. Он удивляется тому, что мы в полной мере становимся самими собой только среди других, тому, что для близости нужно находиться отдельно от других. И так далее. Может быть, он становится более мудрым, но сам не скажет об этом.
Непрекращающееся обучение
профессионального терапевта
Профессионализм психотерапевта заключается в его стремлении расти. Это делает его “вечным пациентом”. Так он избегает опасности стать всего-навсего техником. Настоящая глава посвящена препятствиям и искушениям, встающим на пути профессионального терапевта, обреченного существовать в изоляции от коллег и идти против течения культуры.
Изоляция частнопрактикующего терапевта приводит к тому, что он вовлечен в работу либо слишком сильно, либо слишком мало. Ему необходимо найти регулятор интенсивности в своих занятиях терапией. Для повышения своей дееспособности Витакер предлагает заниматься игровой терапией с детьми, участвовать в групповой терапии, пользоваться помощью ко-терапевта и, наконец, поддержкой “теплой профессиональной группы”.
Статья изображает динамику такой группы в Клинике Атланты. На своих встречах терапевт, один из членов группы, рассказывает о своих пациентах, о переживаниях и планах терапии. Затем следует критика в стиле свободных ассоциаций, (это напоминает технику “горячего кресла”). Общее стремление к профессиональному росту и разнообразие характеров присутствующих воздействуют на каждого и сплачивают группу. Участие в ней является противоядием от изоляции, присущей индивидуальной терапии, и, по словам Витакера, дает свободу для проведения исследований без особого на то разрешения. Не является ли это формой групповой терапии? Витакер отвечает: нет, поскольку это отношения взрослых со взрослыми, не требующие длительной регрессии и зависимости. У каждого остается право наложить вето на мнения других людей по поводу его работы.
Мы не встречали в литературе упоминания о подобных группах. Может быть, наши читатели повторят такой опыт и напишут об этом?
Наша конференция была посвящена вопросам обучения молодых, накапливающих опыт студентов. Настоящая глава написана потому, что мы понимаем: обучение должно продолжаться все время, иначе мы умрем. Те же проблемы, факты и результаты исследований предстают несколько в ином освещении, потому что мы будем говорить об обучении друг друга, об обучении равных. Кто может научить нас, старых собак, новым трюкам?
Ховард Поттер, Генриетта Кляйн и Дональд Гудено (1957) заметили, что публика отворачивается от психотерапии. Это, по их мнению, связано с тем, что мы превратились в монополистов. Нам, конечно, свойственно сектантство. Может быть, мы совсем закостенели и не способны меняться?
Возможности — утерянные и открывшиеся
Всех психиатров, активно занимающихся психотерапией после более или менее удачного периода обучения и более или менее удачного прохождения психотерапии можно разделить на четыре категории: на тех, кто растет профессионально; на тех, кто держит оборону; на тех, кто отступает; и на тех, кто спасается бегством. Никого не удивит встреча с психотерапевтом, который за время своей работы настолько декомпенсировался, что сам нуждается в срочной психиатрической помощи, признает он это или нет. Другие отступают постепенно, оказавшись в профессиональном тупике с самим собой. Они становятся холодными, далекими от пациентов и обычно проигрывают свои проблемы на работе, хотя бы в форме вежливого равнодушия. Те, кто держат оборону, — это рабочие лошадки психиатрии. Они нередко числят себя эклектиками. Порой это означает, что у них просто нет глубоких убеждений, они перепрыгивают от одного компромисса к другому. Часто они трудятся механически и потому оказываются бессильными в настоящем бою с семьей или с пациентом. Они становятся техниками, которые выслушивают, дают советы, манипулируют. Часто они преданы какой-то школе или технике, в которую сами не очень-то верят. Доктор Чарльз Ваткинс назвал бы их “терапевтами-техниками”. И, наконец, существуют настоящие профессионалы. Я подозреваю, что мы, здесь собравшиеся, относимся к этой самой категории и потому смотрим на остальных сквозь наши предубеждения.
Личностный и профессиональный рост
Психотерапевтом движет, быть может, главным образом стремление к личностному росту. (Если он сам не был пациентом, то ситуация складывается тяжелая, но в этом тоже есть свое счастье). Он становится всегдашним пациентом в ситуации, отчасти психотерапевтической для него. Собственный рост психотерапевта — лишь побочный продукт его работы, и поэтому ограничен ситуацией. Такой человек в какой-то мере пользуется своей психопатологией в психотерапевтической работе с пациентом. Мы можем наблюдать это на студентах-медиках, которые обучаются у нас психотерапии (Malone, Whitaker, & Warkentin, undated). Данное явление описано в литературе и оказывается удивительно эффективным средством при работе с пациентом.
Обычно профессиональное взросление психотерапевта связывают с тем, как он сам проходил терапию или анализ. Это вопрос открытый, нуждающийся в дальнейшем исследовании. Может быть, взаимоотношения между тем и другим не так уж просты. Нам встречались стажеры, чья индивидуальная терапия проходила успешно, но это совсем не проявлялось в их профессиональной деятельности — ни сразу, ни через какое-то время. Их личностный рост не повлиял на компетентность в работе с пациентами. Очевидно, прохождение психотерапии не явилось для них подходящей формой обучения.
Для профессионального роста психотерапевту необходим опыт и возможность данный опыт с кем-то обсуждать.
Уникальность обучения психотерапии заключается в том, что тут нужна определенная доза тревоги. Психотерапевту следует научиться рисковать и стремиться к росту, преодолевая свои собственные границы. Таким образом, растущему профессиональному психотерапевту надо, несмотря на техническую подготовку, всегда оставлять для себя открытой возможность самому быть пациентом.
Бремя частной практики
Частный психотерапевт — символическая фигура для своего пациента, но у него также много других утомительных дел. Каждому новому пациенту надо ставить диагноз; необходимо установить административные рамки для того, чтобы справиться с возможными проблемами поведения пациента во время терапии и со стремлением стать пациентами его членов семьи. Надо писать планы и отчеты для врачей, приславших пациента, или для организаций, чтобы окружающее общество не вмешивалось в символические взаимоотношения.
Например, у женщины с “большим опытом” шизофрении на пятой встрече появилось типичное кататоническое возбуждение. Через два часа позвонил ее начальник и заявил: “Кажется, вас пора увольнять”. Еще через час — звонок ее сестры: “Мэри нужно срочно вернуться в больницу, вы согласны?” Три совершенно несовместимые роли.
То, что происходит с молодым психотерапевтом очень напоминает феномены, описанные в трех, независящих друг от друга, исследованиях сенсорной депривации. Терапевт не лишен света, звука или тактильных ощущений, как испытуемые в тех экспериментах. Но он находится в особой изоляции, о которой мало говорят на таких конференциях, как наша. В большей мере, чем родитель, начальник или чиновник, он лишен здоровых, как мы теперь говорим, “экзистенциальных” отношений, которые направляют человека. Терапевт одинок. Он не получает тепла от пациентов; их чувства направлены на символ, который он представляет. Терапевт пребывает в изоляции большую часть рабочего дня. А свои собственные чувства вынужден контролировать, как сдерживает себя родитель в боксерском поединке с четырехлетним сыном. Он дозирует свое участие, чтобы оно было приемлемым для пациента, занятого своим переносом. И потому подвержен профессиональной болезни. Мы называем ее “синдром проститутки”.
Как пробить дорогу своему
профессиональному росту?
В психотерапии много бессознательного. Динамика обучения психотерапевта требует участия его личности гораздо в большей степени, чем при обучении какому-либо интеллектуальному занятию или ремеслу. Психотерапевтами рождаются или становятся? Нужно ли для этого изучать систему концепций? Надо ли знать все, что можно, о психопатологии? Даже если человек хорошо подготовлен, возникает новый вопрос: не сковывает ли его это знание? А если сковывает — необходимо вырываться из оков. Этим вопросам и посвящена настоящая глава. Если в награду за социальный конформизм мы получаем социальную, межличностную и эмоциональную защищенность, то что мы получим, прорываясь сквозь эти ограничения? Очевидно, сначала — “разрыв” с окружающими в той или иной степени Г.К. Честертон писал: “Я верю в пользу купания в горячей воде, это сохраняет чистоту”. Так и психотерапевт должен терпеть сильные тревоги и фрустрации. Начало этому было положено во время его обучения, но общаться с супервизором — внимательным врачом — и с пациентом, обратившимся за помощью, намного легче, чем независимо следовать взрослой профессиональной практике психотерапии. Тут терапевт работает без заботливого присмотра и в какой-то мере — вопреки желаниям семьи. Терапевту надо впитать все терапевтичное из современной культуры и беречься всего антитерапевтичного. Тогда, развивая в себе эти способности, он научится принимать естественные стимулы, которые дают ему окружающие люди. Счастлив терапевт, использующий общение с пациентами, коллегами и критиками для роста в своей работе. Но если он наркоман определенной теории или связан излюбленной техникой, тогда он не сможет найти в себе необходимой гибкости. Тогда его реакции становятся однообразными и отрешенными от контекста и в конце концов перестают выражать его чувства.
Моя трехлетняя дочь недавно сделала открытие, что колыбельные, которые я пел предыдущим пятерым детям, отдают холодом. Она отказывалась слушать их, настаивая, чтобы я пел лишь те, что выучил недавно и не успел еще как следует “рафинировать”.
После периода формального обучения психотерапевт попадает в ситуацию, где от него требуют большей ответственности и независимости. Это неизбежно делает его объектом социального давления. Он постепенно склоняется к конформизму, отказываясь двигаться против течения культуры, чего непременно требует роль психотерапевта. Большинство терапевтов вырываются из подобного тупика, и сейчас нам предстоит обсудить, как они это делают.
Психотерапевт многому учится, общаясь с пациентами, с врачами, которые их направили, с семьями пациентов, с соседями и с коллегами. Но часто это общение поверхностно, а нередко оно еще и способствует формированию бреда всемогущества. Тогда появляется искушение спрятать свои профессиональные способности от проверки реальностью. Некто прекрасно сказал, что практика ведет к совершенству во всем, не только в талантах, но и в недостатках. То, что могло бы учить, зачастую уводит в сторону.
Именно неуверенность в своей новой профессиональной роли тормозит рост. Поэтому нам нужно обрести чувство защищенности, чтобы лучше общаться с пациентами. Пребывая вместе с другими — в обществе, среди коллег, в кругу соседей, в церкви и, особенно, в нашей семье, — мы находим это чувство защищенности, но оно же, как наркотик, и соблазняет нас, предлагает играть приятную роль терапевта, который не слишком хорошо слушает. Выбраться из плена нам помогает какой-нибудь сильный пациент, который своим негативным переносом разрушит наш бред всемогущества или покажет, что мы его не слышим. Или таким человеком может оказаться какой-нибудь очень значимый пациент, смутно напоминающий мать или старшего брата. Возможно, какой-нибудь выдающийся человек вдохновит нас снова устремиться к росту. Иногда пациенты, лечившиеся у другого терапевта, несут в себе отзвук его пыла. Иногда это пациент, который решил вас покинуть и отправиться к кому-то еще. Помогает даже необходимость защищать своего пациента от его семьи, пытающейся добиться прекращения терапии, помогает и внезапное столкновение со своим собственным контрпереносом к семье. Все это открывает новые горизонты.
Доктор А. несколько месяцев работал с пациентом по имени Джим. Иногда доктору звонили жена и мать Джима, живущие в другом городе. Однажды в тот день, когда встреча с Джимом прошла плохо, они позвонили ему в очередной раз. В приступе внезапного надрыва он не только рассказал им “всю правду” о том, что они сделали его пациенту за все прошедшие годы, но еще и добавил, что не сомневается в том, что им самим нужна терапия и что пациент никогда больше не будет у них под каблуком.
Такие истории приводят к неприятным последствиям, о чем вы все хорошо знаете. А если такой дерзкий поступок проходит без последствий, терапевт может стать еще более неосторожным и пойдет по дороге углубляющегося конфликта с окружающими. Но чаще всего подобная сверх-идентификация оставляет после себя чувство вины, заставляющее идти на компромиссы, приносить в жертву свою целостность и независимость. Так, административные неудачи кого-то заставят покинуть область психотерапии, а кого-то быстро сделают более эффективным терапевтом.
У практикующего терапевта также бывают неудачи с пациентами. Пациент может все ходить и ходить или уйти из его кабинета и памяти. Однако, когда терапевт всерьез включен в работу, его неудача с пациентом становится болезненным, но эффективным обучающим опытом.
Пит — компенсированный шизофреник, не раз лечившийся в госпитале — за один год интенсивной терапии достиг большого прогресса: он нормально работал и достаточно хорошо приспособился к социальной жизни. Терапевт, наблюдая его стабильное улучшение, захотел подтолкнуть пациента, чтобы тот быстрее вошел в обычную жизнь. Пит застрелился. Через год терапевт все еще переживал это событие и много фантазировал о Пите. Он стал по-новому понимать целостность пациента. Теперь он знает: когда пациенту становится лучше, опасно форсировать его движение и требовать, чтобы он сразу приспособил свои новые возможности к социальным структурам.
Существует две простые техники, помогающие терапевту достичь большого профессионализма. Самая простая — это игровая терапия с детьми. Когда человек сидит на полу и играет с пятилетними детьми, что-то происходит с его бредом величия, которым он заразился от своих взрослых пациентов. Дети избавляют его от навязчивой веры в слова и учат больше общаться через игру, символами в которой становятся игрушки, учат общаться при помощи телесного контакта. Терапевт учится невербальному общению, а неструктурированный характер игры высвобождает чувства. С пятилетним пациентом легче быть самим собой, его легче любить, и удовольствие от общения с ребенком затем нередко переносится на взрослых.
Мой аутичный восьмилетний пациент в своей семье называл меня “пушистое лицо”. Эта кличка возникла после того, как однажды он прижался лицом к моим бакенбардам.
Терапевт получает возможность расти, когда сходит со своего пьедестала. Этому помогает групповая терапия. Несложно строить из себя какую-то священную персону в своем кабинете, сидя на своем кресле, но в группе статус терапевта гораздо более подвижен. Иногда о нем забывают, и члены группы сами, без него, помогают друг другу, или он как бы становится пациентом наравне с другими. Это еще один “прорыв”, выход из символического одиночества.
В 1945 году в Окридже однажды утром, придя в группу, я мог наблюдать пятиминутную пародию на свои привычные жесты и ответы. Это переживание до сих пор оказывает на меня очеловечивающее действие, воспоминание о нем живет как сила, заставляющая учиться.
Остальная часть этой дискуссии будет посвящена обучению и профессиональному росту в среде коллег. Терапевты нередко помогают друг другу и делятся друг с другом или непосредственно, когда проводят терапию совместно с несколькими терапевтами, или в группе, где обсуждают все новые случаи и где коллеги являются консультантами друг для друга.
Группа психотерапевтов в клинике:
взаимное обучение
Мы говорили о том, как многие одинокие психотерапевты в своей деятельности постепенно склоняются к компромиссам. Это делает работу малоэффективной. Под давлением общества терапевт может стать “лицемером” в большей степени, чем средний обыватель. И не факт, что он будет развивать свои способности и держать равновесие между деятельностью и оценивающим взглядом со стороны. Психотерапевты по своей природе похожи на мулов, а говорят, что мулов трудно учить. Есть забавная история о том, как городской человек приехал на ферму с намерением заниматься сельским хозяйством. Он купил себе мула и никак не мог заставить его сделать хоть один шаг. Он позвал на помощь своего соседа-старика. Тот попросил кусок толстой веревки и спокойно начал стегать мула сначала по ребрам с обеих сторон, потом по голове. Хозяин начал протестовать против такой жестокости (понятие, прямо связанное с темой нашей дискуссии), а старый фермер ответил: “Мистер, если вы намерены учить мула, надо сперва привлечь его внимание”. Перед нами стоит проблема: как привлечь внимание психотерапевта, чтобы он сам позаботился о себе и создал себе среду для защиты от профессионального увядания. Лучшая защита из тех, что мне известны, — это группа коллег.
Группа
Трудно определить, благодаря чему образуется хорошая группа коллег. Ведь это превращает нашу работу в объект пристального исследования. Прежде всего, в такой группе необходимо добровольное согласие каждого быть и пациентом, и терапевтом для всех остальных. В такой группе все — и супервизоры, и учащиеся. Группа должна сама направлять процесс обучения. Тогда все будут уважать друг друга и достигнут политического соглашения по вопросу: нужна в данном случае шоковая терапия или транквилизаторы. Но каждый человек должен иметь возможность свободно экспериментировать в своей работе. Весьма вероятно, что ему захочется получить от других санкцию на проведение подобных экспериментов. Каждый имеет право накладывать вето на решения группы относительно своей работы. Возможно, участникам группы надо учиться терпеть манию всемогущества друг у друга, в то же время не боясь постоянно ставить это всемогущество под сомнение.
Работа в терапии, когда ты являешься членом клинической группы, — это экзистенциальная встреча (May, 1958). В сфере отношений пациента и терапевта преобладает перенос, отношения же с коллегами могут быть более личными; они учат, как быть терапевтичным при экзистенциальном столкновении с пациентом. Скажем более прозаично: такая группа учит терапевта тому, как выстраивать свободные взаимоотношения. Терапевт учится открывать перед пациентом определенные стороны своей реальной жизни, своего подлинного “Я”. Терапевт, работу которого никто не видит, скрывает ее от постороннего взгляда. Участие в группе отучает скрываться и от пациента, и (вместе с пациентом) от окружающего мира; и первое, и второе превращает терапевта в мумию. Очевидно, что обмен своими переживаниями в группе ведет к спорам и к поискам совместной оценки. Таким образом группа коллег становится обучающей группой, основанной на экзистенциальной встрече.
Доктор A. впервые встретился со своим новым пациентом, а на вторую встречу, согласно обычным правилам, в качестве консультанта пришел доктор B. Он услышал историю пациента, поговорил с его женой, и те ушли. Как только дверь закрылась, доктор В. сказал: “Убийственный пациент”. Доктор А., напротив, ничего “убийственного” в нем не находил. Но последующие пять встреч постепенно выявили параноидную структуру личности пациента. Для доктора А. это послужило полезным опытом.
Коротко говоря, участие в группе позволяет смелее устремляться к росту в динамических колебаниях между ростом и гомеостазом. Участие в такой группе приводит к тому, что терапевт теряет способность к компромиссу. Уильям Ослер в своей лекции называл это состояние “Aequanimitas”.
Процесс обучения в группе
Возможность научиться чему-то новому значительно увеличивается в тот момент, когда в терапевтическую ситуацию входит кто-то посторонний, разрушая невротическое качество обычного пребывания с глазу на глаз с пациентом. Это верно и тогда, когда такой посторонний является непрофессионалом (супруга на первой встрече, вся семья, собравшаяся, чтобы принять решение, пара или семья, явившиеся для психотерапии). Еще лучше, когда третье лицо — это коллега: консультант, пришедший на вторую встречу с пациентом или появившийся в период тупика в ходе терапии, двое терапевтов, занимающиеся с одним пациентом или с одной группой. Тогда и стремление терапевта к новшествам становится обучающим, будь то изменения организации, процедуры при изменении в характере своего участия в психотерапии, то есть в ее стратегии и тактике.
Взаимодействие
В тех сферах, где терапевту не удается быть конструктивным, ему следует долго учиться, как пользоваться поведением тех, у кого это хорошо получается. Как говорил доктор Лиф, сначала меняется только поведение, а уже потом — установки. Так, доктор А., мягкий, с материнским характером, не умеет пользоваться иронией как терапевтическим средством, но это естественно получается у доктора В. Доктору А. надо потратить несколько лет на то, чтобы научиться пользоваться этим социально неприемлемым, но ценным в психотерапии инструментом. Доктор А. похож на одного человека, который обожал своего щенка и не мог обрезать ему хвост, чтобы не причинить боли, хотя понимал, что это необходимо сделать. Тогда он, движимый состраданием, стал обрезать хвост постепенно, по маленькому кусочку каждый день.
Некоторые говорят, что такое обучение — искусственно, но по нашему мнению, оно похоже на обучение удару при игре в гольф: можно научиться у тренера делать взмах, но какое-то время этот элемент не интегрируется в способность играть. Кроме того, профессиональный терапевт может чему-то учиться лишь в такой ситуации, где уровень тревоги достаточно мал. Поэтому большая ответственность за пациента или необходимость противостоять культуре не дают возможности учиться. Тревога, препятствующая обучению, — вот причина, объясняющая, почему так важны групповая терапия, терапия, проводимая вместе с коллегами, терапия для супругов, сильные взаимоотношения с коллегами и возможность иногда включиться в какую-либо социальную группу.
Около двух лет назад мы решили, что до начала терапии с каждым новым пациентом должны встретиться терапевт вместе с консультантом, хотя многие из нашей группы вначале предполагали, что подобная процедура окажется в большинстве случаев достаточно бессмысленной. Результаты почти напугали нас. Многие самые обычные пациенты представляли сложнейшие проблемы, когда терапевт при первом контакте допускал ошибку. Мы также поняли, что контрперенос похож на любовь с первого взгляда.
К доктору А. на терапию пришла негритянская танцовщица, красавица, не представлявшая для доктора никакой серьезной проблемы. Он сообщил консультанту, что все идет как надо. Но когда доктор А. рассказывал об этой пациентке коллегам, консультант хохотал до боли в животе, видя полную неспособность доктора А. связно изложить историю танцощицы. Оговорки терапевта и сужение восприятия ее жизни открывали многое. Все мы сочувствовали доктору А.
Диагностическая встреча группы коллег
Типичная встреча началась на полчаса позже назначенного времени, поэтому те, кто пришли вовремя, раздражены. Доктор А. говорит: “У меня новый пациент, семнадцатилетний парень, ситуация испорчена лечением у психиатра в Висконсине в 1955 году и лечением у нас в прошлом году. Им занимался доктор Д. Семья парня зла на доктора Д., и все они обратились ко мне. Только недавно у пациента наладились отношения с доктором Д., и теперь он даже звонит, чтобы договориться о том, когда прийти на прием”. Все набрасываются на доктора А., потому что тот говорит не о пациенте, а о своих проблемах с доктором Д. Доктор А. отвечает, что этот пациент — шизофреник. Он сам был удивлен, что доктор Д. сумел войти в такие глубокие взаимоотношения. Именно поэтому, по его мнению, сейчас и возмущена семья пациента. Доктор А. постепенно формулирует свою роль в сложившейся ситуации. Он возьмет на себя семью и будет настаивать на том, чтобы терапию продолжал доктор Д.
Следующим случаем для обсуждения стала девушка, которая в течение года ходила к доктору С. У нее был роман с одним знаменитым человеком, потом она убежала, лечилась в частном санатории, вернулась и еще дважды пыталась продолжать терапию у двух других психиатров. Кое-кто из группы предлагал совсем отказать этой девушке из-за частых эпизодов защитного отыгрывания в поведении. Другие настаивали на том, что клиника должна ответственнее относиться к пациентам и не отфутболивать их механически. После обсуждения группа пришла к выводу, что станет наблюдать за ее дальнейшей терапией и предупредит пациентку: если та начнет пропускать назначенные встречи, терапия для нее в этой клинике будет закончена. Доктор С., ее терапевт, был доволен и тем, что ему доверяют, и тем, что коллеги помогли ему сказать “или-или” в сложной ситуации.
Третий представленный пациент представлял собой несложный случай. Коллеги почти не вмешивались в рассказ терапевта, обратив лишь внимание на его излишний энтузиазм по поводу предстоящей терапии.
Интерпретация
Первый терапевт косвенно выразил свою злобу на другого члена группы. Как все позднее поняли, это имело отношение к рабочей проблеме и к напряжению дня. Терапевт немедленно был атакован половиною группы. Сняв с себя груз злобы и вины, он осознал свою профессиональную роль в представленной проблеме, и когда кто-то критиковал третьего терапевта, шутил: “Ничего, тебя почти не трогают: твое счастье, что ты не был первым”. Во втором случае терапевт боялся услышать критику своего неудачного лечения пациентки с защитой типа отыгрывания в поведении. Он хотел бы продолжать терапевтические отношения с ней, но одновременно боялся социальных последствий ее поведения.
Диагностическая встреча, проводящаяся в понедельник утром, устанавливает между членами группы динамическое равновесие. Оно всегда похоже на колебания маятника. На встрече нередко слышатся сарказм, агрессивные шутки, детские просьбы о помощи и защитные разговоры. Группа то становится единой, то каждый существует сам по себе. Право отдельного человека поступать по-своему уравновешено групповым контролем. Во взаимоотношениях многое похоже на игру, и время от времени кто-нибудь подталкивает коллегу, а иногда и всю группу в целом, в сторону роста.
Два года назад доктор В. стал замечать признаки клаустрофобии почти у каждого нового пациента. Работая с этой проблемой, он прошел следующие стадии: (1) его осыпали насмешками на встречах группы каждый раз, как он представлял нового пациента, у которого главной проблемой являлась клаустрофобия; (2) он стал приходить к убеждению, что такие пациенты не поддаются терапии; (3) группа решила, что он должен включать в терапию “клаустрофобических” пациентов второго супруга и еще одного терапевта; (4) производились массовые нападения на его идею фикс относительно клаустрофобии — на собраниях группы и за чашкой кофе. В течение последующих двух месяцев доктор В. стал замечать все меньше признаков клаустрофобии у новых пациентов, и через полтора года он перестал столь сильно концентрировать на ней свое внимание.
Резюме
Терапевт, представляя новых пациентов, выразил просьбу о помощи. Обучение было косвенным, но порой достаточно сильным. Терапевт научился лучше понимать пациентов и стал полнее участвовать в обучающей и обучающейся группе сотрудников.
Эксперимент
Терапевт записал на магнитофон свою встречу с хроническим шизофреником, представлявшим трудности для терапии. На эту встречу был приглашен консультант. Запись прослушали четверо коллег, чтобы дать свое заключение о том, как и чему терапевт учится у консультанта. Приведу краткий пересказ восьми страниц заключения.
Терапевт находится в состоянии регрессии, рассказывая о том, что зашел в тупик. Он начинает обвинять себя и внезапно открывает, что этот худенький пациент, врач по профессии, напоминает ему своим внешним видом его самого, терапевта, в студенческом возрасте. Тот факт, что он чрезмерно опекает пациента, терапевт осознает только тогда, когда об этом ему прямо говорит консультант. Терапевт даже сердился на консультанта, когда тот заставил пациента увидеть всю свою психопатическую безответственность. При поддержке консультанта пациент обвинил терапевта в том, что тот слишком затянул период кормления грудью.
Резюме
Терапевт, обратившись за помощью к консультанту, находит в себе новые свободные ассоциации, начинает по-новому воспринимать поведение пациента и обретает в своей работе новую свободу.
Сопротивление непрерывному обучению
в психотерапии
Возможно, любой человек для какого-то определенного типа пациентов будет “естественным”, то есть непрофессиональным психотерапевтом. Переход от данной стадии к профессиональной работе предполагает преодоление многих наших защит. Лучше всего этому помогает воздействие коллег, стремящихся к тому, чтобы терапевт работал конструктивнее. Пациенты стараются, чтобы терапевт никогда не менялся. И у каждого из нас есть свои способы защиты от наблюдения коллег за нашей работой.
Доктор А., услышав иную точку зрения, отвечает на нее молчанием. У доктора Б. существует молчаливая установка типа: “Как ты можешь нападать на меня, когда я для тебя готов отдать последнюю рубашку”. Доктор В. в такой мере пропитан убеждением, что все идет хорошо, что трудно о чем-нибудь ему сказать, не почувствовав себя злым разрушителем его кайфа. Доктор Г. всегда так благодарен коллегам за их советы, и нужно долгое время общаться с ним, чтобы обнаружить за таким поведением упрямое сопротивление любому чужому влиянию. Доктор Д. так четко и аккуратно работает, что, кажется, ничто не может проникнуть в мир его терапии. Доктор Е. защищается с помощью установки: “Ах я бедняжка”, а доктор Ж. умеет так просить о помощи, что собеседник чувствует себя одураченным и не хочет помогать, даже когда это действительно необходимо.
Существует и множество других маневров, которые можно было бы изучать годами. Тем не менее, они всегда содержат замаскированную просьбу о помощи и, одновременно, стараются сохранить бред совершенства.
Идентификация человека со своими сверстниками — всегда вещь амбивалентная. В каждом человеке живет как желание подражать, так и желание разрушить другого ради ощущения своего всемогущества (Meerloo, 1954). Разрешение этого конфликта предполагает множество экспериментов с обоими его полюсами, особенно в тот момент, когда группа нападает на нашу нежно любимую теорию или раскрывает ошибки в оценке состояния пациента, отношение к которому перегружено неосознанными чувствами. (Нередко профессиональный терапевт напоминает женщину, собирающуюся замуж в четвертый раз и внезапно открывающую, что жених-то, оказывается, такой же алкаш, как и все предыдущие.)
Условия для профессионального роста
Надо принять тот факт, что тотальная перемена человека вследствие инсайта, — это иллюзия. Конечно, “ага-реакции” кажутся такими значительными, но они встречаются в особых ситуациях. Удивительное переживание во время терапии, которое, казалось бы, должно полностью поменять профессиональную жизнь, на деле имеет узкую сферу применения, если вообще не уводит нас в ложном направлении. В нашей группе мы открыли один важный закон: если какого-то человека “ловят” на определенной ошибке, можно с уверенностью сказать, что эта ошибка повторится и что изменение будет происходить очень медленно, причиняя боль и человеку, и группе.
Как можно убедиться в том, что ты действительно научился чему-то ценному? Вот пример: терапевт испытывает эротические чувства, впервые встречаясь с истеричной пациенткой, хотя прекрасно понимает, что та просто ищет зависимости. Консультант объясняет ему это — и интеллектуально, и на эмоциональном уровне, но все равно: пациентка появляется во второй раз, и терапевт снова чувствует зуд. Обучение может происходить только тогда, когда тебя атакует человек, равный тебе по силе.
Доктор А. и доктор Б. вдвоем занимались терапией с девушкой. Однажды эта пациентка с диагнозом шизофрении вызвала сексуальные чувства в одном из терапевтов. Он справился с проблемой, прямо и смело рассказав о своих чувствах. Когда встреча закончилась, терапевт преисполнился гордости за свою победу. Другой терапевт, как бы не замечая происшедшего, внезапно стал говорить о том, что пациентка явно на примитивном уровне выражала эмоциональный голод и зависимость. Подобная слепота шокировала терапевта А. Позже он понял; частичная слепота была у обоих. Возможно, каждый из них общался с какой-то одной, повернутой к нему гранью пациентки и потом смог научиться смотреть глазами другого.
Каждый человек, когда просит других чему-то его научить, делает это своим уникальным способом, связанным с его характером и с предшествующим обучением. Зрелый терапевт часто просит об этом прямо, когда обнаруживает неприятное чувство, возникшее по поводу отношений с таким-то человеком или в такой-то момент терапии, иногда — просто относительно конкретной области своей профессии. Он может позвать консультанта на встречу со свои давнишним пациентом, где требуется помощь.
У доктора Б. есть обычай звать консультанта к любому пациенту раз в шесть месяцев, даже если вроде бы все идет прекрасно. Если говорить более точно, просьба чему-то научить серьезна настолько, насколько глубоко вовлечен в отношения терапевт. Конструктивность обучения прямо пропорциональна власти, которой обладает обучающий.
Обычная проблема в обучении психотерапевта имеет отношение к различию между обучением и терапией. Новичку провести такую грань бывает нелегко, поскольку то и другое в большой степени взаимосвязано. Для профессионального терапевта дело выглядит яснее. Просьба о терапии предполагает особые отношения зависимости, в которых один человек отвечает за другого. Учитель же не отвечает за взрослого коллегу, учащийся не требует зависимых взаимоотношений — он просит лишь общения.
У преподавателя всегда есть искушение превратить обучение в психотерапию. Эту проблему обычно решают административно: обучение считается ценным лишь в том случае, когда его проводят в профессиональной среде.
Кто может научить нас психотерапии? Возможно, опытный психотерапевт не способен многому научиться от пациентов. Для обучения требуется равновесие власти во взаимоотношениях. Каждый может лучше всего учить другого лишь своим неповторимым образом, созвучным его характеру. (Это позитивная сторона того вопроса, который обсуждал доктор Райс, говоря о том, как влияет на будущего терапевта структура характера его супервизора.) Для хорошего обучения нужно, чтобы реакции учителя были естественными. Один из участников группы нежно и с любовью предлагает свои глубоко проникающие инсайты; другой использует атаку, его злые комментарии вонзаются, как нож в ребра; третий расширяет восприятие настолько, что становится заметным ранее невидимое (например, показывает, как защитные реакции пациента являются одновременно его особой формой включенности в ситуацию); кто-то предлагает жесткую структуру “или-или”; кто-то еще просто шутит и насмехается, что может порой казаться просто невежливым. Это не обучение, а лишь доминирующая, повторяющаяся каждый день его черта.
Профессиональному развитию способствует любое творчество терапевта: музыка или живопись, изучение философии, мировых религий или литературы. Участие психотерапевта в нерациональных сторонах культуры снижает напряжение его противостояния культуре. Это верно и для занятий в одиночку, — когда, например, он рисует во время уик-энда, — и для участия с другими людьми в совместной фантазии.
Наконец, нет никаких сомнений, что самый сильный стимул для профессионального роста — это полноценная жизнь вне работы. Мы все знаем, как опасно превращать нашу работу в средство удовлетворения личных нужд, но мы часто забываем о том, в какой мере богатая личная жизнь способствует профессиональному росту. Благодарю Бога за моих жену и детишек.
Автор выражает признательность Джону Воркентину, Томасу Мелону и Ричарду Филдеру за их помощь и критику в процессе создания этой статьи.
Ко-терапия и ее разновидности
В 1940 году Рудольф Дрейкурс, терапевт адлерианского направления, описал свой опыт терапии, когда несколько коллег занимаются с одним пациентом или с одной супружеской парой. Он использовал такую форму терапии для обучения терапевтов. Витакер со своими коллегами также стали применять такой метод работы, открытый ими в Окридже во время войны; тогда специального времени на обсуждение пациентов просто не было. Они открыли, что если второй терапевт может, подобно привидению, зайти на несколько минут во время терапии, им становится легче обсуждать данный случай. Так они начали применять ко-терапию всевозможными способами. В Атланте ко-терапевт появлялся на второй встрече с пациентом в качестве консультанта. Потом Витакер и его коллеги пришли к убеждению, что с одним шизофреником лучше работать командой. Позже они распространили такой подход и на терапию семьи.
Витакер во многих работах говорит о ценности ко-терапии как для обучения, так и для повышения эффективности терапии7.
1. Для того, кто учится, ко-терапия — что-то вроде удобной норы или насеста, откуда он может наблюдать за ходом боя. Он слышит, как свистят пули, видит, как держится старый воин, как он занимает позицию и отражает атаки. А сам новичок при этом может наблюдать, делать заметки, мастурбировать, иногда удаляться с поля боя. Это дозированный стресс, который может регулировать сам учащийся, перемещаясь внутрь семьи и отступая назад, принимая ответственность и уходя от нее.
2. Такая позиция идеальна для исследования. Когда учащемуся слишком страшно или слишком скучно, он может углубиться в свои заметки. Он не просто наблюдает динамику терапии, он нередко видит и то, чего не замечает маэстро. Бой — хорошая метафора, потому что ситуация тревожная, но в то же время она больше походит на работу подмастерья с опытным художником или ремесленником.
3. Ученик много получает от своего супервизора. И в частности, он видит, как того низвергают с трона. Иногда маэстро делает неверное движение. Иногда семья уходит от него. Он не всегда понимает, не всегда может любить. Оба с облегчением открывают, что они — тоже люди.
4. Более того, чтобы вместе работать, они оба должны уважать и любить друг друга. Ученик не может все время играть в свою игру — в борьбу против отца — а мастер должен преодолевать зависимость от своего статуса, сойти с трона превосходства и отказаться от иллюзии, что знает все.
5. Мастер дает ученику уникальную возможность творить, пробовать разные маневры, всевозможные виды оружия и атаки. При этом ученик сознает, что его защитят при неизбежных ошибках и ему помогут выбраться из трудностей, в которые он попадает.
6. Ученик соприкасается с чувствами мастера, а не только с его мыслями. Ученик видит, как тот участвует в терапии, и тогда она уже сильно отличается от шахматной партии.
7. Они живут в атмосфере обратной связи. Мастер критикует ученика по ходу дела, поэтому ситуация очень живая для обоих. Ученик получает уникальную возможность — критиковать мастера. Обоим от этого легче: мастер тоже может услышать что-то ценное. Настоящая обратная связь не бывает унизительной и не ломает человека, поскольку она — орудие в общей работе. Мастер и ученик вместе занимаются одной семьей, и обратная связь — существенная часть их дела.
8. Семье легче критиковать терапевтов, когда их двое. Одного атакуют, а второго оставляют в покое ради стабильности терапии. С одним терапевтом это гораздо сложнее.
9. Ко-терапия возводит на трон семью, прогоняя с трона супервизора. Семья в большей мере отвечает за себя: маловероятно, что терапевтов заставят участвовать в их жизни вне терапии.
10. Можно учиться организации процесса терапии, поскольку этим занимаются оба терапевта.
11. В фокусе внимания остается процесс, а не вымученные теоретические схемы, что часто свойственно ситуациям обучения.
12. В целом, терапия преподается учащемуся как человеческое переживание, а не как роль или техника.
В практической работе присутствие ко-терапевта не только неимоверно расширяет спектр терапевтических техник, но также способствует и росту обоих терапевтов. Такой рост очень важен в начале обучения и еще важнее — для того, чтобы профессиональный терапевт мог “выстоять” в своей дальнейшей жизни.
Не нужно объяснять, что один терапевт, работающий с тяжелым пациентом, крайне нуждается в поддержке. Я иногда говорю шизофренику: “И на одном, и на другом полюсе наших с вами взаимоотношений — одинокий человек”. Для того, чтобы терапевт мог выйти за пределы лечения невротиков и работать с шизофрениками, психотиками и гериатрическими пациентами с серьезно расстроенной психикой, чтобы он мог заниматься парами, группами или семьями, от него требуется что-то большее, чем технические умения и человеческое участие. Что можно сделать? Добавить еще одного терапевта. Лучше всего, конечно, когда котерапевт воспринимается как равный по своим профессиональным способностям и уважает своего коллегу. Тем не менее, двое людей, которые способны просто по-человечески уважать друг друга, будут работать лучше, чем одиночка8.
Доктор Спафорд Эйкерли когда-то давным-давно сказал, что Фрейд отбросил психотерапию на пятьдесят лет назад9. Таким оригинальным путем он хотел обратить внимание на то, что ревностные исследования Фрейда концепции происходящего в глубинах психики тормозили понимание процесса терапии, процесса выздоровления пациентов, роли терапевта — они совершенно не исследовались. Лишь несколько лет в Американской психиатрической ассоциации появилась секция психотерапии. Недавно обратили внимание на то, что сами исследования пациента во многих случаях оказывались терапевтичными. А вообще прагматические исследования процесса психотерапии не проводились до нескольких последних лет.
Может быть, один из самых больших скачков вперед произошел в середине сороковых, когда Рудольф Дрейкурс стал приглашать новичков на свою терапию с пациентом10. Автор настоящей статьи начал использовать подобный способ работы в 1945 году в Окридже вместе с Джоном Воркентином. Дрейкурс ввел это новшество ради обучения, у нас оно было скорее попыткой сделать наше общение более живым. Когда раньше один из нас, захлебываясь от восторга, описывал события своей терапии с пациентом, другой скучал, поскольку это не являлось его непосредственным переживанием. И тогда мы решили поработать с одним пациентом вдвоем.
Почувствовав новую свободу нашего общения, мы многое стали понимать яснее, смогли больше поддерживать друг друга и конструктивнее обращаться с пациентом. Другая выигрышная сторона ко-терапии: у терапевта возрастала сила и доверие к самому себе. Когда рядом находится другой терапевт, каждый может быть человеком, а не только символом. Многие исследования терапии пострадали от того, что терапевт стал символом, и пациент тоже. Они общаются с помощью вторичного процесса, находясь на некотором расстоянии друг от друга. Это не только ограничивает взаимодействие двух людей, но также мешает им быть самими собой.
Еще одна возможность, которую дает ко-терапия, — это терапевтическая и профессиональная защита и большая гибкость в ответах на нужды пациента. Каждый может получить не одну обратную связь, а два разных ее варианта, он вправе их сравнивать. А еще ко-терапия защищает от некоторых юридических проблем, время от времени возникающих в нашей практике.
Ко-терапия: обучение
Джим начал свою стажировку по психиатрии с глубоким чувством тревоги. Он отчасти выбрал эту профессию из-за того, что его мать когда-то была психически больна, и он думал помочь ей и также удостовериться, что сам не сойдет с ума. С первого же дня его прикрепили к палате для психических больных, и он сразу погрузился во взаимоотношения с двумя только что поступившими женщинами в состоянии острого психоза. Он работал с ними в отведенное для этого время и чувствовал усиливающийся страх. Из разговоров со своим супервизором и лечащим психиатром той палаты он все больше понимал, насколько ничего не знает о том, что происходит с этими женщинами, и чувствовал бремя ответственности за их выздоровление.
У него появились кошмары, и он стал принимать транквилизаторы, чтобы сохранить в себе способность работать каждый день без приступов паники, когда трясутся руки. Одна из пациенток чем-то внешне напоминала его мать, другая умело задевала его личные страхи, так что он был вне себя. Джим увеличил дозу транквилизаторов, чтобы уверенно и спокойно чувствовать себя во время терапии с этими женщинами. Так он начал карьеру психотерапевта, возможно, такого психотерапевта, который не слушает.
Чтобы избежать подобных трагедий надо предоставить новичку защиту от его собственных чувств, научить его, как реагировать на очень трудных пациентов, надо передать ему ощущение, что он может что-то сделать для их выздоровления. И один из способов достичь этого — просто предложить ему посидеть на терапии рядом с тем, кто спокоен и опытен. Тогда новичок сможет включаться в работу более опытного мастера. А после терапии они могут поговорить о своих общих переживаниях, о том, что происходит с пациентом, о том, что происходит во взаимоотношениях. И это будет разговор о чем-то лично значимом. Когда новичок привыкает находиться рядом с очень тяжелыми пациентами, он может научиться взаимодействовать с ними.
Психотерапии обычно учатся в маленьких группах11, но можно из четырех-пяти стажеров с двумя-тремя студентами и двумя опытными терапевтами создать команду для лечения одного пациента. Это гораздо лучше, чем просмотр фильмов о работе терапевта или наблюдение сквозь одностороннее прозрачное зеркало с супервизором. Там слова становятся просто игрой; один человек говорит о том, что прокручивается в его памяти, а остальные с помощью этих слов пытаются представить себе картинку происходящего.
Есть и еще одно преимущество ко-терапии как средства обучения. Она меняет качество искусственных взаимоотношений с глазу на глаз, присущее индивидуальной терапии. Треугольник или группа есть нечто совсем иное, чем тайные и символические взаимоотношения двух людей при индивидуальной терапии.
В идеале новичку было бы лучше всего сидеть рядом с опытным мастером на терапии супружеской пары. Пара, возможно, есть самая нетребовательная терапевтическая единица. Если супруги не так давно поженились, их перенос во многом остается внутри их диады. Терапевт волен войти в отношения или удалиться без особого напряжения или без ощущения бремени ответственности, что обязательно присутствует в других формах терапии.
Пройдя через такой опыт, новичок может либо сам заняться терапией пары вдвоем со своим коллегой, равным ему по статусу и знаниям, либо быть ко-терапевтом более опытного человека в индивидуальной терапии или в группе. А позднее — опять поработать в индивидуальной терапии со своим профессиональным сверстником либо взять на себя первую пару, с которой он будет заниматься уже без ко-терапевта.
После того, как новичок научится обращаться с парой и с группой в одиночку, он готов начать работать с индивидуальными пациентами — без паники и без нарушений восприятия. Вместе с коллегой он может вести группу из супружеских пар. Тогда, вероятно, он осилит еще более трудное испытание: сможет участвовать в семейной терапии, которую ведет кто-то более опытный. Автор убежден, что лучше начинать не с самых тяжелых случаев, хотя встречал и противоположное мнение.
Наконец, автор признается, что существует еще один выигрыш от использования ко-терапии в процессе обучения терапевта — обратная связь, которую он получает от новичков. Их свежее понимание теории систем, информатики и экзистенциализма помогают расти опытному терапевту, помогают лучше понимать, что происходит в ходе терапии. Конечно, надо держать в секрете от новичков, что мы учимся у них, иначе они потеряют к нам уважение. Автора всегда изумляет, когда он видит, как Очень Важные Частные Пациенты легко принимают новичков в качестве своих терапевтов. Это скорее проблема опытного терапевта: хочет ли он рискнуть и встретиться с мудростью нового человека.
Ко-терапия и рост терапевта
Каждый терапевт достаточно зрелый человек. Тем не менее, всякий может найти в себе те области, где еще можно расти. Обратная связь, которую дает пациент в индивидуальной терапии, очень бедна. Первые годы своей работы терапевт иногда страдает, глядя, как пациент обгоняет его в темпах роста, и это учит нас меняться. Тем не менее, когда мы приобретаем опыт, пациенты уже перестают так много значить для нас и не провоцируют на изменение.
В ко-терапии все иначе. Появление треугольника отношений — даже и при лечении одного пациента — или возникновение нескольких треугольников при терапии супружеской пары приносят в ситуацию свою специфику, иную динамику, чем отношения в диаде. В треугольнике может возникнуть союз, в котором двое объединяются, чтобы помочь третьему, или все трое образуют одну команду. Часто в треугольнике двое объединяются против третьего. Это нередко причиняет боль, но также и стимулирует рост. Когда ко-терапевт согласен с пациентом в том, что другой терапевт не на высоте или что-то неверно воспринимает, последнему трудно отгородиться от их критики, защитившись с помощью привычных рационализаций и оправданий или обвиняя пациента в инфантильности; скорее всего он не окажется сильнее двоих.
Третье важное качество треугольников: в них часто возникает ситуация, когда кто-то вынужден быть посредником. Им может быть как терапевт, так и пациент. Когда пациент разрешает проблему недопонимания между двумя терапевтами или когда один терапевт вмешивается в вашу мучительную борьбу с пациентом, такие моменты заставляют расти.
Новичку предоставляется возможность (не столь важная для зрелого профессионала) увидеть свое отражение в поведении другого терапевта. Сильное замешательство, стимулирующее рост, возникает в тот момент, когда ты вдохновенно интерпретируешь или начинаешь понимать очень глубинные проблемы, а в это время другой терапевт вместе с пациентом видят, что ты занимаешься пустяками или играешь в неосознанную тобой игру.
Все эти динамические факторы, союзы, коалиции, посредничество очень важны, но, возможно, еще важнее тот факт, что ситуация ко-терапии ближе к реальности повседневной жизни. Она не только вынуждает терапевта быть в большей мере самим собой, но дает пациенту больше ответственности за этот живой процесс, не позволяя ему просто сидеть и жаловаться доброй мамаше.
Ко-терапия: инструмент для исследования
Доктор Эл Шефлен12 первым обратил внимание автора настоящей статьи на то, что в ко-терапии процесс общения идет более естественно, чем во всех других видах психотерапии, которые он исследовал. В индивидуальной терапии один и тот же терапевт должен быть теплой, питающей матерью и одновременно выполнять функции отца, который организует, структурирует и ориентирован на реальность. Эти роли можно распределить между двумя терапевтами.
Ко-терапия позволяет каждому терапевту то включаться в действие, то выходить из него. Шефлен открыл, что обычно терапевт включается на 6—8 минут, а потом эмоционально уходит из ситуации, как бы делая короткую передышку, чтобы вскоре включиться снова. В ко-терапии двое могут поочередно сменять друг друга. Один терапевт проявляет инициативу, а другой в это время наблюдает за тем, что происходит между первым терапевтом и пациентом, или размышляет о том, что минуту назад совершил он сам.
Для пациента также очень важно, когда двое терапевтов в его присутствии делятся своими наблюдениями, сверяют их. Такая свобода исследования или клинического наблюдения в атмосфере живого взаимодействия в “здесь-и-теперь” стимулирует терапевтический процесс.
Пациент активно участвует в подобном исследовании. В ответ на взаимодействие двух терапевтов, служащее для него моделью13, он начинает говорить о том, как это отражается в его жизни. Например, если двое терапевтов не боятся драться друг с другом, пациент приходит и начинает говорить о вчерашнем сражении со своей женой, на которое его вдохновила схватка терапевтов, произошедшая на прошлой встрече. Это отражает взаимоотношения двух коллег и дает возможность их оценивать или менять, пользоваться ими в терапевтическом процессе.
Ко-терапия и лечение
Мы обсуждали использование ко-терапии в целях обучения, роста терапевта и исследования. Теперь поговорим о том, какие она дает преимущества для разрешения специфических проблем, возникающих с пациентами. Одна из самых очевидных проблем появляется тогда, когда терапевт перемещается на новую для него территорию. Работа с психотиками вне госпиталя — вещь очень ценная для терапевта, но и очень многого требующая. Особенно сложна она для начинающих профессионалов. Использование двух терапевтов предоставляет необходимую свободу и возможность учиться. Когда терапевт привыкает к терапии с такими пациентами, нужда в ко-терапии отпадает.
То же самое верно и для других попыток расширить терапевтическую территорию — для перехода к работе с группой супружеских пар, семьями, подростками, тяжелыми алкоголиками. Огромная степень эмоциональной включенности требуется и для работы с пациентами, страдающими серьезными психосоматическими болезнями. Последние новшества — работа с группой семей или с одной семьей плюс вся ее человеческая окружающая среда, как это делает Росс Спек14, — также требует двух терапевтов. Преимущество работы двух терапевтов с тяжелым пациентом заключается в свободе творчества, в свободе изобретения новых подходов, и это лишь одна из многочисленных возможностей ко-терапии.
Особые пациенты
Огромную сложность для психотерапевта представляют пациенты, которые до вас уже были у двух-трех других терапевтов — и неудачно. Работать с подобными пациентами — всегда особое искусство. Каждый раз при неудаче у такого пациента растет цинизм по отношению к терапии вообще. Сначала терапевт с энтузиазмом берется за пациентку, которая десять лет провела в терапии у другого специалиста, а через десять лет он с болью открывает, что завяз в том же тупике, что и его коллега. Проще начать работу, смиренно предполагая, что ты не окажешься мудрее своего предшественника, и с первого момента вооружиться всем, чем только можно, не пытаясь справиться с проблемой с помощью одного только вдохновения.
Кроме того, ко-терапия незаменима в тех случаях, когда приходят Очень Важные Пациенты — другой психотерапевт, мэр вашего города, слишком красивая для вас женщина, миллионер или ваш старинный приятель по школе. Все эти люди сильно нарушают равновесие вашей работы: чуть-чуть значимости из реальной жизни может перевесить гору вашей профессиональной компетентности.
Все мы встречались также с особо сложными “сладкими парочками” супругов. Истеричная женщина и ее муж с латентной гомосексуальностью на первых нескольких встречах кажутся прекрасными пациентами, но почти невозможно не влипнуть в этот треугольник взаимоотношений, и тогда на терапии можно ставить крест. Не меньшую опасность представляют женщина-алкоголичка и ее муж, страдающий гипертонией. Стоит беречься и шизофреника в паре с его овдовевшей матерью.
Многие причины заставляют нас приглашать на встречу второго терапевта. В основном они более или менее понятны. Но не все хорошо понимают, что если вы думаете проводить терапию пациента вдвоем, надо решить это окончательно еще до первой с ним встречи.
Выбор ко-терапевта
Выбор ко-терапевта не менее важен, чем оценка перспектив работы с конкретным пациентом15. Хорошо, когда ко-терапевт подходит вам по своим личным качествам и когда он как человек и как профессионал дополняет вас16. Но это не всегда возможно, и нередки ситуации, когда трудно найти хотя бы кого-нибудь, кто пожелал бы работать вместе с вами.
Мои студенты помогли мне узнать одну вещь о себе: мои прошлые рабочие гипотезы часто основывались еще на одной гипотезе, на гипотезе, что я знаю правильный ответ. Они показали мне, что для двух ко-терапевтов не так уж обязательны глубокие личные взаимоотношения. Вначале эти взаимоотношения похожи на ложное единство некоторых семей. Но потом обязательно возникнет первая драка — в присутствии пациента или семьи — и после этого устанавливаются более глубокие взаимоотношения, включающие уважение, но не обязательно они продолжаются за пределами терапии.
Ко-терапия может быть коротким профессиональным “романом”. Хотя, разумеется, если ко-терапевты проводят какое-то время вместе вне терапии и могут развивать свои отношения, это к лучшему17. Но удивительно, что вместе могут работать почти любые два терапевта, хотя, конечно, любые два человека могут быть неискренними друг с другом, и тогда они составят плохую команду для терапии.
Совместимость не является критерием, когда ко-терапия используется для обучения. Но с некоторыми людьми очень сложно состоять в одной команде. Это связано не столько с различиями в технике терапии, сколько различиями в философии жизни. Например, для автора, работающего в парадоксальном стиле, почти невозможно работать с коллегой, который считает терапию разновидностью обучения.
Разнообразие видов ко-терапии
Мы обсуждали особенности ко-терапии и ее использование. Напомним, что здесь возможны бесчисленные вариации. Одна из них — использование второго терапевта как консультанта в терапевтическом процессе. В Психиатрической клинике Атланты эта процедура стала стандартной. Терапевт, который будет заниматься с данным пациентом, первый раз встречается с ним и собирает историю проблемы. Через неделю на вторую встречу с этим же пациентом приходит коллега — в качестве консультанта. Он выслушивает историю проблемы в присутствии пациента и в оставшееся время углубляется в нее. Затем в присутствии пациента или после того, как тот ушел, происходит обмен мнениями о ситуации и о плане терапии.
На третьей встрече этот план представляют пациенту. Ему предлагают решить, хочет ли он продолжать терапию. Второй терапевт помогает завершить первоначальный контракт, посвященный оценке проблемы, и начать переговоры о следующей ступени контракта, который создает необходимые рамки для терапии. Даже если дальше терапией будет заниматься один терапевт, символическое присутствие консультанта все равно останется в их взаимоотношениях. Кроме того, консультанта можно снова пригласить — по инициативе терапевта или по инициативе пациента. Помощь консультанта необходима во многих ситуациях.
Доктор А. на седьмой встрече с привлекательной девушкой-подростком начал подозревать, что не может быть с ней искренним и она стала слишком много для него значить. Он пригласил консультанта, рассказал о своей проблеме в присутствии пациентки, и все трое стали работать над взаимоотношениями. Им удалось ясно обозначить, что девушке нужен терапевт, а не поклонник, а терапевт будет работать с пациенткой, не путая эту ситуацию с любовным свиданием.
Только к концу второй встречи доктор б. обнаружил, что его пациент, молодой человек, близок к самоубийству. Он прервал разговор, вышел и пригласил в кабинет коллегу, который был в тот момент свободен, и рассказал ему о проблеме. Втроем они решили, что данная ситуация позволяет продолжать терапию, направленную на решение данной проблемы. Доктор б. мог спокойно спать в эту ночь.
Доктор В. работал с Мэри Цилх уже шесть месяцев. Вначале он мечтал о том, как превратит эту сухую старую деву в живого человека, но потом на протяжении последних шести встреч стал ощущать невообразимую скуку. И тогда он пригласил консультанта. Тот помог им реально оценить ситуацию. Они пересмотрели план терапии и решили, что кроме индивидуальных встреч пациентка будет ходить в группу. Это помогло доктору В. выбраться из тупиковой ситуации, где он был единственным мужчиной в жизни сорокалетней женщины.
Включение консультанта в терапию одновременно является прекрасным методом обучения, причем неважно, кто занимает место консультанта — супервизор или профессиональные сверстники. Такое обучение расширяет восприятие и позволяет глубже исследовать процесс терапии. Консультант может показаться только один раз, а может продолжать свое участие в терапии, может приходить на каждую вторую, на каждую четвертую встречу, и так далее. Иногда самый первый контакт с пациентами ставит терапевта в невыносимое положение.
Доктор Джо согласился встретиться с супругами. Жена страдала от тяжелых физических недомоганий: кишечных спазмов, сердцебиений, бессонницы, приступов болей в сердце. Доктор Джо предполагал, что ее пассивный муж станет помощником в психотерапии. Вскоре выяснилось, что муж думает о самоубийстве и к тому же — он настоящий алкоголик, а супруги пытались это скрыть от терапевта. Тогда было принято решение, что из-за серьезности ситуации здесь необходимо присутствие двух терапевтов.
Второй терапевт также может оказать большую поддержку, когда настает время закончить терапию. Несколько лет назад автор настоящей статьи занимался с супружеской парой — психотерапевтом и его женой. Каждый из них до этого ходил к терапевту, но их отношения продолжали оставаться напряженными. В течение года терапия проходила энергично и была конструктивной, но пара не выражала желания ее окончить. Автор без предупреждения пригласил на встречу своего коллегу. В середине встречи коллега сказал, что видит, как им скучно, и предложил оставить терапию как безнадежное занятие. Супруги были несколько недовольны, но согласились. Два года спустя они говорили, что очень рады, что решили закончить терапию.
Если терапевт уже научился приспосабливать терапевтический процесс к нуждам пациента, а не просто следовать заранее готовому плану, консультант может понадобиться ему в тех случаях, когда он пробует какие-то новые подходы. Если терапевт вначале работал только с супругами, а потом решил пригласить детей, то на первую такую встречу в новом составе стоит позвать также и консультанта. Когда терапевт работает с семьей, он может воспользоваться помощью коллеги при визите к ним в дом, при встрече, куда приглашены родственники жены и мужа или их коллеги и друзья.
Заключение
Итак, ко-терапия увеличивает силу терапевта, дает ему защищенность и свободу для творчества. Мы пытались представить ее преимущества в сфере обучения, для роста достаточно зрелого терапевта, ее конструктивное использование в терапевтическом процессе, а также рассмотрели разнообразные формы ко-терапии в обычной психотерапевтической практике. Те дни, когда психотерапия была областью священной тайны, потому что имела дело как бы с грехом, прошли. Теперь нас больше заботит вопрос: как сделать ее эффективней, чтобы лучше помогать людям строить свою собственную жизнь и учиться действовать на сцене театра, в котором мы все живем.
Движение к близости
Как терапевт принимает решение стать близким своему пациенту? Это сознательный акт, “прыжок веры”, на который он решается. Движение к близости разрушает ранее установленный контекст и создает новый. Терапевт делает это с целью вдохновить пациента на подобный шаг своим примером. Пациент может убегать, но за ним по пятам пойдет терапевт. Близость — не определенный жанр поведения, она может выражаться и в доброте, и в грубости. Это состояние бытия, рождающееся из взаимоотношений. В терапии, как и в жизни, оно возникает лишь иногда и требует больших усилий. Способность быть близким парадоксальным образом усиливает способность (и, может быть, стремление) находиться в одиночестве, то есть в близости с самим собой.
Когда терапевт начинает терапию с пациентом, он берет на себя этическую ответственность. Обычно она не столь осознана, как ответственность юридическая, также возникающая в этом случае. В недавнее время появилось много статей о манипулятивной стороне психотерапии. Конечно, стратегии и тактики очень важны и надо их совершенствовать для блага пациента, но я думаю, что психотерапия — нечто большее, чем просто игра, иначе она была бы всего лишь методом облегчения симптомов. Если же терапевт стремится к тому, чтобы углубить жизнь пациента, взаимоотношения в терапии должны быть более глубокими, чем при игре.
Я принимаю решение встретиться с пациентом. Я решаю не устанавливать с ним глубоких отношений, а остаюсь в роли терапевта на уровне игры с его симптомами18. Когда терапия выходит за рамки игры, контролировать ее становится труднее. Я не в состоянии заранее решить, что буду близок с данным пациентом, но, став на какой-то миг близким, могу решить, какими будут наши взаимоотношения. Решение основано не на выборе определенного вида отношения, а скорее на отказе от некоторых возможностей. Решившись выйти за рамки игры, терапевт делает шаг к потере контроля над собой. Такое решение предполагает будущее, оно не представляет собой лишь нечто сиюминутное. Погружаясь в отношения, терапевт предполагает, что сможет перенести их развитие до конца. Это напоминает решение забеременеть. Беременность можно прервать, но это сложная и порою опасная процедура19. А когда женщина соглашается забеременеть, чаще всего возникают последствия продолжительностью на всю оставшуюся жизнь, рождается ответственность и появляется возможность быть раненной новым человеком.
Принимая решение стать близким к пациенту, терапевт выбирает путь все большего осознания самого себя перед лицом кризиса. Психотерапия — бесконечный кризис с маятникообразными колебаниями, уносящими нас то на полюс близости, то на полюс одиночества. С близостью связана тревога, а с одиночеством — отчаяние. Но только отдавшись этому ритму, человек научится быть наедине с самим собой, но не в одиночестве (в смысле изоляции от людей).
Каждый новый пациент имеет прямое отношение к моей внутренней жизни. Будет ли он для меня пустым местом или, подобно оптическому обману, покажется мне моим собственным “Я”? Смогу ли я обнажаться перед этим человеком? Поможет ли он мне найти себя? Ранит ли меня? Конечно, ранит. А я его? Надеюсь, тоже. Сможет ли он перенести рану, нанесенную мною? Да, если меня это обрадует. Изменится ли в результате этой встречи мое отношение к самому себе? Могу ли я не прятать свое желание вести его к открытости через мою собственную открытость? Могу ли я показать свое одиночество? Могу ли отдать себя в его распоряжение?
Есть некоторые предварительные условия, которые должны предшествовать подобной близости. Терапевт должен выиграть битву за структуру20. Должен определить, что это его рабочее место и что он хозяин своей терапии. Это не просто встреча двух незнакомцев. В этой встрече один из них отвечает за процесс “перехода в неведомое”, за его время и за прочие факты реальности. Терапевт потом должен выиграть сражение за инициативу или за то, чтобы пациент присутствовал, а не просто играл роль больного. Терапевт настаивает, что нет субъекта и объекта. Он сам присутствует, он является самим собой, непрестанно спрашивая себя перед лицом всех, кто слышит: “Где я? Что я? Мое внутреннее “Я” присутствует здесь или нет? Я только действую или я есть? Я есть или я не даю себе состояться? Могу я рискнуть и прикоснуться к своему внутреннему “Я”? Рискнуть в большей мере стать собою? Любой кризис заставляет меня стать ближе с самим собой”. Это и только это позволяет пациенту быть, то есть стремиться все сильнее к близости с самим собой.
Если я могу решиться на близость с самим собой, то и пациент в его ответном одиночестве вынужден стремиться к близости с собой — к самой подлинной близости.
Когда не стоит быть откровенным
со своим пациентом
Когда терапевт делится своими переживаниями с пациентом, он должен делать это, всегда имея в виду какие-то цели. Обычно такое эмоциональное участие терапевта, заставляющее его делиться, происходит после окончания стадии игры или “битвы за структуру”. Оно появляется в тот период, который Витакер называет “битвой за инициативу”. Терапевт должен четко знать, когда надо делиться своими переживаниями и чем конкретно делиться, а также отдавать себе отчет в том, готов ли он к этому в данный момент. Пациент должен знать, где эмоционально находится терапевт, если тот не может сейчас присутствовать или быть с пациентом целиком, потому что думает о чем-то еще.
Эмоции и их выражение используются в терапии стратегически. Другими словами, терапевт решается на близость. Но это выражение своих эмоций — не драматическая игра и не обман, несмотря на то, что оно преследует определенную цель. И мы убеждаемся, что подобная откровенность, основанная на переживаниях терапевта, не является диким неконтролируемым процессом.
Терапевту важно, занимая экзистенциальную позицию, делиться собой, своими переживаниями с пациентом. Но здесь есть ограничения. Приведем некоторые из них:
1. Не стоит непосредственно открываться новым пациентам, когда вы не столько психотерапевт, сколько психиатр, психолог или социальный работник21.
2. Не стоит делиться своими глобальными проблемами, но лишь небольшими порциями вашей патологии, вашей эксцентричности или безумия. Можно делиться свободными ассоциациями, фантазиями, психосоматическими симптомами, особенно теми, которые появляются во время общения с пациентами.
3. Не стоит делиться свежими личными проблемами, поскольку они перегружены эмоциями. Это ляжет лишним грузом на пациента, и без того обремененного своими переживаниями.
4. Не стоит делиться проблемами, с которыми вы сами в данный момент готовы обратиться за посторонней помощью. Это исказит терапевтический альянс, как если бы пациент старался “хорошо себя вести при мамочке”, потому что она очень устала22.
5. Не стоит делиться своими проблемами, когда терапевту некуда обратиться за помощью, особенно если он сам не был пациентом в психотерапии и ему не с кем проконсультироваться и пережить опыт зависимости.
6. Может быть, иногда неплохо показать сражения, происходящие в вашей собственной семье. Если пациентка напоминает вашу жену, не стоит об этом говорить, лучше признаться, что она раздражает вас, потому что похожа на одного человека, с которым вы в конфликте. Важно также не перегружать переносом ваших жену и детей. Например, если пациентка вызывает символические сексуальные чувства у терапевта, он может об этом сказать. Но если пациентка делает вывод, что у него неудовлетворительные отношения с женой, она может использовать эти сведения, встретившись с ней на вечеринке.
Когда полная откровенность неадекватна, невозможна или нежелательна, вы можете каким-то еще образом объяснить, почему вы не “весь тут”23. Например:
“Извините, сегодня мне не хватает энергии. Пришлось ночью сидеть с больным ребенком”. Или: “Извините, я сегодня немного не в себе. Болит голова после вчерашнего праздника”. Или: “Может быть, я вам покажусь каким-то чудным, так простите: сейчас у меня происходит один важный конфликт, не имеющий отношения к нам, но он поглощает часть моего внимания”. Или: “Простите, но придется вам пять минут подождать, пока я приду в себя. Я еще не отошел после тяжелой ситуации с предыдущими пациентами”. Любое из таких непрямых объяснений дает пациенту понять, что он не отвечает за ваше экзистенциальное состояние, и показывает ему, что к вам нельзя относиться как к машине. Такие косвенные объяснения похожи на высказывания о том, где вы сейчас находитесь в отношениях с пациентом или где бы вы хотели: “Извините, что я не откровенен с вами, но пока я еще не чувствую к вам тепла”; “Вы все еще чужая для меня”; “Я пока только психиатр и еще не чувствую себя вашим психотерапевтом”; “Вы настолько пробуждаете во мне мужчину, что трудно ощущать себя вашим врачом”; “Мне нравится, как вы со мной заигрываете: я понимаю, что вы зовете меня в постель. Ничего не обещаю, но мне кажется, вам не удастся отобрать у меня роль вашего терапевта. Хотя, надеюсь, вы постараетесь это сделать”.
Группа: встреча с моим
сегодняшним “Я”
Призванием терапевта является он сам, его “Я”. В различных контекстах он ищет, изменяет и интегрирует свои различные “Я” или же все это, спрашивает Витакер, просто разные аспекты одного “Я”? Терапевт в процессе работы даже сам себя наблюдает как бы в калейдоскоп. И кто этот человек, который сам видит свои многообразные “Я”?
Витакер считает, что в терапевтических группах есть какое-то особое качество, помогающее найти ответ на такой вопрос. Участие в группе ниспровергает иллюзорный образ кумира, существующий в нашем восприятии самих себя. Витакер считает, что наиболее подходящая для этого форма — марафон. Она комбинирует достоинства группы встреч (encounter) и обычной терапевтической группы. Витакер говорит, что это место, где разрешается экспериментировать с собою и где от тебя в то же время требуется подлинность (между “Я, мною и собой”).
Упоминание дзэн-буддизма неслучайно, оно предлагает образ “Я” как коан. Коан — это своеобразная загадка или головоломка, которую учитель дзэн предлагает новичкам для созерцания. Ответ на загадку, требующий нелогического, нерационального прыжка мышления, вводит в состояние просветления. Витакер предлагает профессиональному терапевту разрешить коан про свое “Я”. Как одно “Я” может казаться ему самому и другим людям разными “Я” в различных контекстах?
Главный грех для последователей дзэн — это попытка учить других дзэн. Подобным же образом, один из главных социальных грехов психотерапевтов состоит в том, чтобы говорить о себе в первом лице. Мы предполагаем, что, говоря о себе, говорим об образе своего “Я”. Библейский запрет “Не сотвори себе кумира” хорошо объясняет, почему говорить о себе опасно и почти невозможно. У Бога нет имени, иногда Его называют “Вышний”, или Сам Он говорит: “Я есмь”.
В одной мудрой шутке Бог непрерывно повторяет “Я есмь то, что Я есмь”.
Тем не менее, я собираюсь говорить о себе, а вы можете считать это проявлением нарциссизма или мучительной попыткой лучше понять себя. Видит Бог, я пишу не для читателя. Я никогда не обучался психоанализу, я отнюдь не философ и в жизни всегда пытаюсь расширить свое опытное познание самого себя. Вот почему я избрал дорогу психотерапии.
Когда много лет назад я впервые окунулся в книги Кьеркегора, то был ошарашен его размышлениями о многогранности человеческого “Я”. С тех пор я еще больше запутался. Мой опыт встречи с самим собою не укладывается в старые привычные рамки, обозначенные такими представлениями, как Ид, Эго и Супер-эго, или Отец, Сын и Святой Дух, ни в рамки моей детской троицы: Я, меня и себя.
Вопрос “Существует ли у меня определенное Я?” — предполагает, что я ощущаю это “Я” телесно, во всех его разнообразных проявлениях; для этого мне надо забраться на вершину своего “Я”, подсматривать за собой, быть в согласии с собой и против самого себя. К этим лингвистическим выражениям поиска единства можно добавить другие. Иногда в них звучит разделение. Я могу быть “вне себя”, иногда мне “не хватает меня самого”, я могу пытаться “искать себя”, “открывать себя”, “узнавать о себе”, говорить о себе, заботиться о себе и многое другое, звучащее с оттенком псевдообъективности.
В разных группах я сталкиваюсь с разными “Я”. Я буду говорить о трех типах групп: о традиционной терапевтической группе, о группе для осознания взаимодействия между людьми, которую мы также называем тренингом сензитивности, и о групповой встрече в форме марафона. Конечно, они во многом пересекаются друг с другом, но я разделяю их для простоты изложения.
Групповая терапия
Первоначально групповая терапия являлась просто индивидуальной терапией в присутствии группы. Затем, с развитием концепций групповой терапии, ее стали отличать от “терапии в группе”. На этом этапе стало очевидным, что группа, когда она становится единым существом, помогает мне чувствовать большее единство в моих отношениях с самим собой. Она соединяет в единое целое мои “Я”, меня и себя. И наступает момент, когда мне не надо ожидать Годо, не нужно искать прототип моей будущей семьи или коррективное переживание для того, чтобы уже сейчас полностью отдавать себя той семье, к которой принадлежишь в данный момент. В традиционной групповой терапии каждая пара может получать обратную связь от всей группы или ее подгрупп.
Группа встреч
Группа встреч или, как ее еще называют, группа тренинга сензитивности, открывает во мне другие измерения моего “Я”. Она создает контекст, отличающийся от контекста традиционной терапевтической группы. Всем людям следует учиться устанавливать взаимоотношения — будь то значимый другой, испуганный другой или странный другой. Группа встреч — это микролаборатория, где можно исследовать мир, в котором мы живем, пользуясь безопасностью в присутствии лидера, выходя за рамки стандартов поведения, которым мы научились в детстве. Группа дает право и обеспечивает каждому человеку свободу пережить свое безумие. Безумие освобождает от бремени реальности и от ограниченности Эго, группа позволяет выскочить за пределы всякой логики, она позволяет просто быть человеком среди других людей. Раньше мы могли профессионально пользоваться своим безумием в той мере, в какой оно полезно для пациента, но в группе можно быть безумным и в мире людей.
Иными словами, повышая чувствительность к взаимоотношениям с другими людьми, мы движемся против нашего прошлого, когда культура и школьная система учили нас быть не такими чувствительными. Школа не позволяет ребенку и человеку устанавливать отношения с другим, она ориентирует на вещи, будь то игрушечные автомобили, хорошая отметка по истории, победа футбольной команды или зарабатывание денег, чтобы не умереть с голода в старости. В этом смысле группа встреч противостоит культуре.
Марафон
Марафон — это логическое развитие двух предыдущих видов групп и в то же время нечто совершенно новое. По сути дела, в такой группе используется пространство и время для того, чтобы подтолкнуть человека в сторону роста. Большая группа людей собирается на ограниченном пространстве, где в течение определенного времени они не могут убежать друг от друга. При таком напряжении люди интенсивнее относятся друг ко другу или же создается общий накал чувств, так что у каждого возникает сильное ощущение принадлежности к группе, и оно позволяет преодолеть культурные ограничения. Хотя пока не было проведено серьезных исследований, которые показали бы, что эффект марафона сохраняется на долгое время, многие из нас убеждены в том, что он дает сильный заряд на будущее.
По моему мнению, во время марафона у каждого развивается глубокая идентификация с другим, возникает внутрипсихическое единство при ощущении своей отделенности, что столь же важно. Когда есть и единство, и равное по силе чувство моей уникальности, я не боюсь потеряться в другом. Только при этом условии я могу осмелиться на более глубокие взаимоотношения с другим. Марафон дает возможность пережить значимую встречу с другим, что обычно не происходит при столь кратковременных знакомствах. И потом это переживание можно перенести во внешний мир. Иными словами, марафон пробивает брешь в культурном коде, по которому я обычно живу. Под давлением пространства, под давлением напряженного тиканья часов и под давлением глаз, глядящих в твои глаза, меняется межличностное время, теряется обычный ритм приливов и отливов. Оно становится интенсивным, когда ты понимаешь: скоро встреча закончится. Сейчас или никогда! Я могу переменить стиль своей жизни “здесь-и-сейчас”, и горю от нетерпения, чтобы это поскорее совершилось.
У меня это происходит таким образом: сначала я чувствую, что стал ближе к самому себе, потом усиливается ощущение близости с другими членами моей группы, позже я могу стать ближе к незнакомым, к чужим, к непривычным для меня людям. Когда я способен к мирной, теплой, свободной от страхов близости с моим “врагом”, во мне желание отделиться от подгрупп и даже ото всей группы. Марафон становится образом всей моей жизни — от рождения до смерти. “Стать бы снова ребенком, хотя бы на время”. Каждый раз я снова борюсь за воплощение моей сказки.
Почему каждый раз это происходит со мной на группе? Я думаю, потому что это соответствует моей главной потребности, моему стремлению расти, меняться, принадлежать другим. Когда я пытаюсь понять, как действует на меня группа, то вижу, что ее действие связано с ощущением полноты моей жизни, с ощущением единства, с ощущением “Мы”, которое соединяет меня с данным человеком, с парой, с частью группы или со всей группой. Когда группа начинается, я стараюсь отыскать себя, как бы вопреки напряженности, которую создают эти незнакомые мне люди. Я должен отыскать единство с самим собой прежде, чем буду готов выйти навстречу другим.
Такое вхождение в свое одиночество, поиск собственных потребностей — важнейший шаг к тому, чтобы начать рисковать. Обычно для меня лучше, если такой период происходит без слов, без чувства ответственности, без прошлого и будущего, а также без мыслей. Я называю такое состояние растительным, оно помогает мне войти в близость с самим собой. Когда я вхожу в это состояние, я готов воспринимать окружающих меня людей. Возникает желание выйти из своего одиночества или пригласить гостей. Почти всегда из свободы побыть наедине с собой рождаются ассоциации, фантазии, телесные ощущения и явления типа переноса, которые обогащают меня в этой межличностной ситуации. Возникает своего рода удвоение моего “Я”, взаимный перенос и контрперенос между мной и другим. Кто-то может назвать такое явление “сошествием Святого Духа”. Это переживание позволяет показать свое “Я”, свободное от ролей, позволяет расширить его до состояния “Мы”.
Я делаю шаг навстречу и жду, что другой сделает ответный шаг. Что-то вроде психосоциального ухаживания. Я делаю парадоксальный выпад и жду ответа, чтобы можно было пойти дальше. Внезапно я погружаюсь вместе с другим человеком в одну общую фантазию — или явно, на вербальном уровне, или на уровне нашего поведения. Могу предложить другому собственную фантазию или телесное ощущение вместе с моим страхом, могу предложить все теперешнее состояние моего бытия. Чем сильнее я вовлечен, тем меньше действую, просто делюсь своим бытием со всей группой. Поделившись своим одиночеством, я вынужден под воздействием группы перейти к состоянию единства с другими.
Описать словами этот переход очень трудно. Существует уровень объективности и за ним — уровень субъективности, а еще глубже — способность объективно относиться к своей субъективности. Об этом трудно говорить. Я как бы пользуюсь этим другим, и группой, чтобы в большей мере оставаться самим собой. Это обращает меня к другому “Я”, скрытому внутри меня. Потом я предлагаю свое “Я” другим людям, и оно от этого растет. И подгруппы, и вся группа помогают мне с доверием и смелостью входить в состояние интенсивного переживания, которое я называю безумием, в состояние целостности, когда отступают всякие опасения и страхи и я могу в полной мере чувствовать свое одиночество, ясно сознавая при этом, что другие наполнены своим бытием. Я позволяю другим очутиться в моем мире и могу позволить и себе войти в их мир. Удивительно, что этот процесс ведет меня от сильного ощущения единства с другими к сильному ощущению одиночества. Оказывается, чем сильнее я чувствую себя вместе с другими, тем в большей мере могу отделиться от них и побыть с самим собой. Если я позволяю себе быть, то могу позволить быть и другим. Вместе мы можем быть в превосходной степени, на ином уровне, чем каждый из нас по отдельности.
Письмо: сауна и купание в снегу
Вы просили написать письмо о моей жизни дома и о том, как это “сохраняет мою живость”. Вы просили представить какие-нибудь иллюстрации, но я понял, что не хочу их давать. Я неожиданно для себя понял, что картинки домашней жизни ничего не значат. Моя внутренняя реакция на дом хранит мою живость. Я привык думать о доме как об убежище, как о месте, куда стремишься после утомительной работы. Постепенно я понял, что возвращаюсь домой после того, как провел день, играя всякие роли. Хотя в терапии я ставлю перед собой задачу выйти за пределы ролей, она еще не выполнена.
Много лет меня пугало ощущение, что в своем кабинете я более взрослый, чем дома. Затем я понял, что в домашней жизни участвую весь, без остатка, поэтому здесь больше риск, но глубже и удовлетворение. Там я участвую частью своей личности, а тут — полностью. Во мне все еще остались черты характера сельского фермера Новой Англии, так что я наслаждаюсь своим одиночеством и для меня важно на какое-то время “побыть никем” или ничем, а это лучше всего удается дома. Здесь ее труднее достичь, чем на работе, но зато она больше сохраняет во мне жизнь.
Дом для меня также — поле битвы в этих неповторимых взаимоотношениях, где все время происходят колебания, приливы и отливы, где я свободно могу быть близким, и вследствие этого — в большей мере отделяться от других. Именно эта тревога, меняя свое направление, зажигает огонь, делает мою домашнюю жизнь сауной или купанием в снегу. Я сохраняю свою энергию именно благодаря этому моменту каждого дня.
Всерьез задумываясь о том, как оставаться живым в работе, я полагаю, что это напрямую связано с постепенно растущей самоотдачей (извините за затертое слово). Внутреннее чувство безопасности заставляет меня не сидеть на месте, а с большей радостью устремляться во внешний мир. Оглядываясь на прошлое, я улыбаюсь мудрой улыбкой, думая обо всех битвах за достижение полной близости, которые я пережил. Сейчас я пребываю в постоянных колебаниях между отделением и близостью. И то, и другое тем сильнее, чем в большей мере я ощущаю себя живым.
Как мне удается чувствовать себя живым? Откуда я черпаю силу и отвагу, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы “убить” все свои прошлые заботы, чтобы снова чувствовать себя влюбленным, чтобы свободно ненавидеть, чтобы выбираться из болота эмоций, в которое я сам себя завел, чтобы постоянно оказываться там, где необходимо принять какое-то решение? Как я могу найти в себе смелость столкнуться с образом собственного тела, подобным свободным ассоциациям? Он меняется самым неожиданным образом, и лишь внимательно слушая, я замечаю изменение.
Часть IV
Брак и терапия для пар
В этой части помещены работы Витакера, касающиеся брака и терапии пар. Конечно, любая классификация статей Витакера искусственна и может помешать разглядеть то общее, что есть во всех его работах. И брак — прекрасный тому пример, поскольку, по мнению Витакера, он есть промежуточное звено между отдельным человеком и семьей, а также между семьей, откуда человек вышел, и семьей, которую он строит. Размышляя о роли брака, неизбежно приходишь к обсуждению вопросов личности и семьи. В первой главе данного раздела Витакер говорит об этом: “Чем свободнее ты чувствуешь себя с другими, особенно с женой, со значимыми другими, тем свободнее можешь быть с самим собой ”.
Философия брака
Психотерапевтические методы и подходы Витакера во многом основываются на его установках по отношению к браку. Часто в его работах эти установки остаются “за кадром”, но в статьях, помещенных в настоящей части книги, они выражены прямо. Витакер считает, что такая рабочая философия вытекает из житейского опыта. Снова мы видим, как психотерапия с ее задачами и техниками связана у Витакера с его отношением к жизни в целом. Это отношение не меняется с переменой формы терапии. Поэтому можно ожидать, что его подходы к одному человеку, к паре или к семье в чем-то похожи.
Самые важные для психотерапии Витакера вопросы касаются выбора супруга, роли брака и правил брака. Эти и другие темы, речь о которых пойдет ниже, показывают его почти что мистическое благоговение перед браком как таковым.
Выбор супруга
Витакер считает, что выбор партнера в браке всегда делается мудро и целенаправленно. Выбор происходит и сознательно, и бессознательно, хотя бессознательный процесс имеет решающее значение. Человек свой выбор может понимать — думает ли он о себе или о другом — в лучшем случае лишь отчасти. Когда терапевт ставит этот выбор под вопрос, размышляя о том, не было ли ошибки, или приглашает на терапию лишь одного из супругов, считая, что другой слишком болен или слишком здоров, он может косвенно поставить для пары под сомнение жизнеспособность их брака. Лучшая позиция — оставаться нейтральным по отношению к вопросу о разводе и расценивать брак данной пары как “правильный”.
Следствием подобной установки является убеждение, что оба в равной мере отвечают за все стороны брака. Витакер открыто отказывается верить в реальность какого-либо одностороннего поведения или невзаимного чувства в браке. Он воспринимает как взаимные, мудрые и целенаправленные и само решение пожениться, и решение изменять, драться, спорить и так далее. В роль терапевта входит понимание смысла и цели поведения пар, но не его роль — осуждать какое-то поведение или же поддерживать фантазию супругов о том, что один из них болен или безответственен.
Роль брака
Немногие известные нам терапевты отводят такое важное место браку в развитии человека, как это делает Витакер. Человек холостой, с точки зрения Витакера, есть биологически ущербный человек, неспособный воспроизвести, неполный во многих отношениях. Брак — это попытка отыскать свою целостность. Биологический фундамент брака для Витакера столь же важен, как и биологическая подкладка индивидуальной терапии (см. введение к части II, Психотерапия).
Неполнота человека рождает в нем жажду близости и стремление к единству с другими. И брак играет роль наиболее приемлемого в нашей культуре места, где возможен опыт близости. А переживание близости необходимо для жизни человека. Витакер утверждает: “Люди добры друг к другу лишь в той мере, в какой они близки между собой”.
Правила
Витакер считает брак настолько уникальным явлением, что в нем понятия справедливости, приличий, вежливости и честности не работают или не играют существенной роли. Такую установку многим трудно принять, но она существенна для понимания работы Витакера. Он считает, что брак действует на каком-то более важном и примитивном уровне, где социальные нормы, логика и общение почти не требуются и часто служат помехой. Витакер любит подчеркивать данную мысль в своих выступлениях: “Телефон — это вещь. Он должен быть в каждом доме, но не стоит думать, что он согревает жилище”.
Психотерапия для пар
Не стоит забывать, что все, созданное Витакером про работу с парами, написано относительно давно, в начале его карьеры семейного терапевта. Хотя философия брака и оставалась полезной для его дальнейшей работы, он недолго занимался с супругами, изолированными от своей семьи. В настоящем разделе Витакер описывает терапию супругов как вариант скорее индивидуальной, а не системной терапии. Здесь мало техник и описаний процесса. Витакер продолжал работать с парами, но к середине шестидесятых начинает ориентироваться на семейную систему. Про работу этого периода можно прочитать во вступлении к части V, посвященной семейной терапии.
Функции брака
На этих страницах, обсуждая функции брака и разные его типы, Витакер высказывает свои убеждения, касающиеся здоровья и болезни супружеских пар. Здоровье связано, в частности, со способностью пары меняться — жить, по словам Витакера, “в текучем состоянии”, подобно морю с его приливами и отливами. Более того, Витакер считает, что брак — место сильнейших взаимоотношений, где обычные правила взаимодействия не работают. В паре не бывает справедливости или вежливости, и не стоит их искать.
Важнейшая функция брака — усиление напряжения и тревоги. Если не помнить о том, какое важное место в индивидуальной психологии Витакера занимает напряжение, трудно понять, почему усиление тревоги так значимо, почему оно выполняет позитивную функцию брака. Витакер говорит: “У холостого человека жизнь не достигает такого жара”. И эти убеждения объясняют нам его работу с парами. Дело терапевта — увеличивать тревогу, а не стараться ее убрать.
Существует столько возможностей говорить о браке. О его функциях, о том, как брак влияет на отдельного человека, что получают от брака муж и жена, что с ними происходит в процессе развития брака. Я сознательно решил свободно плавать по теме. Думаю, вам лучше погрузиться в размышления вместе со мною, а не заниматься записыванием моих слов, которые потом покажутся неправдой.
Во-первых, чтобы говорить о браке, нужна определенная концепция человека: что он из себя представляет, прежде чем соединяется с кем-то еще, зачем он соединяется с другим. Очевидно, что человек — неполноценное существо, калека. Я калека с биологической точки зрения: я не располагаю значительным временем для собственного существования. Я калека, поскольку у меня нет груди, нет влагалища; я не могу воспроизвести сам себя. И это убожество есть основа для стремления людей друг к другу. Даже если отложить в сторону репродуктивный инстинкт, можно понять, что моя личность не полна, не завершена. Мне не хватает какой-то жизненно важной части. Поэтому представление о моей ущербности имеет прямое отношение к основам брака.
Есть еще кое-какие важные для понимания человека вещи — концепция переноса: мы переносим свои чувства из одной стадии жизни в другую. Гомеостаз: стремление человека к безопасности, к стабильности. Циклический характер взаимоотношений с другим: мы соединяемся с человеком, а потом теряем его. В один момент мы едины сами с собой, в другой — вне себя. Такие приливы и отливы процесса человеческой жизни не позволяют нам удовлетворяться тем, что мы есть.
Другие стороны нашего роста привязывают нас к культуре. Я не могу перечислить всего. Тут и желание быть ребенком — постоянное стремление к простоте жизни, желание стать зависимым и жить как бы в райском саду, делая вид, что Бог не изгонял нас оттуда — Он просто пошутил. И стремление сделать что-то с другими людьми, стать терапевтом, сделать мать счастливой, решить проблемы этого мира, стать Христом и так далее.
Говоря о браке, стоит дать ему определение. Я думаю, самое простое определение таково: брак есть взрослая форма близости. Это единство и отделенность — в их взрослой версии. Все прочие формы “брака” похожи друг на друга (в широком смысле слова), где это синоним для разнообразных форм близости — близости матери и ребенка, партнеров, друзей, супругов, врагов.
Существует огромная разница между культурными стереотипами и жизнью семьи. Правила публичной жизни и правила для супругов — вещи абсолютно разные. Я знаю людей, для которых брак — что-то вроде официального мероприятия, и они изо всех сил борются с этим различием. Торговец не понимает, почему она перестает быть товаром, когда ее продавали, все было в порядке, а сейчас все разваливается к чертям. Его проблема именно в том и заключается, что он просто не понимает, почему она не остается чем-то вроде удачной покупки. Я посещаю зубного врача, который однажды рассказал мне о своей проблеме. Он хочет разводиться с женой, потому что она спит с другим человеком и собирается уйти к нему, покинув дом и детей. Он сказал: “Я, разумеется, этого не сделаю, но если бы я настаивал серьезно, жена порвала бы с тем человеком и вернулась ко мне”. Вот пример использования социальных правил в частной жизни.
На другом полюсе можно поместить шизофреника, который к общественным отношениям со всяким человеком прикладывает свои приватные правила. Он хочет достичь глубокой близости, отношений бессознательного к бессознательному с прохожим, с которым разве что только поздоровался на улице. Эти два примера помогут вам понять разницу между миром интимности, в котором, по моему убеждению, должен находиться брак, и миром общественных взаимоотношений, в котором мы с вами живем.1
Я процитирую доктора Воркентина: “В любви и на войне все является справедливым, а брак же есть и то, и другое”. Социальные правила, правила общественных отношений не стоит прилагать к браку. Лучше пускай там будет война, пускай будет несправедливость, пускай будет поменьше вежливости. Типичная просьба матери шизофреника, когда она приходит к вам: “Если бы вы могли сделать так, чтобы Джонни со мною повежливее говорил! Это такой кошмар! Хотя бы немножко уважения — он так вежлив с другими людьми, и так грубит мне, как будто я не принадлежу к нормальному обществу”.
Есть разные типы браков. Их легко различить, когда люди входят к вам в кабинет. Правда, обычно не встречаются чистые типы, скорее, они бывают смешанными. Один из самых простых типов — партнеры для приятного времяпровождения. Эти люди — просто хорошие друзья, и они решили, что поженятся, продолжая сохранять дистанцию друг от друга в десять шагов. Человеку нравится быть на расстоянии десяти шагов от окружающих, и он находит другого подобного себе человека и договаривается с ним2. Два молчаливых партнера, и ни один из них не управляет лавочкой, каждый владеет своей половинкой, и никто ничего не продает. Маргарет Мид придумала интересную вещь про два типа браков. Вы слышали об этом? Первый брак, разрешенный соответствующим законом, с выдачей сертификата, где жена принимает противозачаточные таблетки и не собирается рожать детей. Через какое-то время они могут изменить контракт и решить, что вступают в брак с целью продолжения рода. Тогда им выдается другая лицензия, снова празднуется свадьба, и они могут рожать детей. В нашей стране 25 лет назад было очень много таких приятельских браков, только что без юридических процедур.
Затем есть брак, который я называю контрактом о взаимном усыновлении, хотя иногда это одностороннее усыновление или удочерение. В этом случае сиделка находит себе подходящего пациента, и они официально оформляют свои взаимоотношения. И с ними происходят разнообразные любопытные вещи. Несколько лет назад у меня была такая пара, хотя официально и не зарегистрированная. Он несколько лет ходил к роджерианскому терапевту, и это был хороший, стабильный, эффективный и живой процесс. И он нашел себе подругу с диагнозом “шизофрения” — яркую, с интересными разговорами и так далее, и они решили жить вместе. Так прошло года два, и жизнь стала настолько взрывоопасной, что он привел ее ко мне “полечить”. И я этим занимался, пока не понял, что они оба безумны в равной степени. И появились новые проблемы, когда его безумие вылезло наружу. До этого он с удовольствием созерцал ее безумие с безопасного расстояния. Тогда ей стало лучше, а в нем усиливалась тревога, и они решили, что это — слишком много для них, так они не договаривались. Что-то вроде усыновления: он становится ее нянькой, а она — всей его жизнью; их отношения взаимны. Он стал мертвым, холодным, замороженным, а она должна была его оживить. Она не в меньшей степени была для него терапевтом, чем он для нее. Я думаю, что такое усыновление лишь псевдотерапевтично. Мы это называем браком, основанном на взаимной псевдопсихотерапии, и это самый обычный в Америке брак, который, скорее всего, будет у меня и у вас. Каждый пытается помочь другому. Прототип такого брака прекрасно описан в небольшой книге под названием “Непонимание ценой в сто долларов” — чудесная книга. Четырнадцатилетняя неграмотная негритянская шлюха и восемнадцатилетний студент, отец которого возглавляет местное общество борьбы со сквернословием, пытаются помочь друг другу. Маленькая книжка, достойная вашего внимания. Такой псевдопсихотерапевтический брак всегда отличается взаимностью, в нем участвуют обе стороны, как и в любом браке, он похож на зеркальное отражение и никогда не бывает односторонним.
Бывают, конечно, еще гомосексуальные браки: двое мужчин или две женщины вступают в брак, но их взаимодействие отдает соревнованием. Бывают извращения брака, чаще всего это асексуальный брак или брак без агрессии, как у Генри Форда: они прожили вместе пятьдесят лет и ни разу не ругались. С моей точки зрения, это извращение брака.
Итак, интересно посмотреть на брак (оставив в стороне идеи Эрика Берна, которые я вполне принимаю) как на псевдотерапию: каждый партнер одновременно является и мамой-папой, и ребенком, и на заднем плане есть мужская и женская роли. Это искусственные или вынужденные взаимоотношения, которые встречаются везде. Сейчас я беру на себя роль матери и отца по отношению к вам, аудитории, а вы послушно и тихо сидите, кушаете то, что вам дают, как дети. Мы делаем вид, что таково положение вещей, но на самом-то деле мы взрослые и относимся друг к другу как взрослые люди. А если мы возьмем брак во всей его сложности и предположим, что он основан на его мужественности и женственности, и на ее мужественности и женственности, то получается несколько возможных композиций. Взаимосвязь ее мужественности и его мужественности, ее мужественности и его женственности, комбинация его мужественности и ее женственности или союз его и ее женственности.
Когда мы называем гомосексуальным брак мужественной женщины и женственного мужчины, надо иметь в виду не одну, а все четыре возможные комбинации. У Амброза Бирса есть в его “Словаре сатаны”3 прекрасное определение: брак — это группа, состоящая из хозяина, хозяйки и двух рабов, а всего в группе два человека. Он говорит о том же, о чем сегодня пишет Эрик Берн, только он обогнал нас обоих на пятьдесят лет.
Кроме типологии браков стоит поговорить и о том, как брак развивается и меняется. (Замечу, что существуют разные виды брака, о которых я говорить не буду. Брак любовников, который может, например, быть юридически законным и продолжаться долгое-долгое время, когда единственное общение между людьми происходит в постели. Это договор о встрече половых органов, а люди при этой встрече отсутствуют. Они — где-то еще, в другом месте, в другом времени, хотя тела их время от времени встречаются.).
У брака есть еще одно измерение — время его жизни. Сначала я хочу поговорить о чем-то вроде физиологии, а затем — о главных точках развития брака, которые можно видеть, наблюдая за браком долгие годы. Одна из функций брака — повышение уровня обмена веществ. Это происходит естественно, но в этом утверждении содержится и более общий смысл. Я думаю, что у холостого человека жизнь не достигает такого жара, как у того, кто в браке. Сочетание стабильного официального контракта с переменчивостью напряжения и движений эмоциональной включенности рождают внутреннее тепло, которое вряд ли можно найти где-то еще. Я был бы рад подраться с кем-нибудь за данное утверждение, поскольку не всем это очевидно и многим, подозреваю, кажется просто неправдой. Но, как бы там ни было, брак нужен для создания напряжения и усиления тревоги, усиления эмоций, всего негативного и позитивного, и я думаю, это и есть одна из его главных функций.
Брак также помогает отдалиться от своего прошлого. Это экзистенциальное переживание выдергивает человека из его прошлого. Стоит поразмышлять о том факте, что женатые люди в целом меньше привязаны к мамам и папам и своему детству, чем холостые. Иногда, благодаря тому, что мы наблюдаем много нарушений брака, это трудно себе представить, но брак отделяет человека от его прошлого. Он также способствует продуктивности, и не только в биологическом смысле. Это происходит благодаря тому, что брак нарушает гомеостаз, нарушает индивидуальную организацию человека, его самодостаточность, его спокойствие. Сложно страдать от скуки и опустошенности в двадцать пять лет, если ты нашел себе другого и вступил в череду сражений за то, чтобы определить, кто что будет делать, кому и чьим оружием.
Я думаю, в браке происходят и физические изменения, изменения образа своего тела и Я-концепции. Интересная вещь, на которую, может быть, вы не обращали внимания, но к ней стоит приглядеться: у многих плоскогрудых женщин после вступления в брак грудь увеличивается — независимо от беременности. Вы можете сказать, что тут замешаны руки: не знаю, вам виднее.
Конечно, вы можете предположить, что бывает и наоборот. Не знаю. Я вырос на ферме и склонен рассматривать все с их положительной стороны. Не удивлюсь, если вы скажете, что у кого-то после вступления в брак происходят негативные изменения в физиологии или появляются заболевания, артриты, например. Мне было бы очень интересно услышать про эту статистику: у какого процента людей после брака развивается артрит.
Еще я думаю, что брак способствует интеграции. Он создает напряжение. Если человек стремится войти в футбольную команду, он, несомненно, развивается. Возможно, он не получит того, чего хотел, и в команду не попадет, но подобное стремление дает толчок физическому развитию. То же самое происходит в браке. Он подталкивает к интеграции именно потому, что нарушает старые пути жизни и создает напряжение. Я думаю также, что брак усиливает гомеостаз и стабильность, но это происходит в самую последнюю очередь.
Если теперь перейти к тому, как все это происходит, в каких измерениях и вокруг чего, — можно попасть на парадоксальную территорию, где все имеет странную диалектику. Об этом даже нелегко начать говорить, я в замешательстве. Я начинаю двигаться в одном направлении, иду и вдруг обнаруживаю, что направление стало противоположным. Можно сказать, например, что двое людей живут вместе и становятся ближе друг к другу — и в той же мере дальше друг ото друга. Это странно, но чем ближе они, тем более отдалены. Если не растет их удаленность, не растет и близость. Если не усиливается самостоятельность каждого, не может усилиться и единство. Об этом трудно говорить, поскольку здесь этого нужна парадоксальная двойная связь (double bind) мышления. Не хватает логической или концептуальной почвы. Я иногда чувствую себя как медик, очутившийся в сфере психотерапии, которому не хватает слов, чтобы говорить о своих впечатлениях. Чем больше ты можешь быть с другими — особенно со своей женой, со значимыми другими — тем больше можешь находиться наедине с самим собой. А чем больше ты с собою, тем больше ты с нею. Я бы сказал несколько грубовато: это как половой акт. Движение туда-сюда, как приливы и отливы. Его нельзя остановить. Разве только для того, чтобы исследовать, как это удалось сделать Джерому Френку во время Второй мировой войны. Он занимался огромным количеством психопатов, работая в армии в Форт Кнокс, пытался что-то сделать для двух тысяч мужчин и открыл закон колебаний. Он говорил про приливы и отливы жизни, считая, что без таких колебаний жизнь мертвеет, становится бескрылой и скучной. Можете себе представить две тысячи психопатов, которые обсуждают эту концепцию, спрашивая друг у друга: “Ну как, у тебя колеблется?”
Среди этих диалектических парадоксов есть один, наиболее очевидный — любовь и ненависть. Не знаю, правда ли, что с усилением любви возрастает и ненависть, но полагаю, что брак есть движение к близости, а близость состоит из двух компонентов — любви и ненависти. Открытость и близость повышают температуру как любви, так и ненависти.
А теперь добавим перспективу времени. Мы предполагаем, что начало брака — феномен переноса, выбор партнера абсолютно точен, это непосредственный контакт одного бессознательного с другим. Его точность сравнима с точностью, какую мы ожидаем от компьютера, задавая ему вопрос. Компьютеры иногда ошибаются (и, видит Бог, мы тоже), но муж с женой подходят друг другу с абсолютной точностью. На основании своего клинического опыта я могу утверждать, что это относится и к тем случаям, когда оба супруга — крайне больные люди. Как будто бы этот выбор происходит где-то за гранью психических нарушений. Точно не знаю, но предполагаю, что это феномен переноса. После окончания медового месяца, периода, когда “мечта всей моей жизни воплотилась в одном человеке”, наступает другой период, перенос какого-то иного характера — надо бы придумать для него специальный термин. Этот период начинается с разрушения иллюзий медового месяца и тянется до разрушения псевдотерапевтических взаимоотношений через семь, восемь или девять лет. Его называли “зуд после семи лет вместе”, мы зовем его “синдром десяти лет”: люди постепенно понимают, что не могут переделать друг друга. Мужчина постепенно начинает видеть, что женщина никогда не станет такой, какой он бы хотел ее видеть, и она никогда не изменит его так, как хочет. Это провал, конец второго медового месяца.
[Вопрос из аудитории: А что вы понимаете под переносом?]
Я был женат на маме — вы знаете — и перенес эти чувства на другую женщину. Чувства к матери, к моим родителям, к комбинации отца и матери или к комбинации моих родителей и их родителей.
Это всегда комбинация из фантастического числа компонентов, и перенос, я думаю, является ее частью. Перенос — не такая уж простая вещь. Сказать, что кто-то женился на своей матери, — слишком упростить понятие переноса. Я думаю, это не совсем то же самое. В матери есть какие-то черты, которых мужчина ищет и к которым стремится. Девушка вдруг зажигает его, и в ней он находит то, что возбуждало его в отце или в дедушке. Столько информации содержится в этом компьютере, и слишком упрощать свое понимание опасно. Хорошо, когда все просто и понятно, снимается напряжение, страх и дискомфорт неведения, но на самом деле все обстоит гораздо сложнее. Из-за того, что в данном случае роль играет такое множество факторов. Если бы действительно каждый женился на ком-то, похожем на его мать, вопрос о переносе оказался бы решенным, но это не так, и в культуре по данному поводу все время возникают сомнения.
В конце семи или десяти лет наступает период, который я называю терапевтическим тупиком. Это затор движения, в котором завязаны перенос и контрперенос: брак становится все мертвее и мертвее. Супруги скажут вам: “Вы знаете, наши споры ничем не отличаются от споров шестилетней давности. Разговор начинается с той же фразы, мы повторяем одни и те же слова, и все всегда одно и то же”. Происходит встреча № 7000, и она совершенно такая же, как встреча № 1 или № 5. И если это тупик, возникают те же вопросы, какие возникают, когда вязнет в тупике терапия. Что вы тогда делаете? Расстаетесь с пациентом и берете нового, как это бывает при разводе и новом браке? Приглашаете ко-терапевта и пытаетесь что-то поменять, включаете в ситуацию какое-нибудь третье лицо, чтобы разрушить застывшую ситуацию? Одно из обычных явлений в супружеском тупике — измена. И тут проявляется еще один закон жизни семьи, о котором я уже говорил и поэтому сейчас не буду долго распространяться: брак есть надструктура, она находится над мужем и женой и заправляет всем, что происходит. Он утверждает: “Ты фригидна”. Она говорит: “Ты слишком быстро кончаешь”. Так проходит время, пока они не решат, что какой-нибудь Джонни подходит для того, чтобы разогреть ее, затем они решают, что это нужно сделать тайно от мужа, чтобы тот не чувствовал себя рогоносцем, а потом муж обнаруживает измену, и это для него полный ужас. Но и ужас входит в заранее приготовленный сценарий этой любительской психотерапии, как и последующее примирение. Температура поднялась, тупик преодолен, созданы подлинные взаимоотношения с большей степенью близости. Это происходит довольно часто: температура повысилась, муж безумен от гнева, и они преодолевают тупик. А потом, когда температура снова снижается, она находит кого-то еще, брак вновь разогревается или они вместе решают, что такая терапия устарела. Тогда жена находит себе другого терапевта или муж говорит: “У тебя есть терапевт, а я заведу себе какую-нибудь психотерапевтку”. Она скажет: “Только не ту блондинку”, подразумевая: “Не говори со мною об этом, а пойди и найди ее”. И, покончив с этим периодом тупика, с помощью любовного треугольника с участием терапевта-любителя или профессионального терапевта, пара вступает в новый период нестабильности и роста и приближается к “двадцатилетнему тупику”, обычно наступающему тогда, когда дети покидают дом. Муж и жена жили, пространство между ними было заполнено детьми, так что они могли не думать о своих отношениях. Внезапно дети исчезают, за столом пусто, и им ничего не остается — либо жить вместе, либо поставить на этом крест. Еще один очередной тупик; преодолев его, они смогут пойти дальше, чтобы повернуться лицом к смерти и к старости. И здесь также необходим базис прошлых лет, чтобы прожить этот период конструктивно.
Психотерапия
взаимоотношений пары
Читая эту статью, помните, что написана она была в 1958 году, когда еще не вышло ни одной публикации, посвященной результатам терапии для пар. Статья написана для того, чтобы показать: подобный подход имеет право на существование. Не являясь научным исследованием, она демонстрирует эффективность терапии брака и содержит некоторые мысли о процессе терапии и о механизме изменения супружеской пары.
В данной статье описывается терапия супружеских пар, с ограниченным числом которых один терапевт работал в течение двух лет. Психотерапия, как правило, была короткой, результаты — разнообразными.
Ранее все исследования психотерапии проводились с точки зрения одного пациента. Внимание было направлено на индивидуальную психопатологию, так что межличностные отношения обычно оказывались вне поля зрения, а если их и описывали, то делали это лишь на языке субъективных переживаний пациента. Так мы пришли к ситуации, когда некая священная неприкосновенность терапевтических взаимоотношений тормозит исследования отношений пациента со своими близкими в реальной жизни. К тому же, в обществе неодобрительно относятся к так называемому консультированию супружеских пар, и большинство психиатров не работают с парами.
Салливан и Вашингтонская школа психиатрии постулировали, что психиатр должен изучать взаимодействия между людьми. Но пока все еще не принято заниматься терапией взаимоотношений, за исключением взаимоотношений терапевта и пациента. Недавняя книга Эйзенштейна “Невротическое взаимодействие в браке”4 повысила интерес к взаимоотношениям супругов. Перед тем Комитет по изучению семьи издал брошюру под названием “Интеграция и конфликт в семье”, в которой описываются нарушения семейного взаимодействия. Там много ценного, но для психиатров все это кажется слишком сложным, так что они предпочитают не трогать семью. В брошюре приведены различные описания то одного аспекта брака, то другого. Статья Эдит Джексон описывает взаимную фиксацию супругов и рассказывает о системе обратной связи. Также в брошюре проводится идея, что тот из супругов, кто обращается к терапевту, в меньшей степени нездоров, чем другой. Все эти факты внушают мысль, что терапия для супругов могла бы стать обычным делом в практике психотерапевта.
Перед нами встает вопрос: возможны ли эффективная психотерапия пары как таковой, или терапия так называемого пациента в присутствии другого супруга, с постепенным вовлечением последнего в процесс, или терапия одного супруга в присутствии другого в качестве участвующего наблюдателя? И как решить — в том случае, когда терапия не превращается в терапию супругов, — есть ли смысл заниматься с пациентом индивидуально в присутствии его партнера, не снижает ли эффективность индивидуальной терапии попытка терапевта работать с парой?5
Метод
Настоящая статья посвящена развитию такой формы психотерапии. Автор вместе с группой коллег изучал разные варианты терапевтических подходов. Одной из наших первых техник стало участие двух коллег в работе с одним пациентом. Потом мы изучали метод эмоциональной атаки как подход к терапии некоторых пациентов. Успех этих методов стимулировал наш интерес к невербальному общению пациента и терапевта, а позже — к общению мужа и жены и в связи с этим — к их взаимному переносу. Настоящая статья — результат работы автора с тридцатью супружескими парами с января 1955 по январь 1956. Диагностическая часть работы выглядела следующим образом: автор встречался с супругами первый раз и выяснял историю проблемы, а на вторую встречу кроме него приходил еще один коллега. Затем мы представляли отчет группе коллег.
Критерии отбора пациентов: (1) взаимосвязанная психопатология у обоих супругов, когда индивидуальная терапия представлялась малоэффективной (муж-алкоголик и жена в роли его матери); (2) особенности второго, не обращавшегося с просьбой о психотерапии для себя, супруга, которые могут расстраивать ход индивидуальной терапии (параноидальный характер мужа); (3) неустойчивость брака и ситуация, когда индивидуальная терапия может привести к разводу (неверный муж и наивная жена); (4) большая степень эмоциональной незрелости у обоих, когда единственным разумным решением является постановка перед собой в психотерапии очень ограниченных целей; (5) умеренный психоз у пациента, когда его партнер вынужден быть как бы непрофессиональной сиделкой.
Группа коллег старалась представить себе возможные трудности терапии и принимала решение, какой подход будет лучшим в данном случае: ко-терапия пациента или пары, либо же с парой будет работать один терапевт. При этом принимались во внимание такие факторы, как степень тяжести психических расстройств у выявленного пациента, серьезность и форма патологии у его партнера и компенсаторный характер их взаимоотношений. Группа оценивала также потенциальный риск отыгрывания в поведении — в виде отклоняющегося поведения или бурного приступа психоза.
После принятия решения автор обращался с парой только как с единым целым. Тактика зависела от ситуации в паре. Если основной проблемой становилась супружеская борьба за близость, внимание большей частью уделялось изменению переноса, существующего между мужем и женой. В более серьезных случаях (например, при длительном неврозе или зарождающемся психозе у одного из партнеров) терапевт сначала пытался установить относительную стабильность брака и только потом обращал свое внимание на пациента или его гиперкомпенсированного партнера.
Для достижения чувства единства супругов в браке автор обращал их внимание на схожесть психопатологии у обоих или показывал, как симптомы и динамика одного были необходимы для благополучия другого. Автор общался только с парой как с целым, чтобы не сеять параноидных подозрений в ситуации треугольника. На более поздних стадиях терапии данное правило может быть нарушено: напряжение в треугольнике в какой-то мере проработано, и даже если терапевт работает с кем-то одним, другой понимает, что тот — на стороне их союза, а не на стороне одного из супругов.
Терапевт оставляет за собой право в любой момент снова пригласить другого супруга, а иногда настойчиво посылает последнего на индивидуальную терапию — для равновесия отношений в браке. Сложность ситуации показывает следующий пример: на вторую встречу жена пришла без мужа и на вопрос, где же он, ответила, что тот довез ее до офиса терапевта и сказал, что подождет внизу на улице. Тогда ей было велено спуститься вниз и привести мужа. Если бы терапевт не был настойчив, возможно, эта пара разрушила бы эффективность терапии.
Природа и цели подобной терапии, с точки зрения автора, аналогичны природе и целям индивидуального и группового подхода. Терапевт стремился избежать участия в реальной жизни пациентов и отказывался принимать за них решения, в то же время стараясь как можно больше эмоционально включаться в отношения с парой во время терапии. Он предоставлял им свободу и даже вынуждал их общаться между собой во время терапии, стараясь достичь большей близости, чем это у них бывало дома.
Результаты
Автор работал с 30 парами, с которыми были установлены значимые терапевтические взаимоотношения. Лишь шесть пар ушли с терапии, ни в одном случае причиной ухода не был отказ автора заниматься с пациентами индивидуально. В десяти парах не удалось вовлечь одного из супругов, который оставался лишь участвующим наблюдателем. В двух случаях за супружеской терапией последовала индивидуальная с одним из партнеров, в обоих случаях не наблюдалось, чтобы супружеская терапия помешала последующей индивидуальной.
Ретроспективный анализ показывает некоторые отличия такой работы от индивидуальной терапии: (1) вербальное содержание беседы было сравнительно ограничено присутствием партнера, но не в такой мере, в какой можно было ожидать; (2) ситуация провоцировала терапевта на интерпретацию и можно было наблюдать, как супруги берут эти интерпретации на вооружение для дальнейшего использования в семейных спорах. Большинство интерпретаций касалось взаимосвязи невротических нужд обоих супругов, например, пассивности и агрессии, импотенции и фригидности; (3) было заметно, что степень психических нарушений у обоих супругов одинакова, хотя симптомы и отличаются. Брак в этих парах служил каждому для невротической компенсации; (4) тем не менее, сильная и здоровая сторона каждого супруга также в большой степени использовалась другим; (5) маятникообразное появление и исчезновение симптомов у супругов было одним общим циклом. Терапевт мог наблюдать такие колебания, когда, например, усиление тревоги у одного супруга вызывало усиление репрессии у другого.
Пример 1 — супруги H.
Впервые супруги появились у терапевта в ноябре 1955 года. Обоим по 25 лет. Он — в препсихотическом состоянии с чертами шизофренической гебефрении; она — с достаточно типичной истерией и с выраженным эмоциональным голодом. Воспитывалась в приюте для сирот. Пациентке была свойственна нимфомания, она спала со многими друзьями мужа, в то время как тот находился в командировках. Мы решили, что терапия с ней не только обещает быть длительной и трудной, но к тому же, может еще больше ухудшить ее супружеские взаимоотношения и привести к вспышке психоза у мужа. Фокусом терапии стала ее депрессия и чувство, что муж не может дать ей настоящей близости. За год терапии женщина преодолела свою депрессию и тревогу и в конце концов рассказала мужу о своих изменах. В муже это вызвало психотический гнев и в не меньшей степени ужас, когда он понял, что все равно не может оставить ее. Такие симптомы, как растерянность, хаотичность мыслей и чувство нереальности в нем значительно уменьшились. В настоящее время терапия идет конструктивно.
Пример 2 — супруги T.
Жену направили к нам с депрессией, тревогой и фобией заболевания, симптомы появились после рождения второго ребенка. Муж много работает, обладает прекрасными интеллектуальными способностями, преуспевает в своем бизнесе, но у него тяжелая компульсивно-обссесивная структура характера, что компенсируется социальной активностью. Ее истерическая декомпенсация не поддавалась внушениям лечащего врача. Группа терапевтов решила, что болезнь жены тесно связана с ее преклонением перед своим мужем и с его нарциссизмом. Раньше она находилась в полном подчинении у своей матери. Предполагалось, что болезнь пациентки — это попытка изменить неустойчивое равновесие, которое она нашла в не слишком терапевтичном браке. На протяжении девяти месяцев оба супруга посещали терапевта раз в неделю. У нее развился яркий перенос, а он присутствовал на терапии и участвовал достаточно случайно, как бы желая этого, но не зная, как. Тем не менее, косвенно удалось добиться того, что муж стал давать жене больше ответственности в браке. Взаимоотношения внутри супружеской пары и с двумя детьми сильно изменились. Болезненные симптомы пациентки исчезли, и было решено, что она окончит терапию, но оставив возможностью вернуться, если симптомы появятся опять.
Пример 3 — супруги Д.
Сорокалетняя женщина была направлена к нам гинекологом, назвавшим ее “вечной больной”. В течение многих лет она на что-нибудь жаловалась, получала электрошок в 1954 году, неоднократно наблюдалась у различных психиатров. За последние пять лет лечилась от десятка разных болезней, в том числе перенесла четыре операции. Симптомы появились около десяти лет назад, после того, как ее муж сделал обрезание и с тех пор, по ее версии, стал страдать преждевременной эякуляцией. Он же утверждал, что она всегда была фригидна. Ее постоянное нытье и жалобы резко контрастировали с молчанием мужа. Посещая терапевта раз в неделю на протяжении одного года он в общей сложности вряд ли сказал более двух десятков слов. Через восемь месяцев пациентка бросила терапию, а также перестала трижды в день звонить своему гинекологу и ходить к лечащему врачу. Через четыре месяца позвонил ее муж и сказал, что они придут снова. Она не очень этого хотела, считая ситуацию безнадежной, но он настаивал на продолжении психотерапии, несмотря на свой холодный цинизм. Он сказал, что хочет вернуться, потому что это помогает “им”. Его параноидный характер и ее истерия значительно поменялись, терапевт мог не беспокоиться насчет его бредовых идей. Последующие пять месяцев терапия проходит хорошо.
Заключение
Это предварительная работа, рассказывающая о ценности психотерапии супружеских пар. Такой метод во многом освобождает терапевта от проблем переноса и снижает возможность контрпереноса. В некоторых случаях данный метод является наиболее адекватным подходом, кроме того, он дает новые представления о психопатологии. Он позволяет терапевту использовать свою спонтанность и творчество в установлении эмоциональных взаимоотношений: терапевт в большей мере может быть собой, а не только “профессионалом”. Метод расширяет профессиональный кругозор терапевта, поскольку в терапии супругов межличностные отношения предстают с новой точки зрения и развивается новое понимание динамики индивидуальной терапии.
Психотерапия супружеских пар
Настоящая статья отражает взгляды Витакера на брак, которых он придерживался на пути от индивидуальной терапии к семейной. Как он сам упоминает, во время написания статьи он работал с семьями примерно половины своих пациентов. И в статье можно проследить развитие убеждения о том, что каждого пациента лучше всего лечить в его семейном окружении.
Как и во всех своих прочих статьях, Витакер предлагает читателю перечень своих установок, а не какие-то положения, которые он бы доказывал. Он не предлагает нам их принять, а скорее приглашает поразмыслить над нашими собственными установками и о том, какое место они занимают в нашей работе. Это так похоже на его терапевтический стиль: Витакер не ведет пациента к истине; он, добавляя ко всему свою необычную перспективу, провоцирует его на исследование собственного взгляда на жизнь.
Хочу поделиться своими мыслями и опытом ко-терапии. Сначала я расскажу о том, где и как мы работаем, тогда понятнее будет и остальное. Уже в 1945 году в Окридже мы с доктором Воркентином стали работать вдвоем. Вот как это началось: мы рассказывали друг другу о нашей терапии и часто, вернувшись после встречи с пациентом, сетовали: “Побыл бы ты на моем месте, там происходило такое!” Но рассказ о чужой работе слушать было неинтересно. Мы поняли, что общения не получается. И решили: попробуем-ка поработать вдвоем, тогда будет о чем поговорить. Первоначально это задумывалось просто как форма сотрудничества, но потом стало развиваться, так что последние девять лет я почти всегда приглашаю коллегу на вторую мою встречу с каждым пациентом. В данном смысле я всегда занимаюсь ко-терапией, даже если работаю один. На второй встрече обычно оценивают меня и терапевтические взаимоотношения с пациентом. А это все меняет. Подобная деятельность стала частью обычной работы секретарши: посмотреть расписание и назначить кого-нибудь моим консультантом для каждого нового пациента. Если, обсуждая ситуацию позже, мы приходим к выводу, что она достаточно трудна для меня, я говорю пациенту: “Мне понадобится помощь консультанта, он будет приходить на каждую четвертую нашу встречу”. Или на каждую десятую, или, в тяжелом случае, просто на каждую.
Так мы работаем вместе все время, и отсюда вырос интерес к терапии с несколькими пациентами. На сегодняшний день около 50% времени моей терапии я провожу с парами или семьями. Пытаясь облечь этот опыт в концепции, четверо из нас проводят полдня каждую неделю в сражении за формулировки и понятия. Этим мы занимаемся уже десять лет. Мы пришли к убеждению, что человека нельзя отрывать от его “значимого другого”. Последние пять лет я не начинаю работать с пациентом, пока не поговорю с его супругой или супругом, если они только существуют. Когда они утверждают, что у них никого нет, я иногда соглашаюсь с ними, но обычно всегда оказывается, что это не так. Пускай мать пациента живет за 400 миль от него и он не видел ее последние три года, но ее “дух” вдруг возникает через пятнадцать минут после начала второй встречи. Может быть, в один прекрасный день я приду к тому, что скажу такому человеку: “Сначала накопите денег и привезите вашу маму, и только тогда, когда я поговорю с ней, можно будет решать вопрос о вашей терапии. Не будет матери — не будет и терапии. Даже у ламы бывают мамы”. Так примерно мы работаем.
А что касается терапии пар, возможно, она родилась в медицинском институте, где мы обучали терапии. Было слишком много студентов, а пациентов не хватало. И мы стали приглашать всех, кто сидел в ожидалке. Например, жена записана на прием к доктору Джо, а доктору Биллу нечего делать. Тогда я нахожу ее мужа и говорю: “Поговорите-ка с доктором Биллом о том, что происходит у вас дома”. Это было естественно и иногда нам сильно помогало. Мы пришли к тому, что сделали это обязательной процедурой. Переместившись в сферу частной практики в 1955 году, мы сохранили традицию.
Сейчас люди все больше говорят и пишут о том, что “сумасшествие” — в широком смысле слова — это ось, вокруг которой происходит изменение и рост. Это верно для поэзии, живописи, литературы и так далее. Люди разуверились в логике, в разуме, в систематике и упорядоченности. Общество предчувствует, что именно спонтанное и чудное, юродивое — основа изменения и роста. О том же разговаривают в ординаторской или в столовой психбольницы. Доктор, посмотрев пациента, идет обедать и за столом рассказывает: “Я общался с его матерью и отцом, они куда безумнее, чем пациент”. Та же идея: пациент — ось, точка фокуса жизни семьи. Если обратиться к Библии, то для Израиля такую же роль выполняли пророки.
Детские клиники открыли тот же закон. Они начали говорить, что ребенок, попавший к ним, выражает симптом его матери6. Мать хочет попасть в клинику, а тот факт, что мальчик писает в постель, просто случайность. Мне вспоминается один случай из того времени, когда в 1940 году я работал в клинике детской психиатрии в Луисвилле. Позвонила одна женщина и попросила посмотреть ее восьмилетнего сына, который мочил постель с двух лет. В два года его научили не делать этого, и в течение четырех-пяти месяцев постель была сухая, а затем он вновь начал писаться: каждую ночь на протяжении шести лет. Как это принято, социальный работник сказал матери: “Первый раз приходите без сына, мы поговорим и тогда назначим встречу психиатра с вашим мальчиком, а вы будете общаться со мной”. Так была назначена встреча, но дней через пять женщина позвонила и сказала: “Извините, я хочу отменить свой визит”. Социальный работник спросил: “Почему?”, и та ответила: “Знаете, произошла интересная вещь. После моего звонка, когда я договорилась о встрече, Джимми перестал мочить кроватку, так что я думаю подождать, пока он не начнет снова, и тогда приду к вам”. Социальный работник пытался преодолеть ее “сопротивление”, но ничего не получилось, так что пришлось отменить встречу. Через шесть месяцев она позвонила снова: “Я подумала, что вам всем интересно будет узнать, что с тех пор Джим так ни разу и не написал в кроватку”. Работники клиники убедились в том, что ребенок стал симптомом семьи, нуждающейся в помощи.
Недавно мы пришли к убеждению, что то же самое происходит и в браке. У одного супруга проявляются определенные симптомы, а другому свойственны репрессия и стабильность.
Когда ты начинаешь играть с такой концепцией, то открываешь множество удивительных вещей. Я, например, однажды лечил женщину с тяжелым алкоголизмом. Ее муж возмущался, когда я приглашал его к себе. Он уже пять лет отходил к психоаналитику, какая же еще помощь ему нужна! Месяцев через шесть во время Рождества моя пациентка приняла решение не пить. Первый раз за несколько последних лет их жизни на выходные она не выпила ни капли. На следующей неделе за два с половиной дня ее муж вылакал такую дозу виски, которая ей и не снилась. Так мы пришли к идее “качелей брака”: симптом, исчезая у одного, появляется у другого. Это весьма напоминает ставшую клише фразу: “когда шизофреник выздоравливает, сходит с ума его мать”.
Для нас очевидно, что психологические нарушения у одного супруга —симптом нарушения взаимодействия в браке, нарушения межличностных отношений. Именно эти отношения и должны быть “пациентом” нашей терапии. Точнее, у нас появляются трое пациентов: муж, жена и также их брак. Последний — наиболее очевидный, но в то же время — самый трудный.
Из этих представлений развилась наша диагностика разных видов брака и источников напряжения, возникающего между супругами, а также способов, которыми супруги выражают патологию своих взаимоотношений. Я хочу рассказать вам об этой теоретической системе, а потом более свободно поразмышлять о браке.
Некоторые вещи кажутся нам наиболее важными в браке и также в терапии супружеских пар. Обыденная мудрость говорит: брак — это кошмарное состояние; есть только один еще более ужасный кошмар — оставаться одиноким.
Размышляя о нашем опыте, мы с доктором Воркентином пришли к выводу, что наши установки в терапии семей в огромной степени определяются нашей личной жизнью. Нам кажутся здоровыми те стороны брака, которые доставляют нам удовольствие в наших собственных семьях. А то, что нам не нравится, мы называем “психопатологией”. Можно сказать, что личные переживания терапевта определяют его работу с семьями. Такое заключение мы вывели, наблюдая и за своей личной жизнью, и за нашей работой с пациентами. Эти установки мы замечаем тогда, когда на них обращают внимание пациенты. Они не имеют для нас абсолютного значения, но направляют наши мысли. Они, с одной стороны, подкрепляют нашу систему ценностей, с другой — показывают ограниченность человеческой природы.
Во-первых, мы предполагаем, что люди добры друг к другу только в той мере, в какой близки друг к другу. Брак есть и средство, и конечный результат взрослой близости в продолжительных взаимоотношениях, а также это приемлемое культурой место, где можно переживать подобную близость.
Во-вторых, в браке целое больше, чем просто сумма двух частей. Эта идея родилась из практики ко-терапии: двое терапевтов гораздо сильнее, чем оба они, взятые порознь7. Брак — поле приложения динамических сил. Занимаясь с парой в терапии, мы имеем дело с мужем, женой и их браком. Сила или власть брака больше, чем алгебраическая сумма плюсов и минусов двух отдельных людей.
В-третьих, браку присущи сексуальные взаимоотношения. В противном случае брак становится — и в широком, и в специальном смыслах этого слова — извращением. Все динамические силы несексуальной природы в сфере брака — вторичны. Например, когда брак определяет огромная разница в возрасте супругов, он становится извращенным и нездоровым. Но тот же брак может быть, несмотря на разницу в возрасте, здоровым, если отношениям задает тон сексуальная любовь. Социальная церемония бракосочетания необходима и ценна. Она не только позволяет взять позволение на брак у ближайших родственников, но и создает необходимые рамки, в которых отношения между людьми могут год за годом развиваться.
В-четвертых, выбор партнера — всегда мудрое решение, мудрое, с точки зрения социальной ситуации, мудрое, с точки зрения тела, мудрое в бессознательной оценке того, насколько другой дополняет мою личность. Эта мудрость в выборе партнера порою изумляет нас, даже в тех случаях, когда в выборе замешана психопатология. Нарушения психики не уничтожают ценность любви или брака. Когда начинаешь глядеть на брак с данной точки зрения, убеждаешься, что эти двое созданы друг для друга. Так устроена каждая супружеская пара. Конечно, это не какие-то абсолютно новые идеи. Давным-давно это открыл Вольтер, а мы как бы открыли заново. Вольтер утверждал, что каждый получает то, к чему стремится. Единственная проблема: ты сам не знаешь, чего хочешь, пока этого не получишь. А тогда можно утверждать, что хотели вовсе не этого.
В-пятых, эмоциональные взаимоотношения между супругами всегда находятся в равновесии, они всегда взаимны и одинаковы по своему типу и интенсивности. Вступая в брак, пара как бы договаривается об уровне эмоциональной температуры, которую она будет поддерживать. Супруги могут перенастроить свой термостат только по взаимному решению: когда один станет слишком горячим, другой добавит прохлады, чтобы поддержать установленный уровень температуры. Изменение эмоциональной жизни брака может произойти только при участии обеих сторон. Мы знаем, что внешнее поведение супругов нередко выглядит совсем не так, как стоящие за ним чувства. Недавно я столкнулся с прекрасной иллюстрацией этих мыслей. Муж и жена живут вместе уже шесть лет. Первые три года жена была очень чувственной, теплой и заводной. А затем ситуация резко изменилась во всем и встала с ног на голову. Последующие три года жена стала холодной, зато муж превратился в чувственного и теплого человека. А “температура” брака все шесть лет оставалась постоянной величиной. Когда изменились чувства одного партнера, другой сделал ответный ход. Это не значит, что их поведение было одинаковым. Одинаковой была сила чувств, причем совершенно не важно, понимали они это или нет. Разумеется, и поведение каждого из них было разным.
В-шестых, обычные правила социального поведения нельзя прилагать к супругам или к другим близким человеческим взаимоотношениям. Например, такая вещь, как справедливость, не имеет в браке никакого смысла. Доктору Воркентину принадлежит замечательная фраза: “В любви и на войне все является справедливым, брак — это и то, и другое”. Не знаю, придумал он это сам или откуда-то взял, но слова эти ко многому подходят. Другой пример: невозможно оставаться последовательным при взаимоотношениях, опирающихся на чувства. Горе тому терапевту, который хочет быть последовательным, хуже него может быть только родитель, пытающийся быть последовательным. И многие другие вещи — приличие, вежливость, честность по отношению к фактам — играют в браке незначительную роль.
В-седьмых, брак обычно начинается с влюбленности. Потом он проходит через серию тупиков. Когда люди влюбляются, они переживают взаимный перенос с истерической динамикой. Такой перенос постепенно выдыхается и через несколько лет они чувствуют, что “любовь” прошла и отношения зашли в тупик. На этом этапе, который мы называем “синдромом десяти лет”, возникает своеобразная гражданская война, в конечном итоге приводящая к освобождению супругов из рабства. Если они смогут найти новую глубокую любовь друг к другу за эти десять лет, то потом смогут жить спокойно примерно столько же времени, пока не наступит очередной тупик. Обычно это бывает тогда. Когда дети покидают дом. Но если не окончилась их гражданская война первых десяти лет и они продолжают жить под одной крышей, то весьма вероятно, что в результате вечного тупика у них установятся извращенные взаимоотношения. Можно сказать это по-другому: только после того, как влюбленность прошла и супруги “разлюбили” друг друга, они могут установить взрослые отношения любви и тепла, отношения личности к личности. Только после десяти лет совместной жизни и после преодоления тупика наступает действительно полноценный брак.
Восьмой пункт: у обоих супругов есть тайные цели в браке, и именно они заправляют всем видимым. Эти цели, неведомые самим супругам, предопределяют расклад динамики силовых линий в поле брака. Они похожи на полюса магнита, между которыми существуют невидимые силовые линии, лишь иногда случайно попадающие в сознание. Эти тайные цели состоят в следующем: достичь свободы от своего детства и детских привязанностей; избавиться от амбивалентности в сфере принятия решений. Молодые жених и невеста могут втайне ожидать от брака, что он будет способствовать их эмоциональному росту, росту чуткости к всевозможным переживаниям и одновременно росту жесткости, поскольку она также необходима для становления личности. Так, один человек использует другого, чтобы компенсировать недостатки своей личностной структуры.
Наконец, еще одна цель брака — ниспровергнуть идола, сделанного из образа своего “Я”. Как говорил об этом один человек: “Когда я был еще маленьким мальчиком, мама сказала, что я выросту и буду президентом. И потом прошло много лет, прежде чем я понял, что президентом мне не бывать. Процесс разрушения этого образа меня как некоего Христа, призванного решить все проблемы мира, был долгим и мучительным. Моя жена не слишком помогала. Видите ли, она изначально в это не верила”.
Скажем в заключение, что наше понимание брака — и нашего собственного, и того, с которым мы имеем дело как профессионалы, — весьма неполноценно. Просто мы рассказываем о границе, до которой дошли в своем понимании. У нас все еще нет ключа, который открыл бы тайну этих взаимоотношений.
Психотерапия
супружеского конфликта
В этой главе можно увидеть, как отдельные мысли и установки Витакера, рассеянные в более ранних статьях, кристаллизуются в целостный подход к терапии супругов. Его интонации становятся более уверенными и определенными. Впервые Витакер пишет о диагностике состояния брака, о техниках и процессе терапии супругов.
В отличие от своих коллег, работавших с парами в то же время, Витакер предлагает такой терапевтический стиль, где сам терапевт находится в центре терапии. То, что терапевт зримо присутствует и настойчиво предлагает пациентам говорить с ним, а не друг с другом, ломает псевдотерапевтический стиль, свойственный большинству патологических взаимоотношений. Стиль, не поощряющий обсуждение парой своих проблем вне терапии, явно не направлен на улучшение общения или на снижение уровня супружеского конфликта. Скорее, это похоже на интенсивную терапию, направленную на лечение индивидуальной патологии с целью изменить супружеские взаимоотношения.
Когда двое людей связаны друг с другом, они неизбежно оказываются в таком положении, когда стоят друг против друга. С этого короткого высказывания можно начать размышлять о браке. Зададим вопрос: “Почему супружеские пары приходят к терапевту?” В нашем обществе сложилась традиция, что психотерапевт лечит одного человека. Чаще всего люди обращаются к терапевту индивидуально и просят облегчить их симптомы или помочь найти свою идентичность. И возникает возможность превратить данную ситуацию в терапию супругов. В результате мы будем заниматься психотерапией супружеского конфликта. С распространением информации о терапии для пары появляются супруги, которые сразу просят заняться их конфликтом. Что же приводит пару к терапевту? Часто — отчаяние. Напряженность отношений столь велика, что оба хотят обратиться к какому-либо посреднику. Иногда их приводит надежда, потому что они увидели другую пару, которая в результате терапии вышла на новый уровень взаимоотношений. Иногда пары приходят под нажимом реальности. У них возникли неприятности с законом, или их посылают коллеги по работе или семья. Те, кто обращаются к терапевту индивидуально, хотят освободиться от своей семьи, перестать быть в ней зависимыми детьми. Многие пары попадают к нам из-за нестабильности роста в одном из супругов, когда социальный терапевт, работавший с ними, зашел довольно далеко и в конце концов направил их к профессионалу. Короче, обычно пары попадают к терапевту из-за того, что их взаимоотношения, ранее стабильные, гомеостатические, находящиеся в нормальном тупике, стали нестабильными. В каком-то смысле нестабильные отношения — это здоровые отношения. Конфликт в браке означает, что брак развивается.8
Тогда возникают новые вопросы. Как терапевт занимается их браком? Будет ли он участвующим наблюдателем, советчиком, членом нового треугольника, будет ли он заниматься терапией переживаний, имея дело с взаимоотношениями? Или станет заниматься одним из супругов в присутствии другого, а может быть, это зависит от конкретного случая или даже от конкретного момента? Как развивается контрперенос и как он действует? Является ли пара для терапевта символическим образом его собственных родителей? Воспроизводит ли это эдипов треугольник взаимоотношений? Можно ли заниматься индивидуальной терапией, встречаясь с парой? Должны ли мы лечить того супруга, у которого очевиден симптом, или же, напротив, следует всегда лечить обоих? Заменяет ли терапия пары две индивидуальные терапии или служит лишь дополнением к ним? Не является ли супружеская терапия самым оптимальным подходом в любом случае, когда она возможна, или стоит предпочесть семейную терапию (в которой, согласно нашему определению, присутствуют в качестве пациента по меньшей мере два поколения)? Каков идеальный исход терапии пары? Должна она постепенно превратиться в индивидуальную терапию? Или она должна перейти в терапию группы, состоящей из супружеских пар? Или же следует и окончить ее в тех же рамках работы с двумя людьми? Каковы опасности подобного подхода? Как треугольник пары и терапевта заходит в тупик в своих взаимоотношениях? Не приводит ли это к психологическому или психосоматическому взрыву? Не повышает ли риск самоубийства? Каковы при такой работе проблемы отыгрывания в поведении? Наконец, не слишком ли все это поверхностно, чтобы называться психотерапией?
Оценка взаимоотношений в браке
Диагноз в исторической перспективе
Оценивать патологию брака можно как в его исторической перспективе, так и в поперечном срезе. Легче представить себе историю брака, если мы поймем, что в начале его лежит перенос. Медовый месяц — период общей фантазии с четко установленной дистанцией во взаимоотношениях, которая подавляет подлинную близость и позволяет каждому в своей фантазии воспроизводить брак своих родителей. Каждый проигрывает, оживляет и восстанавливает брак своих родителей, следуя привычной модели. Это не попытка построить новые взаимоотношения, но, по крайней мере, нечто новое. Такая фантазия рухнет под давлением времени и реальности. Постепенно развивается другая общая фантазия, отталкивающаяся от трудной реальности жизни вдвоем. Появление, например, второго ребенка или потеря материальной обеспеченности нередко запускают новые виды конфликтов между супругами. Эти конфликты также могут прекратиться или разрешиться, а потом где-нибудь на десятом году совместной жизни разовьется еще одна новая фантазия, которую Джон Воркентин называет “синдромом десяти лет” (когда взаимная псевдотерапия заходит в тупик и каждый понимает, что не переделает другого). Этот этап тоже может разрешиться или достичь равновесия с помощью очередной фантазии с примесью реальности в период, когда дети покидают семью, или позднее, когда супруги уходят на пенсию, становясь свободнее от давления реальности и переживая свое “второе детство”. В исторической перспективе можно увидеть также совместную фантазию двух пожилых людей в период появления внуков, которая сопровождается чувством фатализма или трансцендентности. И на каждом этапе возможны свои достаточно серьезные конфликты.
Пример
Предыстория. Эзра и Ева в браке три года. У Эзры была властная мать, которую он любил, одновременно желая от нее освободиться. У Евы также властная мать, которую она любила, но не пыталась ей подражать.
Действие. Эзра влюбился в застенчивую девушку, которую подавляла властная мать.
Проекция. Эзра чувствует, что эта маленькая девочка может стать властной женщиной, а он не хочет все время отстаивать свою свободу. В один прекрасный день он может прекратить сопротивление и стать в зависимое положение к своей жене. Ева влюбилась в юношу, который намеревался освободиться от своей матери путем преуспевания во взрослом мире. Ева чувствует, что может в будущем стать сильной и он ей в этом поможет. Фактически Ева и Эзра установили отношения по оси “господство-зависимость” и могут меняться этими полярными ролями в любой момент, когда захотят. Они будут сражаться, постепенно учась ощущать себя равными по силе людьми. Ни один из них не сможет победить другого, так что, если все будет нормально развиваться, они смогут получать удовлетворение от своей взаимозависимости, а в браке будет достаточно нестабильности для того, чтобы взаимоотношения продолжали развиваться.
Здесь мы видим одну из особенностей двусторонних отношений в браке. Этот брак живой, то есть нестабильный, и он останется живым до тех пор, пока супруги могут меняться своими ролями, в данном случае ролями господства и зависимости. Мы можем диагностировать патологию брака в том случае, когда появляются симптомы, и при этом развитие заходит в тупик, а роли необратимы, то есть стабильны.
Диагноз в поперечном разрезе
Оценивая брак в его поперечном срезе, мы просто находим главную ось, вокруг которой развивается конфликт. Представляя себе брак как бы отдельной личностью, мы легко можем себе представить, что его патология связана с ростом, и найти такие варианты брака, как тревожный, псевдотерапевтический, инфантильный, взаимногомосексуальный, стерильный или психосоматический. Можно также найти взаимосвязанные невротические паттерны обращения с конфликтом, например, властный-подчиняющийся, общительный-изолированный, психотический-психопатический. Так мы пытаемся изобразить разделение труда или, если хотите, разделение ответственности между двумя супругами. Один из них управляется извне, а другой — изнутри, один социально общителен, другой — замкнут, и так далее. При таком положении вещей каждый играет роль, которую ему приписывают, и одновременно помогает другому исполнять его роль.
Глубинный диагноз
Есть и еще один аспект диагноза, интересующий нас. Важно оценить эмоциональное значение супружеских взаимоотношений. Все мы знаем, что встречаются браки, где интенсивность взаимоотношений очень низкая, и мы попытались найти некоторые признаки, показывающие, что для супругов их брак представляет ценность. Мы выделили следующие признаки: (1) маятникообразные колебания симптомов и настроений; (2) сильные межличностные чувства (проявления ревности, соревнования, обиды, скандалы и тому подобное); (3) наличие детей; (4) сексуальность во взаимоотношениях; (5) безумие или глупость, которые супруги переживают вдвоем; (6) в прошлом оба чувствовали, что брак — значительная часть жизни для обоих.
Чтобы стали понятнее дальнейшие размышления, надо объяснить, как мы работаем. У нас частная клиника, где девять терапевтов, как правило, консультируют друг друга, где уже пятнадцать лет довольно обычным явлением стала ко-терапия. Кроме того, при работе с парой мы всегда встречаемся с обоими партнерами и не работаем с супругами индивидуально.
Наши обычные подходы оказались неэффективными при работе с супругами. (1) Индивидуальная терапия того из супругов, который страдал от симптомов, показала, что, избавляя одного из партнеров от симптома, мы ухудшаем положение другого, а также их брака. Нередко такой подход не работал. (2) Когда каждый супруг по отдельности работал со своим терапевтом, иногда мы получали хорошие результаты, а иногда — нет. (3) Лечение обоих супругов по отдельности у одного и того же терапевта оказалось менее эффективным, чем вышеперечисленные подходы. (4) Попытка вовлечь в терапию того супруга, который этого не хочет, также оказывается неудачной. Психотерапия супружеской пары оказывается неудачной и в том случае, если их перенос друг на друга настолько силен, что они объединяются в своем сопротивлении профессиональной помощи. Неудачи бывают и тогда, когда супругам свойственно отыгрывание в поведении вне терапии или когда оба они страдают психозами, хотя такая проблема необязательно приводит к неудаче.
Техника
В настоящее время у нас с парой супругов работают двое терапевтов, и мы встречаемся исключительно в составе такой четверки. Иногда с парой работает один терапевт: в том случае, когда ситуация проста, накал чувств в браке достаточно высок, выражена мотивация роста и отсутствуют признаки отыгрывания в поведении или психологической декомпенсации. Но при любом виде терапии ее иногда у нас посещает консультант, и супружеская терапия — не исключение. Иногда мы работаем в рамках семейной терапии, если того требует динамика семейной группы, состоящей из двух и более поколений.
Процесс терапии
Сам процесс работы с парой не так уж сильно отличается от индивидуальной терапии. Тем не менее, у него несколько иная динамика, он требует больших усилий и четкости в своей организации. При первом телефонном разговоре мы подчеркиваем значение присутствия обоих супругов и иногда откладываем встречу, предлагая паре сначала обсудить между собой вопрос о том, могут ли они прийти вдвоем, хотя бы в первый раз. На вторую или третью встречу с парой приходит консультант, чтобы со стороны оценить историю проблемы и также восприятие ее терапевтами. После этого мы докладываем паре о нашей картине происходящего и даем рекомендации. Так, мы с самого начала даем понять, что пара имеет дело и со своими терапевтами, и с консультантом. Мы не отказываем в индивидуальных интервью, но обычно делаем это лишь в крайнем случае.
Терапевт устанавливает три вида взаимоотношений: с мужем, с женой и также с браком, который является для нас еще одним пациентом. Брак — наш основной пациент, поскольку именно в его пространстве двое людей могут удовлетворить свои терапевтические нужды. Терапия брака часто состоит в том, что его участники понимают собственные идентификации в браке и наблюдают взаимосвязь двух динамик в своих взаимоотношениях. Постепенно они учатся воспринимать то, что происходит между ними, как общее действо, так что можно проследить, как любой поступок одного супруга рождается в связи с каким-то поступком другого. По ходу терапии появляется возможность объяснять динамику кому-то одному так, что ее понимает и другой. Скрытые псевдотерапевтические усилия супругов должны приостановиться, терапия становится делом терапевта. Иногда мы достигаем этого, поддерживая агрессию супругов друг против друга, когда она возникает, а иногда прямо останавливаем терапевтическое действие одного партнера по отношению к другому, настаивая на том, что этим должен заниматься профессионал. Наш метод супружеской терапии таков, что в нем терапевт не остается наблюдателем супружеских схваток, а сам выходит на поле боя; супруги или взаимодействуют при помощи терапевта, или каждый обращается к терапевту. Мы просим их беречь свои фантазии, наблюдения или интерпретации поведения другого для встречи с терапевтом. Вразрез с обычной практикой, мы предупреждаем их, что домашние битвы или длинные объяснения дорого им обойдутся, поскольку тогда они просто напрасно потратят деньги, отданные за терапию.9 Мы намеренно стараемся разбить в человеке гордость и бред величия о камень его значимого другого. Мы сознательно подчеркиваем равную роль обоих партнеров в создании симптома и настаиваем на том, что и ненормальность, и силы супругов равны.
В терапии супружеского конфликта у терапевта есть своя определенная роль. Он во многом свободнее от проблем переноса, чем в индивидуальной терапии, и ему легче предлагать свои интерпретации. Большей частью он говорит про то, что происходит в настоящем времени, хотя может касаться и истории того поведения, которое проявляется сейчас, или интерпретировать сновидения таким же образом, как это бывает в индивидуальной терапии. Часто сновидения пары непохожи на сны индивидуального пациента, поскольку касаются взаимоотношений. Психотерапия пары в большей мере является экзистенциальным переживанием, чем индивидуальная терапия.
Резюме
Терапия супружеской пары или конфликта в браке требует своей системы диагностики. Ее использование противопоказано в тех случаях, когда терапевт не подготовлен к ней должным образом или когда у него нет возможности положиться на коллег, которые стали бы для него консультантами и помогли бы избежать опасности чрезмерного вовлечения в эмоционально перегруженную ситуацию. В настоящее время мы работаем с парой в глубинной и интенсивной терапии. Мы считаем, что такой подход эффективно лечит как индивидуальную патологию каждого, так и супружеский конфликт.10
Опасности “психотерапевтической
помощи” в ситуации
угрожающего развода
Написано совместно с Милтоном Миллером
Главная цель настоящей статьи — предостеречь психотерапевтов, показать, как индивидуальная терапия может повлиять на взаимоотношения их пациентов в браке. Любое терапевтическое вмешательство — индивидуальное, супружеское или семейное — должно глубоко влиять на всех остальных членов семейной системы. В качестве примера выбрана терапевтическая помощь в период потенциального развода, потому что многие люди именно в данный момент обращаются к психотерапевту, а в результате его вмешательства супружеские взаимоотношения могут развалиться окончательно.
Авторы считают, что ситуация на грани развода, хотя и чреватая многими опасностями, дает пациенту шанс роста, а супружеской паре — возможность как бы снова встретиться и достичь большей близости, чем до кризиса. Вмешиваясь в ситуацию, психотерапевт может закрыть эту возможность.
В статье ставятся многие вопросы, касающиеся развода и влияния психотерапевта, но мы не найдем набора правил для разрешения подобных ситуаций. Цель статьи — привлечь внимание клинициста к тому факту, что его действия влияют на всю семейную систему пациента. Тем не менее, авторы делятся своим опытом и показывают, что вовлечение всех людей, эмоционально связанных с данной ситуацией (детей и родителей пары, оказавшейся на грани развода), — одна из наиболее эффективных техник.
Много лет назад Гиппократ сказал: “Врач, не навреди!” Пытаясь помочь супружеской паре, в которой серьезно расстроены взаимоотношения, члены семьи, друзья и психотерапевты должны помнить эти слова. Брак — сложная вещь, как, впрочем, и развод. Каждый брак — отдельная живая система, один брак совершенно не похож на другой. В период кризиса простое решение, основанное на прошлом опыте, не так уж легко найти.
Прежде чем пара приходит к психотерапевту, большинство супругов уже много времени пытались сами решить свои проблемы: разговаривали с друзьями, со своим священником, иногда — с адвокатом. А затем один из них или оба обращаются к психотерапевту. Мы думаем, что в ситуации угрожающего развода обычный стиль ответа на обращение за помощью, свойственный большинству специалистов, может оказаться неадекватным, неэффективным или, что еще хуже, нередко приносит явный вред.
Хотя юристы признали, что “высокого интеллектуального уровня недостаточно для того, чтобы понять сущность брачного контракта”, смысл брака и факторов, способствующих его развитию или распаду, все еще малодоступен нашему пониманию. Многие “успешные браки” разрушаются, а другие браки, в которых идут непрерывные скандалы, надрывы, где все колеблется, где случаются физические драки, приступы ревности, взаимные обвинения и периодические обращения в суд, оказываются крепкими и здоровыми.
Главная тема любого брака — это “союз”, “вовлеченность”, “взаимосвязь”. Именно уменьшение степени вовлеченности приводит к провокативному поведению одного из супругов. Так, в холодном браке, температура которого постепенно снижается до точки замерзания, внезапно появляется нечто, вроде бы приводящее к разрыву, но, возможно, то же самое поведение является одновременно и попыткой “восстановить союз”, снова “вовлечься” во взаимоотношения, “восстановить связь”. Опасность развода — это одновременно и возможность оживить взаимоотношения, которые перестали развиваться. В любом случае, это поворотная точка. Итак, пара пришла к психотерапевту.
Провокация, в которую вместо супруга
вовлекается терапевт
Пример 1
Миссис В., не в себе от отчаяния, плачущая, думающая о самоубийстве, обратилась по совету своей подруги к психиатру. Миссис В. три недели живет отдельно от мужа, пришедшего в ярость по поводу ее измены, о которой она ему сама рассказала. Муж, с которым она прожила семь лет, достаточно критически настроенный, холодный мужчина, сам часто изменявший жене, был сильно сокрушен ее признанием и после недели разрывов и примирений избил ее, и она ушла.
Женщина была сильно расстроена, как и ее муж, уверенный, что та ушла к своему любовнику. Тем не менее, в глазах миссис В. этот любовник был “ни в чем не повинным случайным человеком”. Первые несколько встреч с терапевтом она пребывала в сильной депрессии и тревоге. То защищаясь, то мучаясь от стыда, она провозглашала, что любит своего мужа, а затем говорила, что тот с ней плохо обращался и что она будет с ним судиться.
Миссис В. была чувствительной и гордой женщиной, тридцатилетней дочерью холодных родителей. Она родилась, когда тем было уже довольно много лет. В браке они с мужем по очереди сердились, обижались или замыкались в себе. Им было трудно относиться друг ко другу с любовью. Каждый по очереди снижал температуру их отношений. Внешне она была любящей женой, но с оттенком мазохизма; он командовал и, похоже, чувствовал себя более неуверенно. Постепенно супруги стали совсем равнодушны и не подозревали, что так много значат друг для друга.
Терапевт встречался с миссис В. три-четыре раза в неделю на протяжении месяца и старался поддержать ее. Он хотел дать ей понять, что не будет участвовать за нее в принятии решений, эмпатически отражал ее чувства, показывал ей свое доверие, выражал веру в то, что она сама способна решить, что делать в этой ситуации. Он задавал ей вопросы о холодности ее взаимоотношений с мужем, убеждая пациентку, что не она одна виновна в возникновении проблем в ее браке.
Через четыре недели после первой встречи на терапию был приглашен муж. Но мужу казалось, что жена вместе с терапевтом составили заговор против него, и был этим напуган. Он накинулся на жену со всевозможными обвинениями, называл ее “холодной сукой”, предупреждал терапевта, чтобы тот остерегался ее хитрости, что сам был обманут, и так далее в том же духе. Муж устроил грязную сцену потому, что не мог перенести союза своей жены с терапевтом. Он чувствовал, что его пересилили, одолели, что ему угрожают обвинения и унижения.
Возможно, именно в результате такой встречи супруги развелись. Терапевт решил про себя: “Он хуже, чем я мог его себе представить со слов жены”. В течение нескольких недель после этой встречи у мужа бывали случайные любовницы, а у жены — любовники. Через три месяца они оба поняли, что от брака почти ничего не осталось и отношения уже невозможно наладить. Так окончательно распалась ослабевшая связь.
Для миссис В. встречи с терапевтом стали стержнем ее жизни. Она была благодарна ему за поддержку, оказанную ей в самый трудный момент жизни. А муж, с которым она через три месяца после начала терапии развелась, продолжал ненавидеть терапевта и называл его не иначе, как “любовник моей жены за тридцать долларов в час”. Она ценила тот факт, что терапевт не пытался влиять на ее решения. С нашей точки зрения, он влиял куда больше, чем та могла заметить.
Влияние диагноза: патология внутри
супруга и патология брака
Пример 2
Профессор Р., тридцатишестилетний преподаватель филологии, позвонил с просьбой о консультации у психотерапевта. На вопрос, по какому поводу он обращается, тот сказал, что очень расстроен, поскольку не может переспать со своей женой, с которой вступил в брак всего лишь три с половиной месяца тому назад. Его попросили прийти вместе со своей женой, но он не соглашался, говоря, что это давнишние проблемы, касающиеся только его самого, и он не хочет обсуждать их в присутствии молодой жены. Но терапевт был достаточно настойчив, так что супруги пришли на первую встречу вдвоем.
Муж оказался очень эксцентричным человеком. Он был тесно связан со своей матерью, увлекавшейся спиритуализмом и верившей в оккультные влияния. Она в течение многих лет выражала намерение уберечь своего сына от греха. Мать была против этого брака. Она вообще плохо относилась к чужим людям.
У мужа возникали временные гомосексуальные контакты, но совершать половой акт ему никогда не приходилось. Хотя он рассказывал будущей жене о своих гомосексуальных связях, это не повлияло на ее намерение выйти за него замуж. Она была его студенкой-старшекурсницей и несколько лет “любила его издали”. Тем не менее, ее очень расстраивало то, что муж неспособен с ней спать. Она говорила о своей любви к мужу, а он — о любви к ней. Она то обвиняла во всем себя, то злилась на него. Ей было тридцать три года, это — ее первый брак, хотя раньше у нее бывали любовные связи.
Психиатрическое исследование показало, что этот эксцентричный и творческий человек с признаками яркого нарциссизма страдал от сильного конфликта в сфере сексуальности. Он принес с собой тест Роршаха с заключением психиатра, обследовавшего его несколько лет тому назад. В заключении несколько туманно предполагалось, возможно, и не без оснований, что у пациента — психоз. За его явными проблемами стояло множество скрытых.
Жена казалась гораздо более стабильным человеком. Привлекательная, застенчивая, крайне приличная, очень женственная. Она была человеком, с которым легко сильно идентифицироваться в ситуации психотерапии. Вопреки тому, что муж представлял из себя огромные проблемы для психиатров, а жена являлась достаточно стабильной женщиной, терапевт предполагал, что они оба в равной мере ответственны за свои сексуальные проблемы в браке. Несмотря на попытки, сначала одной стороны, потом — другой, договориться о индивидуальной встрече с терапевтом, терапию проводили только с ними обоими вместе.
Примерно через шесть недель теплого отношения, поддержки и достаточно мягких интерпретаций их проблема была успешно разрешена. Они оба гордились тем, что вместе преодолели эту великую проблему без вовлечения третьей стороны в свой союз. Затем с этой парой работали еще примерно полгода. С тех пор прошло семь лет, и рождественские открытки, которые получают терапевты, и редкие письма от супругов свидетельствуют о том, что они счастливы вместе, их семья растет.
В данной ситуации терапевт стремился стать катализатором любви супругов и того желания преодолеть трудности, что присутствовало в их взаимоотношениях. Если бы одного из супругов квалифицировали как “ненормального” (и не без оснований), исход терапии, возможно, оказался бы не столь удачным. После такой терапии остается открытая возможность глубже заняться семейными проблемами, если это необходимо. Раскрытие психопатологии, исследование причин тревоги мужа, анализ его гомосексуального конфликта или исследование причины, по которой жена выбрала себе такого странного в сексуальном отношении супруга, — все это было бы невозможно в будущем, если бы сначала не удалась такая простая и прямая терапия брака.
В рассмотренном примере муж имел причины обратиться с психотерапевту. По всем стандартам ему была показана психиатрическая терапия. Но терапевт предпочел ни на шаг не уходить в сторону от проблем брака и при этом как можно меньше самому вовлекаться в их взаимоотношения. Терапевт ставил перед собою задачу изгнать свекровь из супружеской спальни, превратить бывшую студентку в жену, убедить мужа, что спать с женой — хорошо. Сам терапевт не собирался заходить в их спальню. Терапевт намеренно придавал огромное значение их браку, сознавая его хрупкость, но в то же время относясь к нему с безграничным уважением.
Нежеланного партнера возвращают родителям
или психотерапевту
Всегда хорошо знать, что твой партнер — человек, с которым ты прожил двадцать пять лет, — не будет убит разводом, что можно развестись со своими супругом или супругой и в то же время издали заботиться о нем или о ней. Для этого при разводе можно позаботиться о том, чтобы покинутому партнеру хватало денег, найти для него любящего человека. Еще один возможный ход — вернуть партнера его родителям; и четвертый способ — найти партнеру психотерапевта, который о нем позаботится.
Пример 3
Мистер Д., сорокачетырехлетний адвокат, объявил своей жене, что, хотя он и любит ее, но еще больше любит жену своего коллеги и будет добиваться развода. Их брак, продолжавшийся двадцать два года, был мирным и в каком-то смысле продуктивным и полноценным.
Муж преуспевал в своем деле. Его заметно напугало, когда старшая из двух дочерей покинула родительский дом, чтобы учиться в колледже, и через два года после этого он впервые изменил жене, предполагая, что та ничего о том не узнает. Это удивительным образом разогрело его взаимоотношения с женой, которые были слишком вежливыми и привычными, дало им новое вдохновение. Но оживление длилось недолго.
Миссис Д., социально активная женщина, была предана своей семье, но как бы всегда сохраняла некоторую дистанцию между собой и другими. Она очень расстроилась, услышав о решении мужа, и тот сразу отвез ее к психотерапевту, чтобы она не оставалась без поддержки в критический период. Психотерапевт несколько раз встретился с ней, а потом настоял на том, чтобы она пришла в следующий раз вместе с мужем. Мистер Д. выразил свои глубокие чувства по отношению к жене, свое желание, чтобы они в будущем оставались друзьями. Он поделился своей тревогой по поводу ее мыслей о самоубийстве, и с сильным чувством несколько раз повторил, что очень надеется на заботу психотерапевта о своей жене. В этот же вечер, как бы иллюстрируя слова мужа, миссис Д. совершила суицидальную попытку, приняв десять таблеток снотворного.
Терапевт был вынужден сдаться и взял заботу об этой женщине, которую поместили в больницу, на себя, а потом занимался с ней терапией. Он сопровождал ее во всех стадиях этого внезапного для нее краха, в ее ненависти, отчаянии и желании отомстить, в унижении при самой процедуре развода и еще в течение года после. Она чувствовала, что не смогла бы перенести потерю, если бы ее не поддерживал терапевт.
Через два года ее бывший муж, чья попытка жениться на жене своего коллеги провалилась, поскольку та помирилась со своим мужем, покончил с собой.
Использование телефона для связи
с отсутствующим партнером
Пример 4
Мистер К., симпатичный, обаятельный двадцативосьмилетний человек, женатый, безработный, трижды лежавший в больнице, единственный сын знаменитой семьи из Милуоки, внезапно среди ночи вернулся к своим родителям. Он приехал из Техасского университетского городка, где осталась его жена. Он казался дезориентированным, был сильно пьян и туманно говорил о том, что не может найти смысл жизни и что-то в этом роде. С точки зрения психиатрии, у него была психопатия, недостаточный контроль импульсов, серьезные конфликты в сфере сексуальности, алкоголизм и, что еще более тревожно, ярко выраженные параноидные тенденции. Попытки включиться в психотерапию, которые предпринимались и раньше, во время его госпитализаций, разваливались, как и многие другие планы этого человека.
Он был женат уже три года на своей однокурснице по колледжу. Его жена преподавала в техасской школе. Он бросил колледж пять лет назад и с тех пор эпизодически работал то тут, то там. Он говорил о своем браке что-то неопределенное, но очевидно, что перед отъездом к своим родителям жил вместе со своей женой. Почти без объяснения он вдруг собрался и уехал к своим родителям.
Размышляя о данной ситуации, психиатр подумал, что одним из немногих ресурсов для этого человека был его трехлетний брак с явно более стабильной и разумной женщиной. В первый же день терапевт попросил пациента связаться с женой по телефону. На следующий день терапевт, пациент и его жена втроем в течение десяти минут обсуждали дальнейшие планы, возможность продолжать терапию. Жена делилась своими мыслями о том, что послужило причиной настоящего кризиса и почему попытки начать терапию раньше кончались ничем.
Мистеру К. и прежде было свойственно в ситуации стресса предпринимать необдуманные шаги, подобные этому внезапному переезду от жены к родителям. Он нуждался в помощи. Ему надо было понять, что психиатры есть не только в Висконсине, но и в Техасе.
Дискуссия
Психиатр или терапевт сталкиваются со множеством сложных проблем, когда к ним обращается кто-то один из супругов. Как найти равновесие между желанием не вмешиваться в близость супругов между собой и, с другой стороны, профессиональной установкой, что каждый, обращающийся за помощью, должен найти ответ на свои проблемы? В результате этих конфликтующих между собой целей профессионалы ищут различные подходы и методы, которые бы позволили работать с одним из супругов, не разрушая взаимоотношений в браке. Много всего было опробовано, но пока еще не появилось готовой системы, которая эффективно решала бы эту дилемму.
Одностороннее терапевтическое вмешательство в браке — дело рискованное. Часто мы получаем неблагоприятные исходы подобной терапии. Можно привести множество примеров. Таковы случаи, когда вслед за разводом один супруг или оба получают очень продолжительную индивидуальную терапию; когда терапевт работает с одним из супругов индивидуально и тот действительно взрослеет и растет, но другой супруг не может двигаться к зрелости с такой же скоростью; бывают особенно неприятные случаи, когда у пациента совершенно мертвый брак и он вступает в продолжительный “профессиональный брак” с терапевтом, их отношения заходят в тупик, из которого трудно выбраться, поскольку окончание терапии угрожает стать окончанием обоих “браков”.
Разумеется, техники, используемые терапевтом, не так важны, как его установки и понимание своей роли, бессознательные фантазии о пациенте (или пациентах) и о возможном разводе. Когда терапевта приглашают быть посредником в ситуации потенциального развода, его чувства по отношению к самому себе, к своему браку и к браку своих родителей неизбежно играют важнейшую роль в том, как пойдет дальше терапия. Скорее всего, она пойдет тем же путем, каким идет жизнь терапевта: если он сам никогда не разводился, то сможет понаблюдать, как пара следует к своему разводу или своему воссоединению, находя ответы на вопрос, что может случиться в будущем с его собственным браком.
Довольно часто терапевт старается сохранить нейтральную позицию, говоря себе: “Я нейтрален. Я не встаю на чью-то сторону. Они сами должны решить вопрос о разводе. Я хочу, чтобы они пришли к тому, чего сами хотят”. Тем не менее, пациент или пациенты в трудной ситуации супружеского конфликта могут воспользоваться этой “нейтральностью” для своих проекций; им покажется, что терапевт поддерживает то, чего они сами хотят в своих фантазиях.
Пациент или пара придумывают себе позицию терапевта, воспринимают его согласно своей фантазии и действуют так, как если бы тот настаивал на каком-то решении, о чем сам терапевт может и не подозревать. Супругам может казаться, что терапевт явно одобряет решение о разводе и они должны развестись, поскольку он был хмур к концу второй встречи, или же полагают, что терапевт хочет, чтобы они остались вместе, поскольку улыбался, когда они рассказывали, как раньше им было вместе хорошо.
Позиция нейтралитета обеспечивает комфорт терапевта. Но, возможно, когда он принимает решение ни за что не отвечать, его позиция становится стратегически настолько слабой, что это может неблагоприятно повлиять на исход терапии. Это явление описать можно следующим образом: постепенное развитие управляемого переноса, обычное при индивидуальной терапии, не так легко происходит при терапии пары. В паре изначально существует взаимный перенос. Пока терапевт не заменяет одного из супругов, он посторонний в их браке и может либо служить катализатором их взаимоотношений, либо просто ничего для них не значить. Когда терапевт хочет серьезно поговорить с парой об их решении, о результате десяти или двадцати лет амбивалентности и борьбы, он сталкивается с непреодолимыми трудностями. Терапевт обычно понимает, что у него недостаточно силы, чтобы сдвинуть с места такую мощную команду.
Даже когда связь между супругами крепка и вопрос о разводе их не занимает, все равно терапевту обычно не удается работать с одним из супругов так, чтобы изменение распространилось на их брак. Когда же связь слаба и появляется угроза развода, тогда любое вмешательство при работе с одним из супругов легко может поломать их взаимоотношения. Односторонняя терапевтическая помощь в браке, когда один из супругов становится пациентом, а другого направляют куда-то еще или просто игнорируют, — это тактическая ошибка11.
Какова же альтернатива? Психиатр, как правило, идет навстречу тому, кто просит о помощи, слушает его и приглашает приходить еще. Что он должен делать, когда речь идет о браке? Обычно терапевт предполагает: в любой ситуации из открытого и честного ее обсуждения может родиться нечто ценное. Что делать, когда кто-то пытается договориться о разговоре по секрету от другого супруга? Что делать, когда ему говорят о том, что один из супругов эмоционально не в себе и нуждается в помощи?
Заключение
Вмешательство терапевта в ситуации потенциального развода не может быть рутинной процедурой. Каждый такой случай призывает терапевта рассматривать всю ситуацию с более широкой точки зрения. Понять то, что происходит между ним и пациентом, не всегда легко. Еще сложнее понять, как влияет его работа с пациентом на отсутствующего супруга. Любое движение терапевта, косвенно отрицающее значение брака, может очень сильно повлиять на пациента. Таким образом, стандартная для практиков процедура, когда профессионал работает с тем из супругов, кто обратился с просьбой о помощи, игнорируя другого, подталкивает пациента к разводу.
Работая с одним или с обоими супругами, брак которых оказался на грани развала, терапевт работает с системой в состоянии стресса. Как правило, будет лучше, если он с уважением отнесется к браку, пока не состоится официальный развод. Неважно, насколько этот брак переполнен проблемами, неважно, насколько он кажется мертвым: терапевту не стоит игнорировать его силу, не стоит отвергать возможность его воскресения или сомневаться в том, что сердце брака еще бьется. Если брак действительно обречен, пусть смерть засвидетельствует юрист.
Терапевт должен понимать, что, приглашая к себе только одного из супругов, он, возможно, закрывает дорогу к их примирению. Для многих, кто оказался на грани развода, терапевт превращается в заместителя брачного партнера, как бы сам терапевт ни старался этого избежать. Многие, очень многие браки проходят через периоды грубой жестокости одного из супругов, через периоды, когда партнеры живут по отдельности, через измены, жалобы в суд друг на друга, а также моменты, когда они всерьез думали развестись, — и такие трудные периоды заканчиваются более полным воссоединением. Так что терапевт должен помнить: возможно, он вмешивается в естественный процесс выздоровления. Терапевт, направляющий процесс терапии в сторону развода с первой или второй встречи, взваливает на себя слишком большую ответственность.
Развод неизбежно отзывается на жизни детей, а также родителей мужа и жены. Можно подумать о включении этих значимых других в терапию. На своем опыте мы могли убедиться, насколько это порой способствует успеху терапии. Большинство наших пациентов откликнулись на просьбу привести членов своей семьи, и мы ни разу об этом не пожалели. Данная техника часто является очень полезной, хотя мы и испытываем большие затруднения, пытаясь понять, почему же она так нам помогает. Неизвестно, помогает ли присутствие других разрешить паре свой основной конфликт или же оно влияет как символическое утверждение серьезности их брака. Приглашение значимых других совпадает с нашей рабочей философией: лучше переоценить брак, чем недооценить, особенно при первых встречах.
Необходимо напоминать себе следующее: терапевты не в праве замещать во взаимоотношениях отсутствующего супруга — ни на минуту, ни на месяц или полгода, ни на год и уж никак не на четыре года. Этому легче противостоять, когда сам терапевт доволен своим браком, радуется ему, по-настоящему эмоционально включен в отношения с партнером и может на него положиться. Такой человек с меньшей вероятностью будет ценить жизнь холостяка с ее одиночеством, отчаянием и однообразием. Статистические исследования показывают, что развод — не лучшая дорога к счастью (Srole, Langner, Opler, & Rennie, 1962), но терапевт нередко об этом забывает, когда встречается с обиженным (по мнению терапевта) супругом.
Опыт многих поколений говорит о том, что почти любая пара в определенный период может распасться, и это в огромной мере зависит от тех, кто в данный момент оказался рядом. Надеемся, что мы не будем этому способствовать.
Часть V
СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ
Именно в поздних работах Витакера, посвященных семейной терапии, соединяются в единое целое все его предыдущие концепции: личности, брака и семьи. Витакер пришел к семейной терапии, как и многие другие психотерапевты, по двум причинам: во-первых, семья так много значит в развитии человека; во-вторых, вследствие разочарования в результатах индивидуальной терапии. Витакер говорит в своей работе “Отыгрывание в поведении в семейной терапии”: “Семейная терапия представляет неимоверную трудность для терапевта, и одновременно это прекраснейшая возможность изучать человека и идти дорогою роста”.
В данной части книги читатель может наблюдать, как развивается отношение Витакера к семейной терапии: вначале он косвенно признает, что это одна из терапевтических техник, а к концу уже прямо утверждает, что семейная терапия — философская точка зрения. Витакер утверждает, что он не психиатр, занимающийся с семьями терапией, а семейный терапевт, независимо от того, с кем работает. Тексты, собранные в этой части книги, хотя и выросли из предыдущих, вытесняют и вбирают в себя прежние работы Витакера. Он не отворачивается от индивидуальной терапии, чтобы перейти к супружеской и семейной, скорее он плавно перемещается от одного к другому. И этот рост естественно продолжается, когда он все больше начинает включать в свою семейную терапию родственников семьи и ее значимых других.
Стиль семейной терапии Витакера назывался по-разному — терапия абсурда, экзистенциальная семейная терапия, экспериентальная семейная терапия и так далее. В последние годы Витакер называет ее символической терапией, основанной на личностном опыте (symbolic-experiential), и это несколько громоздкое название точно отражает сочетание “реальных” взаимоотношений терапевта с семьей и “нереальную”, подвластную переносу, сторону их встреч. Оба этих аспекта важны и могут вести к росту и изменению. Реальное и нереальное тесно переплелись в подходе Витакера, их нельзя рассматривать по отдельности. И то, и другое отразилось в глобальных вопросах терапии (мы собираемся предложить их вашему вниманию). Это — цели терапии; позиция и роль терапевта; процесс терапии; терапевтические техники.
Цели семейной терапии
Большинство семей приходят на терапию в тот момент, когда процессы роста и изменения наткнулись на непроходимые препятствия. Они без конца повторяют один и тот же сценарий поступков и чувств. И можно очень просто обозначить цель семейной терапии: надо остановить текущий сценарий и заставить семью строить новые формы отношений. В таком виде цель семейной терапии хотя и дает верную картину, но игнорирует многие ценности терапевтов и их представления о природе здоровья, о патологии и жизни семьи.
Согласно опросу семейных психотерапевтов, проведенному Группой развития психиатрии, можно выделить восемь целей, исключительно важных при терапии любой семьи: улучшение общения, усиление автономии и индивидуации, усиление эмпатии, установление более гибкого стиля руководства, усиление согласия о принятых ролях, уменьшение конфликтов, облегчение симптомов отдельных членов семьи, усиление их способности выполнять поставленную задачу1. Из этих восьми пунктов только два — усиление автономии и индивидуации и установление более гибкого стиля руководства — важны в семейной терапии Витакера. А два других пункта он относит к нежелательным последствиям: уменьшение конфликтов и усиление способности выполнять поставленную задачу.
Для него основная конечная цель семейной терапии — усиление чувства принадлежности к семье у ее членов и, одновременно, укрепление их свободы отделяться от семьи, усиление индивидуации. Он считает, что человек может быть самим собой лишь в той мере, в какой он принадлежит другим, и наоборот. Оба эти полюса меняются одновременно, или не меняются вообще. В главе, написанной Витакером и Кейтом в книге The Handbook of Family Therapy, упоминаются десять связанных целей семейной терапии2.
1. Усиление межличностного напряжения
2. Развитие семейного национализма
3. Расширение контактов семьи с родственниками
4. Расширение связей семьи с культурой и окружающими людьми
5. Установление границ семьи
6. Установление границ между разными поколениями
7. Семья учится играть
8. Развивается цикл: отделение-присоединение
9. Разрушается миф об индивидуальной личности
10. Каждый член семьи становится в большей мере самим собой
И еще одна важная, большей частью не замечаемая или не признаваемая цель — рост самого терапевта. Витакер настойчиво, вопреки мнению большинства терапевтов, эту цель утверждает и часто говорит о ней с пациентами. Витакер “использует” честность, разговоры о своих личных переживаниях не как технические хитрости, помогающие семье меняться, а просто потому, что нечестность, по его ощущению, ослабляет связь между пациентом-семьей и терапевтом.
Позиция и роль терапевта
Важно помнить, размышляя о роли терапевта в семейной терапии, что любимой моделью Витакера является ко-терапия. Терапевтическая команда функционирует как цельность, как образец брака, но в то же время разделяет и дифференцирует внутри себя свои задачи во время терапии с семьей. Важно также помнить, что роль терапевтической команды возникает в процессе терапии, подобно тому, как роль родителя возникает в ответ на рост ребенка.
Тем не менее, в картину такого процесса совершенно не вписывается терапевт, берущий на себя ответственность за жизнь семьи вне рамок терапевтической ситуации. Команда сопротивляется любым попыткам семьи навязать ей роль эксперта или волшебника. Терапевты не принимают решений за семью не потому, что хотят дать им опыт свободы, хотя сами могли бы решить лучше. Скорее их позиция опирается на то убеждение, что терапевт в принципе не может принять хорошее решение за семью. Кроме того, указания терапевта, даже когда он их дает, все равно не влияют на семью.
Прежде всего, терапевтическая команда и терапевты по отдельности являются примерами для семьи. Они показывают, как отделяться и присоединяться, как веселиться, драться, сходить с ума. Команда в целом — модель брака, а отдельный терапевт — модель для членов семьи. Терапевты не обучают, они редко интерпретируют или объясняют, но они являются активными участниками терапевтической надсистемы. Семейный терапевт похож на тренера семейной группы; он не является игроком.
Роль семейного терапевта в процессе терапии отчасти зависит от того, как воспринимает его семья, и от потенциальной власти, которую тот в результате получает. Терапевт, например, не может полагаться на перенос чувств из прежних значимых взаимоотношений для установления власти или для получения доступа к содержанию терапии. В отличие от индивидуальной терапии, здесь взаимоотношения между членами семьи более крепкие и значимые, чем отношения членов семьи к терапевту. Это дает семейному терапевту большую свободу быть подлинным, чем это возможно в рамках индивидуальной терапии, где слова и поступки терапевта сверхважны или искажены в восприятии пациента. И эта свобода рождается из бессилия, а не из могущества.
Процесс терапии
Семейная терапия одной семьи непохожа на терапию другой. Но есть и общие черты, позволяющие говорить о типичных стадиях терапии. На одинаковых этапах терапии почти с каждой семьей всплывают одни и те же темы, одни и те же проблемы. Витакер отмечает в процессе семейной терапии три главные стадии: ранняя или начальная, когда семья и терапевт определяют свое положение и кто за что отвечает в терапевтической системе; центральная стадия, когда семья работает над изменением своей системы; и заключительная, когда терапевт и семья разделяются, завершая терапевтический контакт.
Начальная стадия терапии включает в себя то, что Витакер часто называет битвой за структуру (борьба, в результате которой определяется тот, кто устанавливает правила процесса терапии). Нередко она начинается с первого телефонного звонка, предшествующего встрече с семьей, и продолжается некоторое время. Ее главной темой часто становится вопрос о том, кто должен прийти к терапевту. Витакер обычно требует присутствия всех членов семьи на каждой встрече. Обсуждая с семьей вопрос о том, кто должен прийти, Витакер косвенно выражает свое ощущение, что не так важен сам факт присутствия, как то, что терапевт ясно обозначает свое право решать данный вопрос.
Кроме решения организационных вопросов (кто, когда, где, как долго и т.д.), терапевт должен утвердить свое право контролировать ход встречи. С точки зрения Витакера, начальная стадия терапии представляет собой процесс политики и манипуляции, где терапевт должен определить свою силовую позицию, иначе эффективность его помощи оказывается под вопросом. Терапевту нужна свобода присоединяться к семье и отделяться от нее, вступать в жизнь семьи тогда, когда он этого захочет.
Вторую часть начальной стадии Витакер называет битвой за инициативу. Битва за структуру определяет целостность терапевта, а битва за инициативу — целостность семьи. Проще говоря, семья берет в свои руки ответственность за свою жизнь и свои решения. Также в ходе терапии семья определяет темы разговоров и отвечает за инициативу в изменении семейной системы.
Модель терапии — развитие отношений родителя и ребенка. Сначала это отношения с младенцем, когда родитель полностью ответственен за все решения, потом — отношения с подростком, похожие на центральную стадию процесса терапии, и наконец — отношения взрослого со взрослым, где устанавливается равенство, характерное для заключительной стадии удачно проведенной терапии.
Именно на центральной стадии терапии происходят стойкие изменения в семейной структуре. За всеми действиями терапевта на данной стадии стоит намерение катализировать изменение. В процессе семейной терапии вопрос о том, в каком направлении будет развиваться семья, для терапевта не так важен, как вопрос: достаточно ли расшатана семейная структура для того, чтобы могли произойти изменения? Витакер утверждает: “Если вам удастся достичь такого напряжения, что члены семьи не смогут больше радоваться течению своей жизни, они изобретут новые, лучшие способы жить, приносящие больше радости”.
По мере продолжения центральной стадии вмешательство терапевта все менее и менее необходимо. Постепенно наступает время, когда семья сама начинает работать со своими проблемами. Когда терапевт больше не требуется в качестве катализатора изменения, процесс терапии можно закончить.
Заключительная стадия семейной терапии чаще происходит по инициативе членов семьи, чем по инициативе терапевта. У Витакера нередко пациенты начинают исчезать по мере того, как уменьшается для них ценность терапии. Каждый намек семьи на то, что пора закончить встречи, приветствуется и поддерживается.
Техники семейной терапии
Витакер всегда относился к техникам в психотерапии подозрительно. Отчасти такое отношение можно объяснить его ощущением, что техника — это еще не все: цель техники — выйти за пределы техники. Он также опасается, что употребление техник мешает терапевту творить новое и расти. Повторяющееся использование техник в семейной терапии может передавать семье веру в правила, в волшебные рецепты и в постоянство жизни, а все это гибель для здоровой семьи, с точки зрения Витакера.
Настойчивые предупреждения Витакера об опасности техник и теории могут создать впечатление, что для него главная опорная точка в психотерапии — это интуиция. Но, внимательно прочитав его статьи, можно заметить, что и к интуиции он относится тоже подозрительно. Витакер не утверждает, что в интуиции заключена тайна психотерапии. И отказ от техник — тоже не решение проблемы. Решения просто нет.
Размышления о техниках Витакера напоминают учение дзэн-буддизма. Подобно учителям дзэн, Витакер предлагает терапевту не разгадку, а непосильную задачу. И теория, и техники, и интуиция — все они мешают в терапевтической работе. И всех трех невозможно избежать при работе с пациентами, но их предлагают семье, не выдавая за то, чем они не являются, и всегда в атмосфере здорового абсурда.
В последних работах Витакер предлагает читателю большой список техник, которые он считает полезными в своей практике. То, что он называет техниками, скорее является общими стратегиями, полезными при работе с семьями. Например, в качестве техник он описывает усиление отчаяния или отношение к детям как к детям, а не как к ровесникам. Искусство семейной терапии состоит в том, чтобы в ходе терапии перевести эти установки и стратегии во взаимоотношения. Витакер пишет: “Важнее голых техник — метатехники: подходящее время, расстановка акцентов, выбор момента, как и когда надавить, когда отступить, когда быть осторожным”.
Можно заключить, что подход Витакера к семейной терапии вбирает в себя и продолжает его предыдущую работу с индивидуальными пациентами и с парами. Он утверждает значение личности терапевта и его роста; фоном его работы продолжает оставаться доверие к телу и к бессознательному. Его терапевтическая роль, тем не менее, поменялась: от роли мамаши, пребывающей в первичном процессе вместе с шизофрениками, как это он делал в пятидесятые годы, Витакер перешел к роли дедушки для семей, с которыми он работает сегодня. Как любой дедушка, он лишь на время берет на себя родительские обязанности, в любой момент оставляя себе возможность возвратить “детей” их настоящим родителям. Дедушка может любить своих детей и внуков, но в то же время не является стержнем семьи.
Цели семейной терапии
Мы включили в сборник эту маленькую статью из-за того, что в ней прослеживается связь между индивидуальной и семейной формами терапии Витакера. Она сложна и полна парадоксов. Как мы не раз упоминали, с точки зрения Витакера, сущность жизни противоречива и двойственна. Он говорит об этих противоречиях, оставляя читателя наедине с загадками.
Одна из целей семейной терапии, часто незаметная или являющаяся на свет по ходу дела, — рост членов семьи. Возникает вопрос: “Как люди растут и исцеляются в группе?” Может быть, люди выносят из терапии понимание того, что невозможно не быть одинокими. Именно семья создает мощный бред единства, симбиотического существования, но и открытие того факта, что никто, кроме тебя, не живет в твоей шкуре, что ты по-настоящему одинок и не можешь не быть одиноким, также происходит в недрах семьи. А еще в семье, используя опыт подлинной семейной терапии, можно научиться быть наедине с самим собой или наедине с одиноким другим.
Идея о том, что можно быть наедине с самим собой или в одиночестве с другим — а это ничто иное, как старинное определение дружбы (друг — это тот, с кем можно быть в одиночестве), — развивает мысли из одной статьи Эдвина Ленда. Он пишет, что проблемы жизни человека связаны с его раздвоенностью, с тем, что человек представляет собой как бы две разные личности. Когда мы погружены в один общий процесс с другими, когда мы чем-то похожи друг на друга или делаем общее дело — как квартет психиатров или девять игроков бейсбольной команды, — мы находимся в состоянии “личности для других”. Тогда происходит взаимодействие похожих частей личности. Игроки бейсбольной команды взаимодействуют той частью, что играет в бейсбол, с аналогичной частью других игроков. Два терапевта, работающие с одним пациентом, становятся аналогичным единством. Пациент понимает, что имеет дело с кем-то очень цельным, а не просто с двумя людьми. Так и группа становится группой, а не просто восемью участниками плюс терапевт. И есть другое состояние — одинокая личность, где все ее части соединены между собой. Я, мое, меня — все вместе и в то же время одиночестве. Далее он пишет, что в жизни возникает проблема при переходе из одного состояния к другому, у многих людей это не получается. У каждого из нас имеется большая склонность к тому или другому. Психопат, например, “личность для других”, а шизоид — одинокая личность, и все мы помещаемся где-то между этими двумя крайностями.
Семейная терапия — место, где можно научиться в большей мере быть с другими, и в то же время — научиться пребывать наедине с собою. В семье есть биологическая тяга к единству, поэтому именно здесь мы вступаем в особенно сильные взаимоотношения друг с другом. С другой стороны, когда мы научимся быть в одиночестве, именно семья становится тем убежищем, где нас любят и где мы можем быть в большей мере наедине с самими собой, не боясь отдалиться от других.
Поняв, что одиночество неизбежно и что можно быть одиноким с другими, ты учишься взаимному одиночеству, которое ведет ко все большей близости. И так становишься все в большей и большей мере самим собой.
Техника семейной терапии
Эта глава посвящена размышлениям о стиле семейной терапии Натана Аккермана. Обсуждая его работу, Витакер описывает многие свои техники и подходы, которые, по его мнению, важны для любого семейного терапевта. Он делает акцент на умении терапевта использовать власть, вовлечь отца, на способности терпеть неопределенность, избегать открытой борьбы за власть, отделяться от семьи и ценить свое безумие. Очевидно, что все эти черты свойственны как Витакеру, так и Аккерману.
Это редкая возможность увидеть, как один мастер психотерапевтического ремесла комментирует работу другого мастера. Действительно, часто человек раскрывается больше, когда обсуждает кого-то еще, чем когда говорит о себе. Отчасти Витакер использует Аккермана в качестве пустого экрана, куда проецирует все то, что сам считает наиболее ценным в своей работе.
Я рад случаю поговорить о семейной терапии. Мне кажется, что каждый раз, поговорив о ней, я немного меняюсь. Сначала, в качестве введения, я скажу, что знание — важная вещь, но иногда незнание — вещь еще более важная. Два-три года назад в Техасе у меня произошла незабываемая встреча. Меня пригласили на интервью с семьей, которая, как оказалось, состояла из пациентки, ее парня и сестры парня. У меня сложилось ощущение, что меня “бросили” в странное место, где нет ни друзей, ни настоящего тепла, только одна разрушенная семья. Я минут десять терпел, а потом решил: “Черт побери, я увяз. Все провалилось, и раз сейчас ничего не получается, может быть, получится в следующий раз”. Что интересно: когда я признал свое поражение, я стал более живым, и вдруг наш разговор стал настоящим, человеческим, волнующим. И с тех пор я знаю: стоит мне признать свое поражение, оно становится новым началом, рождает новое чувство сопринадлежности, появляется новый вход в ситуацию. Такова ценность незнания.
И я очень тронут возможностью выступать на лекции, посвященной Аккерману. Я размышлял, почему выбрали именно меня: потому что я не посвященный психоаналитик, а простой мирянин-психотерапевт, из-за того, что я загораюсь при виде детей, потому, что в моем преклонном возрасте я такой же старикашка, как Натан, оттого, что я ближе к смерти? Не знаю. На самом деле мое знакомство с ним было лишь профессиональным. Такое множество людей — его дети и внуки в семейной терапии — знают его ближе, гораздо лучше, чем я. Потому я смиренно скажу кое-что о Натане и о его потрясающей работе. В области семейной терапии он — наш главный прародитель или дедушка. Когда я изучал латынь, на экзамене меня спросили о Вергилии. Я сказал, что он отец всех римских поэтов. Мой ответ тогда восхитил преподавателя. Я могу сказать подобное и о Натане. Может быть, этим я могу также воздать дань моему еврейскому внутреннему “Я”. Лет шесть или восемь тому назад я открыл, что я — бывший еврей. Мое воспитание в ревностной методистской семье основывалось на Ветхом Завете. Все мои детские сказки, кровавые приключенческие истории и половое воспитание происходят только оттуда. Я был добропорядочным евреем до тринадцати лет, до того дня, когда кто-то сказал мне: “Это не твоя вера, приятель, ты не еврей. Ты для них чужой и принадлежишь Новому Завету”. Так я был исключен из семьи еврейского народа, и все еще грущу на эту тему. Может быть, у меня появился новый шанс стать одним из них — стать одним из детей Натана.
Я скажу про особенности этого особенного человека. Просто перечислю то, что пришло мне в голову. Он был мастер подходить к людям с самых разных сторон. Неким странным образом он один был группой. На одну минуту он становится дедушкой, потом бабушкой, влюбленным мальчиком, мужем, кокетничающим любовником; он так быстро переключался с одной роли на другую, что у меня кружилась голова, когда я смотрел на его работу. Я никогда не знал, был ли он хорош в роли гомосексуального любовника, и тем лучше для меня: я никогда не ходил на любовные свидания с ним, так что не видел его в этой роли. Но эта сторона тоже кажется мне очень важной. Один из моих учеников сформулировал существенное правило терапии: “Если при первой встрече тебе не удалось соблазнить отца, дело плохо”. Есть и другое правило, оно утверждает: семейная терапия похожа на игру в шахматы, лучше не трогать королеву, пока не наступит средняя стадия игры. Часто бывает так, что приходит ко мне какой-нибудь стажер и говорит: “Кажется, я потерял эту семью”. Я спрашиваю, что он сделал с матерью, и он отвечает: “У нас был жаркий бой”. “Очень плохо, — комментирую я, — тебе надо поговорить об этом с твоим психоаналитиком”.
Натан умел по-своему проникать в семью, про себя я называю это партизанской атакой. Он тихо залезал в семью с помощью тысячи разнообразных приемов, обходными путями, делая это так бесшумно, что оказывался внутри семьи, как человек, принадлежащий этой семье больше, чем сами ее члены. Потому что нередко члены семьи не чувствуют, что принадлежат друг другу. Недавно у меня была семья, в которой старший сын приехал с Западного Побережья специально для того, чтобы наладить жизнь матери. Отец умер, и мать запила. Где-то на одной из первых встреч я спросил его, взрослого мужчину, женатого и с детьми, который много лет живет довольно далеко от своих родичей, насколько он принадлежит семье. Он сказал, что не принадлежит вообще, хотя и приехал к родным на несколько месяцев, бросив свою работу. Я тогда спросил его, как давно у него появилось такое ощущение. Он ответил, что никогда в жизни и не чувствовал себя иначе. Тогда я стал задавать тот же вопрос по очереди всем остальным присутствующим, и среди них не было ни одного, кто бы сказал, что ощущает свою принадлежность к семье. И я думаю, что Нат прекрасно знал один секрет: он понимал, что семья есть единое целое, со своим чувством единства, что это самое главное, о чем надо помнить при общении с семьей, особенно при самой первой встрече.3 Если вы не видите их единства, то и они, жившие много лет вместе и не чувствующие себя членами семьи, тоже могут этого для себя не открыть. Они будут жить как если бы оказались рядом по чистой случайности.
Нат умел использовать власть. И делал это так естественно, власти ему хватало, для него не было проблем. Но я хочу сказать всем вам, что это очень важная часть семейной терапии, поскольку семейная терапия, в отличие от терапии индивидуальной, во многом является процессом политики. Это противное слово для современного человека, я прошу прощения, но не могу подобрать другого. Надо научиться понимать, какой властью обладает семья, и если вы не сможете взять над нею верх, вряд ли поможете им чем-нибудь. Давайте это себе вместе представим. Пять-шесть человек живут вместе — в радостях и невзгодах, а невзгод в семье всегда хватает: разводы, смерть, борьба с соседями или атаки со стороны авторитетов общества, бедность или богатство, которое порой хуже бедности, — что ни вообрази себе, они через это прошли. И тут приходит некий тип, который полагает, что с помощью нескольких слов он переменит всю их жизнь. Это просто чушь. Кто-то пришел и всех победил — чушь. Если не верите, поговорите с тренером спортивной команды, легко ли ее держать, чтобы она работала слаженно, или легко ли ее принять после предыдущего тренера. Это огромный труд, это политический процесс в группе, и берясь за такое дело, надо сперва понимать, как важно держать власть, надо знать ходы политики группы.
Есть множество способов. Один из самых важных и самых простых — сделать что-нибудь в начале терапии, чтобы ясно обозначить: правила устанавливаете вы, а не они4. Приходит вся семья, кроме отца. Вы требуете с них оплаты за это время, отказываетесь работать с ними и отсылаете их. Они возмущены и отказываются прийти в другой раз. Вы их теряете. Убеждаетесь в том, какую важную роль играет отец. Это на самом деле очень сложно. Правильно Маргарет Мид назвала отца социальной случайностью: он “случился” рядом. Но в структуре семьи отец — чрезвычайно важная фигура. Если вы теряете его, то скорее всего потеряете и семью. Вот почему терапевту нужно быть в каком-то смысле гомосексуальным или, лучше сказать, гомосоциальным. Если вы смогли стать кем-то значимым с первой встречи, тогда начало положено. Так и Бобби Фишер готовился к своему матчу в Исландии. Вам нужно что-то в том же духе, быть может, не обязательно быть столь же хитрым и создавать напряжение вокруг себя, но что-то такое нужно, и Нат был мастером в этой игре.
Есть еще один очень важный компонент семейной терапии. Здесь я развиваю замечание Хейли о том, что опытный терапевт пользуется косвенным общением. А это, в свою очередь, экстраполяция замечания Эсселина о том, что театр абсурда воздействует на зрителя косвенно, именно скрытые сообщения задают тон, а то, что на поверхности — просто знакомые вещи и ничего больше. Когда я изучал химию, начальные лекции нам читал один старый профессор, великий ученый. Он переходил от неорганической химии к началам органики. Я сидел с открытым ртом и просто восхищался. Так продолжалось шесть недель веселой жизни, а потом был экзамен, и я получил плохую отметку. Тогда-то я понял, что просто сидеть и слушать — недостаточно, надо было изучать предмет. Я думаю, что часто нам кажется: достаточно немного прямой информации, и произойдет изменение. Хочу вас заранее предупредить: все, что вы можете сказать своим пациентам, они слышали уже раз тридцать. Вы не скажете ничего нового за исключением одного — того, что вызовет у них замешательство. То, что приводит в замешательство, может оказаться полезным. Нат был мастером этого жанра. Когда я сбиваю с толку семью, я часто даю людям почувствовать: ради этого они сюда и пришли, я никуда не собираюсь их вести, я хочу только создать замешательство, чтобы они не могли больше жить, как прежде. Однажды в Атланте нас пригласили в центр реабилитации для алкоголиков, где работала группа непрофессионалов. Они рассказывали нам, что делают, а они неплохо работали уже несколько лет. В конце мы услышали такую фразу: “Мы просто пытаемся так все закрутить, чтобы они уже не могли получать кайф от своей выпивки”. И мне кажется, что подобная вещь очень важна в семейной терапии. Если вы можете все так смешать в них, чтобы они уже не могли довольствоваться старым положением вещей, тогда они сами найдут лучшие и более конструктивные пути жизни, приносящие удовлетворение5. Можно посмотреть на действие, сознательно вызывающее замешательство, еще вот с какой точки зрения. Я называю это “вынужденным переносом”. Любопытные вещи происходят, когда при первой встрече вы говорите семье: “Добрый день, кажется, собрались не все, кого-то не хватает, позвоните ему, пожалуйста, чтобы он пришел”. Они не могут дозвониться, и тогда вы говорите: “Что ж, вам придется оплатить эту встречу, а когда вы сможете собраться все вместе, позвоните мне, и мы назначим время”. Дальше происходит примерно следующее.
— Как, вы не собираетесь даже поговорить с нами?
— Нет.
— Но почему?
— Потому что нет семьи.
— Мы все здесь, кроме Джо.
— Прошу прощенья, но без Джо это не семья.
— Но почему вы не хотите поговорить со всеми остальными? Объясните.
— Это будет неправильно.
— Ладно, давайте договоримся на следующий четверг.
— Мне кажется, что нам пока рано договариваться.
— Почему?
— Я не уверен, что ваша семья придет, раз вы не смогли собраться сегодня.
— Да мы приведем его в следующий раз.
— Почему бы вам сначала не обсудить это с ним и не перезвонить мне?
Такое начало удивительным образом показывает, что у вас настоящий, связывающий обе стороны контракт, и в то же время дает им понять, сколь важен тот, кто с ними не пришел. Такой “вынужденный перенос” — тут я на минутку превращусь в христианина — называют в христианском мире Святым Духом. Это ощущение цельности. Чувство, что мы — едины.
Давным-давно Барбара Бетс сказала одну вещь, очень важную, на мой взгляд, и сегодня. Динамика терапии находится в личности терапевта — не в техниках, не в процессе, не в понимании. Я думаю, к Нату очень подходят эти слова. В этом человеке была настоящая мощь, цельность, желание встречаться с замешательством в самом себе и принимать его, пребывая в состоянии неуверенности. В себе я ценю одно качество: крайне подозрительное отношение к собственной личности. Я почти ни во что не верю. Я все время перекраиваю свои теории, каждый раз думая, что наконец-то создал то, что нужно. Когда в 1941 году я изучал детскую психиатрию и уже получил разрешение вести частную практику, одной из первых моих пациенток была трехлетняя девочка. Это было нечто. Стоя в дверях, я здоровался с ее мамой, чуть ли не презирая ее внутренне. Я брал девочку, мы с ней развлекались, а в конце часа я снова отводил ее к маме. Так прошло встреч десять, и тут позвонил ее отец, с которым до того я ни разу не общался. Я еще не знал, брать ли с него 3 доллара за интервью. Он сказал: “Знаете, это просто потрясающе. Моя дочка сильно изменилась, да и моя жена тоже. Я даже и сам стал другим!” Я подумал, что разгадал загадку жизни. Но с тех пор подобные вещи никогда не повторялись. Так что я подозрительно отношусь к собственным теориям.
У Ната была сердечная теплота, которая передавалась семьям, давала людям свободу любить. Чертовски сложная штука. На своем пути я собираю жемчужины, одна из них — маленький ребенок. Можно посадить к себе на колени трехлетнего ребенка, можно поиграть в борьбу с пятилетним, можно вести сексуальные разговоры с девятилетним, можно все, чего вы не можете сделать с родителями; и вы как будто бы ласкаете папу или маму или говорите, обращаясь непосредственно к ним. Вы спрашиваете девочку девяти лет: “Слушай-ка, ты никогда не задумывалась, почему мама так сердится на папу, когда он задерживается на пару часов на работе? Может, мама боится, что он там играет со своей секретаршей после работы?” Девочка говорит: “Что? Папа играет?” “Не знаю, просто такая дикая мысль пришла мне в голову... А как дела у тебя в школе?” — “В школе? Нормально”. Косвенным образом вы поговорили с мамой и папой, и они не могут с вами спорить и не могут не услышать всего этого, так что на следующих двух встречах происходят всякие интересные вещи, например, они больше не появляются у вас. И не стоит ждать, что они придут позже. Оставьте эту проблему им. Может быть, самая важная терапия есть та, которой вы с ними не занимались. У нас недавно была семья из деревни. Отец боялся, что их дочь-тинейджер вот-вот совсем “станет преступницей”. Возможно, он боялся, что дочь будет развлекаться с кем-то без него. Ко второй встрече пассивность мамы по отношению к папиной панике и враждебность дочери по отношению к его ревности произвели маленький взрыв. На следующей встрече папа сказал: “А нельзя ли нам начинать пораньше, а то я теряю свое рабочее время?” Я спросил его тогда, что заставило его прийти вообще. “Я сомневался, идти или не идти, вся эта процедура как будто бы ни хрена не помогает”, — ответил папа. Я спросил: “Так почему бы вам не уйти сейчас? Зачем терять время?” Он сказал: “Нет, я побуду тут”. — “Вы знаете, это вовсе не обязательно. А заплатить за встречу придется в любом случае”. Он возразил, что все равно уже пришел, поэтому может и остаться. Я повернулся к маме: “А что вы скажете, если мы на этом кончим?” “Да мы ведь только начали”, — ответила она. Я сказал, что у папы много работы. Она заявила, что вообще-то не собирается все это терпеть. “А что ты думаешь?” — спросил я у дочери. “А я с самого начала не слишком горела желанием сюда ходить”. — “А сейчас ты хочешь остаться до конца нашего сеанса?” — “Разумеется, хочу остаться, если это последняя встреча”. Так терапия кончилась, они сами закончили ее, поскольку она не помогала. И, по моему мнению, самым важным, что я сделал за эти три встречи, было то, что я отпустил их. Позволил им принять факт неудачи и взять на себя ответственность за собственную жизнь. Семья как бы решила, что им не нужен терапевт, что они сами будут строить свою жизнь, и, возможно, это гораздо важнее, чем тысячи инсайтов, чем обучение общению и так далее. Так что я подозрительно отношусь даже к своим терапевтическим способностям.
А еще Нат был мастером в использовании силы парадокса. Это сила диалектики, благодаря ей тебя невозможно припереть к стенке так, чтобы у семьи оставался лишь выбор или согласиться с твоими словами, или сражаться с тобой. Если удается оставить свои высказывания как бы висеть в воздухе, тогда это уже становится их делом: выкинуть все из своей головы или оставить там свободно болтаться. В таком случае ты не предлагаешь им покупать какие-то свои убеждения. И постепенно семья берет инициативу за процесс своей жизни в свои руки. Очень важная вещь. Думаю, это происходило у Ната потому, что он перерос вуайеристские игры психиатрии и у него не было желания совать свой любопытный нос на семейную кухню. Он хотел, чтобы все развивалось, менялось или оставалось таким, как есть, — само по себе. Для меня это так же. Хорошо, когда семья сама управляет своей жизнью и делает, что хочет. Когда мама хочет быть лесбиянкой, папа — гомосексуалистом, а дети хотят расслабиться и отключиться, они имеют на это право. Правда, у меня есть возражения против самоубийства, поскольку, по моему мнению, самоубийство дает возможность скрытому убийце в семье выполнить свое дело, а это не слишком мне нравится. Почти постоянно на первой встрече женщины задают один и тот же вопрос: “Как вы считаете, разводиться мне с ним или нет?” И у меня есть готовый ответ (готовые ответы вообще являются проблемой людей пожилого возраста). Я говорю: “Вот что я скажу, я женат тридцать шесть лет и десять месяцев. Я решил, что останусь с женой. А как вы хотите поступить с вашим супругом?”
Одной из тактик Ната был процесс вхождения в семью, о чем я уже говорил. И есть еще один компонент того, что я называю хорошей семейной терапией, о котором мы с Пегги Пэпп говорили вчера: как выйти из семьи. Джон Розен умел это делать в совершенстве. Вспоминаю, как Джон однажды разговаривал с шизофреничкой. Он говорил о том, что мать кормила ее отравленным молоком, а он будет кормить ее своим молоком, чистым, как золото, и будет принадлежать ей на веки вечные, всегда будет рядом с ней. Все это говорилось с подлинной нежностью, и тут Джон внезапно обратился к рядом стоящему человеку и произнес: “Ну что, Джо, пойдем сыграем в гольф”. Повернулся и ушел. Первый раз, увидев это, я хотел набить ему морду, думая, что нельзя так обращаться с бедной больной женщиной. С годами я стал понимать всю важность этого трюка, потому что войти и превратиться в еврейскую маму, символически привязанную к семье или пациенту, не так уж сложно. Конечно, войти важно, но если ты не знаешь, как выйти, ты превращаешься в одну из бывших мамаш пациента и не способен ему помочь. Так что очень важно научиться выходить, и мне лично помогает ощущение абсурда моего собственного бытия. Недавно во время скучного разговора с пациентами, когда я пытался подумать о чем-нибудь интересном, я представил себе, что Бог становится слишком старым и хочет устраниться от дел. И если Он попросит меня занять Его место, я придумаю некоторые любопытные проекты: каждые десять лет человек будет менять свой пол. Мужчина станет рожать первого ребенка. Для перемены пола у нас будет мужской член, который можно снимать и надевать. Я много лет мечтал побыть женщиной, и ни разу у меня это не получалось. А тогда я бы смог совершить такой обряд инициации.
Каждый в семье по-своему стремится к индивидуации, к тому, чтобы принадлежать семье, но не быть запертым внутри нее, чтобы отделяться, но не быть посторонним. Так и терапевт должен находиться вместе с другими, любить, страдать от чужой боли, плакать. И в то же время должен уметь в любой момент отделиться. Должен понимать, что между его жизнью и жизнью пациентов пролегает непроходимая граница, это отдельные миры. Он должен уметь входить в семью и выходить из нее, а это с каждой новой встречей становится все сложнее и сложнее, поскольку терапевт становится все ранимее. И здесь его поджидает ловушка. На первой или второй встрече вполне можно оставаться просто техником. Но к третьей, четвертой или пятой ты превращаешься в человека, и надо быть осторожным, поскольку ты не защищен, они побеждают тебя, их больше, они лучше вооружены. Для меня это означает, что надо быть вместе с ко-терапевтом.
Я мало что знаю о Нате как о человеке. Я не был с ним близок. Но предполагаю, что он был полон радости. Сохрани меня Бог от невеселого семейного терапевта, я не смогу относиться к нему столь же серьезно, сколь он относится к себе. Гарольд Сирлс известен многими работами по шизофрении, одно из его высказываний гласит: если шизофреник сможет смеяться над собой, он на пути к исцелению. Я думаю, то же самое можно сказать и про семью. Если семья научилась смеяться над собой, она уже забралась на вершину и дальше продолжает двигаться по инерции. Радость Ната свидетельствовала о его цельности. Я опять обращусь к своему христианскому воспитанию. Я вообще планирую читать лекции о шизофрении и о Христе — с изучением многочисленных случаев. Исаак Зингер писал, что в истории еврейского народа было около трехсот Христов. Христос говорил, что можно достичь Царствия Божия, только став маленьким ребенком, что оно живет внутри нас, в нашем собственном бессознательном.
Как научиться быть ребенком и как научить семью стать детьми? Это дух игры, свободная возможность быть смешным и безответственным. Недавно мы работали с одной парой абсолютно безумных супругов — что-то вроде шизофреногенной семьи. Их дочка год путешествовала по Африке, вернулась, семья была ей не нужна, она уехала учиться в колледже, так что мы работали только с родителями. Несколько недель тому назад они пришли, и мать заявила, что ей не о чем говорить. Я предложил пойти и выпить пива, мой коллега поддержал меня: “Чудесная мысль, пойдемте”. И мы вышли из нашего офиса, спустились на три-четыре этажа ниже, и папа, врач, страдающий от чрезмерного чувства ответственности, сказал: “А как же наша терапия?” “Мама, стукните его скорее, а то он опять скажет что-нибудь в том же духе”, — ответил я. Мы посидели за пивом с гамбургерами. Наверное, это была самая прекрасная терапевтическая встреча за последнее время. На обратном пути папа сказал: “Итак, до следующего четверга”. “Если вы этого так хотите”, — ответил я. Он спросил, будем ли мы еще встречаться. “Если вы убеждены, что это необходимо, то конечно. Но у нас была такая прекрасная прощальная встреча, что будет жалко ее портить”, — заключил я. С тех пор прошло три недели, и они не появились. Конечно, мысль, что они могут без меня обойтись, расстраивает; но многим это удавалось. Своего рода игра, радость, глупость.
Ко мне пришла одна семья с жалобами, что у дочери “слабые границы Эго”. Я нарисовал большой знак “Х” на листке бумаги и собрался делать на нем заметки, а потом отдать дочери в случае, если ей потребуются границы Эго — способ отойти в сторону, отсоединиться и показать семье, как происходит индивидуация. Приведу фрагмент из знаменитой книги: “Куда ты идешь?” — “Туда”. “Что ты делал?” — “Ничего”. Так ребенок отвечает своим родителям, чтобы те отстали, и делает это в изысканном стиле типа “двойной связи”. На это трудно что-нибудь ответить. Терапевт должен овладеть подобным стилем общения.
Еще один шаг в этом направлении, другой способ найти Царство Небесное — быть безумным. Около тридцати-сорока лет назад живопись стала безумной. Затем, через пять-десять лет, стали безумными драма и литература, а потом постепенно и музыка. Наука тоже приняла в себя известную дозу безумия, но с трудом ее переваривает. Сейчас мы живем в такое время, когда допускает безумие культура. Легче стало выходить за рамки одномерной, сумасшедшей, организованной и структурированной жизни, основанной на законах рациональности и разума, и быть по-настоящему безумным. Так что я призываю вас научиться сходить с ума, искать в себе сумасшедшие импульсы, разворачивать их, делиться своей иррациональностью с семьей, и, видит Бог, семья от этого не развалится.
Если есть какой-то один общий закон для любой семьи, так это закон гомеостаза, такого сильного, что трудно себе представить. Я торжественно провозглашаю: вы не сможете навредить семье. Вопрос скорее в том, сможете ли вы оставить хоть какой-то след. Или вся ваша работа превратится в еще один комариный укус, который бесследно пройдет и забудется. Не думаю, что существует опасность серьезно навредить. Помня об этом, вы можете делиться с семьей почти всем, что придет в голову. Я говорю “почти”, вспоминая один случай в Атланте, где мы обучали студентов терапии. Однажды к нам пришла девушка со своим братом, полицейским. Пациенткой занимался наш ученик, откровенный человек, во время терапии он признался девушке, что хотел бы с нею переспать. Это было сказано совершенно честно и, надеюсь, имело символический смысл, но брат-полицейский этого не оценил. Для него подобное предложение не было символическим, оно не было даже и терапевтическим. Так что немного соображения тоже не повредит.
У безумия есть еще одно ценное качество — оно помогает устанавливать симбиотические отношения с пациентом, с идентифицированным шизофреником. Я люблю шизиков, поскольку считаю, что это заболевание связано с ненормальной целостностью: они действительно таковы, и я говорю об этом с уважением, без всякой иронии. Безумие и есть ненормальная целостность и творчество, не терпящие постороннего вмешательства. Проблема только в том, что большинство людей, в конце концов попадающих в психушки, еще и глупы. Я зарабатываю деньги своим безумием, Пикассо не только зарабатывал, но и получал удовольствие. Всем необходимо такое же безумие. У всех сумасшедших имеются возможности жить как Пикассо. Если вы устанавливаете симбиотические отношения с пациентом, это происходит потому, что вы похожи на его мать. Вы с пациентом заперты в вашей обоюдной двойной связи, восьмеркообразной по форме: он держит вас, вы — его. Но в отличие от его матери, которая панически боится сойти с ума, вы, пойманный подобным образом, хотите побыть безумным. Когда вы делаете шаг в сторону безумия, пациент вынужден двигаться к нормальности: это и есть путь лечения шизофрении. И это прекрасно: как только состояние безумия и нормальности стало подвижным, пациент по-новому учится быть здоровым, а вы свободнее пользуетесь своим безумием. Появляется необходимая гибкость. Когда пациент учится быть нормальным, он становится ранимым. Надо находиться рядом и учить его, как с этим справляться, и вы все время движетесь туда-сюда.
Расскажу одну историю. Шизофреничка лет восемнадцати-двадцати держала в постоянном ужасе свою семью, с которой мы работали года полтора. Она шлялась по всяким грязным местам, не раз заражалась венерическими болезнями, и ее приличная семья очень огорчалась. Она много раз вылетала из колледжа, и отец решил, что не может поддерживать ее деньгами, если она не учится. Ей пришлось оставить свою отдельную квартирку и вернуться в родительский дом. Девушка стала приводить мужиков. Когда это было просто свидание, семья не протестовала, но отец перед отходом ко сну всегда говорил очередному парню, что ему пора домой, а пробуждаясь, всегда находил его в доме. Наконец, мать не выдержала и сказала дочери: “Вон из моего дома, больше ты тут не живешь!” Через сутки мать позвонила мне и сказала, что хочет предложить дочери вернуться. Я ответил: “Не говорите об этом мне, скажите ей”. Тогда она позвонила дочери: “Я не права, я не могу выгнать тебя, что бы ни происходило, ты моя дочь”. Еще через двадцать четыре часа позвонили из полиции. Женщина-полицейский сказала: “К нам пришла девушка, чтобы сообщить об убийстве. Она говорит, что убита она сама”. Полисменша ничего не понимала: “Я звонила ее матери, а та посоветовала поговорить с вами”. Я сказал: “Вы можете не беспокоиться за девушку, мы ее давно знаем, она способна отвечать за себя. Поблагодарите ее и отпустите”. Полисменша сказала: “Она хотела бы поговорить с вами. Вы согласны?” Я согласился. И тогда взяла трубку пациентка, я услышал ее обращение: “Мистер Витакер”, — так она всегда называла меня, чем я очень гордился, потому что этим она обозначала, что я для нее не какой-нибудь очередной докторишка. Я произнес: “Очень мило, что вы сообщили об убийстве в полицию. Если вы еще узнаете об убийствах, скажите полиции, полиция должна все знать”. Тут у нее случился приступ чудесного хохота, а потом она сказала: “Огромное спасибо”, и грохнула трубкой. На самом деле произошло вот что. Мать сказала ей: “Я тебя люблю”. Для шизофреника это значит: “Ты мертв”. Так девушка была убита. А я хотел передать ей вот что: “Поздравляю тебя с тем, что ты приняла это убийство. Если ты еще перенесешь подобное, приноси на терапию, потому что до утра может произойти еще два”. Я как бы говорил: “Я еще более безумный, чем ты”, и тут она стала здоровой, подлинной и человечной. Стоит учиться быть безумным, и в то же время необходимо учиться мудрости.
Контрперенос
в семейной терапии шизофрении
Написано совместно с Р. Е. Филдером
и Джоном Воркентином
Витакер считает, что сам по себе контрперенос нетерапевтичен, но терапевт должен при работе с семьей доходить до такого эмоционального накала, при котором контрперенос неизбежно возникает. Без интенсивности взаимоотношений контакт с семьей не приведет к росту и изменению. Похожая ситуация существуют в браке: вежливые и дружелюбные взаимоотношения супругов не способствует росту, гораздо живее отношения иррациональные, где перемешаны любовь и ненависть.
Согласно Витакеру, терапевт в процессе семейной психотерапии постоянно повторяет одно и то же действие: входит в семью, помогает прервать происходящий там процесс, а затем отделяется от семьи. У терапевта есть свои нужды, страхи и желания, в нем также возникают реакции на нужды, страхи и желания семьи. Витакер и его коллеги в настоящей статье исследуют оба вида контрпереноса и предлагают техники для того, чтобы справиться с подобными явлениями и поставить их на службу терапии.
Именно контрперенос, оживление опыта детства, делает семейную терапию страшным испытанием для терапевта, но по той самой же причине в ней заложены огромные возможности для роста. Витакер и его соавторы показывают, как справиться с чувствами контрпереноса, избежав при этом как чрезмерной идентификации с семьей, так и изоляции от нее.
По нашему мнению, контрперенос остается огромной проблемой любого семейного терапевта. Значение, которое многие школы семейной терапии придают техникам и приемам, представляет собой попытку убежать от неприятных чувств, вызываемых контрпереносом. Витакер и его коллеги предлагают свою альтернативу такой позиции холодного техника.
В последнее время в психотерапии заметно оживились дискуссии о контрпереносе. Недавние исследования, включающие в себя аудиозаписи, наблюдение, киносъемку и лингвистический анализ общения открыли много нового. Мы узнали, что терапевт гораздо больше вовлечен в терапевтический процесс, чем мы себе это представляем. В терапии также появилось новое веяние — работа с пациентом внутри его семьи. Терапия, в которой два терапевта работают с одним пациентом, породила работу с супружескими парами, а терапевты набрались смелости и решили встречаться с семьями. Так мы стали лечить шизофреника в его собственной семейной группе. В настоящей статье мы хотим поговорить о проблемах подобной работы, особенно о проблемах, возникающих внутри самого терапевта. Мы не касаемся вопросов, связанных с оценкой состояния пациентов или с самим процессом терапии.
Занимаясь с семьей шизофреника, терапевт неизбежно должен эмоционально резонировать с этими людьми — и со всеми вместе, и с каждым по отдельности, идентифицируясь то с одним, то с другим. Затем он вынуждает их переменить систему связей, в которых они жили прежде, и установить новую — так, чтобы каждый мог отделяться от семьи и взаимодействовать с терапевтом. Он использует свою способность строить отношения. Так что терапевт приходит со своей защитной системой, взятой из семьи, в которой родился. Его переносы, порожденные взаимоотношениями с отцом и матерью, были проработаны ранее в его собственном психоанализе, но это лишь часть его защитной системы. Терапевт работает с семьей, но сам никогда не проходил семейной терапии с семьей, из которой вышел, и в этом кроется опасность.
При терапии с семьей шизофреника проблемы контрпереноса представляют трудности даже для опытного терапевта. Здесь они проявляются сильнее, чем в любой другой форме терапии (Whitaker, Felder, Malone, & Warkentin, 1962). Принимая семью в качестве своего пациента, терапевт неизбежно проявляет незрелые стороны своей личности. Как бы взросло и тепло он ни старался общаться, вопреки своим намерениям он все равно покажет свой инфантилизм, свою психопатологию. Во время встречи терапевт сам, как правило, ничего не заметит, но может обнаружить это позже, слушая запись или разговаривая с коллегой.
Организация и методы терапии
Терапия с такими семьями проводилась нами в частной клинике, где работают девять терапевтов, установившие между собою тесные профессиональные взаимоотношения. Очень часто у нас практикуется работа вдвоем, коллеги консультируют друг друга. Так что у нас сложилась общая рабочая философия психотерапии.
Теоретическая ориентация авторов данной статьи называется терапией, основанной на личностном опыте (Malone, Whitaker, Warkentin, & Felder, 1961a). Под этим названием мы понимаем чередование взаимоотношений переноса с экзистенциальными отношениями, причем последние преобладают на поздних стадиях терапии. Все усилия направлены на то, чтобы сделать более интенсивными экспрессивный и эмоциональный аспекты отношений терапевт-пациент — в рамках клинической оценки ситуации (Auerbach, 1963). Поэтому возникновение контрпереноса при таком подходе является неизбежным.
Мы понимаем под контрпереносом любое проявление эмоциональных нарушений терапевта. Сюда входят не только реакции терапевта на перенос чувств его пациента (то есть семьи), но и реакции на перенос от отдельных ее подгрупп. В понятие контрпереноса мы также включаем те чувства терапевта, которые непосредственно связаны с его собственным переносом. Вся группа, подгруппы, отдельные члены семьи могут символически представлять для терапевта какие-то фигуры из его прошлого: брата, отца, мать или всю семью. Также мы назовем контрпереносом процесс идентификации терапевта с кем-либо, когда, например, шизофреник становится для него как бы другим “Я” и, глядя на пациента, видит самого себя. И, наконец, мы не проводим различий между осознанными и неосознанными чувствами терапевта, поскольку и те, и другие вызывают в терапевте тревогу. Но когда он выражает свои чувства семье, ситуация более удачно, чем когда он их скрывает (Whitaker, 1958).
Заметим, что сам по себе контрперенос нетерапевтичен, но он обязательно появляется при интенсивности взаимоотношений, необходимой для успешного лечения любого пациента с психозом. Зрелый терапевт может дойти до столь сильного накала в отношениях в том случае, если готов прорабатывать свою психопатологию, проявляющуюся в контрпереносе. Только тогда он сможет общаться свободно и станет делать это в интересах пациента. Открытое выражение своей психопатологии семье должно быть уравновешено клинической мудростью. Но часто нежелание поделиться ей с пациентом происходит от гордости и смущения терапевта и тогда создает дополнительную путаницу в их взаимоотношениях.
Мы будем рассматривать терапию семьи как единого целого, несмотря на то, что видимые симптомы проявляет ребенок. Наша клиническая команда в прошлом много работала с группами, парами, а также часто использовала ко-терапию во всех возможных ее видах. Ко-терапия помогает справляться с проблемами контрпереноса терапевта и учит его самого обращаться со своими защитными формами поведения, снижающими качество терапии. Мы изучали проявления контрпереноса с помощью записей работы терапевта и при работе вдвоем, когда каждый терапевт может наблюдать динамику своего коллеги. Как правило терапевт во время встречи не замечает проявлений контрпереноса у себя самого.
Если в нашу клинику обращаются члены семьи, чаще всего мать или отец, мы сразу просим прийти всю семью. Мы не общаемся отдельно ни с шизофреником, ни с его родителями. На первой встрече решается вопрос о том, надо ли приглашать на терапию братьев и сестер. Мы относимся к семье как к единому целому и особенно подчеркиваем: если кто-то один отсутствует, значит, “пациент” не пришел и нам не с кем работать. Для большей выразительности мы говорим, что наш пациент — это группа взаимосвязанных между собой людей или, образно, “салат из людей”. Каждый член семьи сетью взаимоотношений связан с другими, так что все составляют как бы одно блюдо. Например, пациент на вопрос терапевта, собирается ли он покупать машину, ответил: “Мы еще не решили, собираюсь ли я ее покупать”.
Описание семейной терапии — нелегкая задача, поскольку перед нами — совсем иная первичная сцена, не сексуальной природы. Это целостный организм семьи, в котором взаимодействуют два поколения. Ребенок, идентифицированный как шизофреник, является жертвенным агнцем семьи, ради нужд семьи он снова и снова претерпевает распятие. Семейная терапия помогает ему довести свое дело до конца и освободить каждого члена семьи. В результате успешной терапии родители могут отделиться от “салата семьи”, где перемешаны мать, отец и ребенок.
В отличие от индивидуальной терапии мы имеем дело с настоящими домашними взаимоотношениями, в обычной терапии их переносят на терапевта. Ребенок взаимодействует со своими кровными матерью и отцом, к тому же, все втроем они образуют группу, тоже вступающую в особые взаимоотношения с терапевтом. Можно сказать, что индивидуальная терапия основана на символических взаимоотношениях; групповая — на социальной сети связей; семейная же — на том биосоциальном организме, который является основой любого общества. Неудивительно, что терапевты не решались заходить на территорию семьи с намерением изменить ее. Динамика семейного организма начинается с невротической взаимосвязи родителей, с отношения любви, символического и реального, а потом в нее вмешиваются чувства, вызванные рождением и ростом детей и также годами совместной жизни. В отличие от семейной терапии групповая также предполагает перенос чувств членов группы друг на друга и на терапевта. Эти чувства возникают постепенно и носят символический характер. В семейной же терапии взаимоотношения уже существовали много лет. Они переполнены чувствами, не только имеющими четкую структуру, но также и хорошо защищенными от всевозможных вмешательств. У семьи гораздо больше власти, чем у терапевта, который к тому же еще и представляется семье посторонним. В процессе семейной терапии такая мощная группа впервые сознательно начинает разрушать свои защитные сооружения, тормозящие рост.
Динамика
В маленькой статье невозможно описать такую глобальную для психотерапии вещь, как изменение. Мы только хотим заметить, что процесс изменения пациента в индивидуальной терапии — совсем не то же самое, что в семейной. Семейная терапия отличается и от терапии супружеской пары. Здесь мы понимаем под словом “семья” союз, состоящий по меньшей мере из двух, а обычно трех и более человек, и в котором представлено два поколения.6 Присутствие двух поколений меняет динамику терапевтического процесса. Вдобавок современный кризис семьи как социального института вплетает в динамику новые особенности, что мы зачастую наблюдаем у пациентов. Естественный гомеостаз семейного организма усиливается в ситуации терапии благодаря групповой солидарности, которая развивается у людей “перед боем” (Bion & Richman, 1943).
Все мы понимаем, что стабильность мешает росту, но слишком большая текучесть в образовании коалиций и группировок внутри семьи также препятствует ему7. Она в той же мере защитна, как и уступчивость человека, который никогда ни с кем не спорит. Тогда, если один из членов семьи тревожен, другие для сохранения равновесия начинают утешать его или нападают на терапевта. Терапевт, как посторонняя сила в семье, может остановить чье-то взаимодействие. Это вызовет панику и приведет к созданию новых связей между людьми. Он может также переменить равновесие сил с помощью своего антагонизма и символической идентификации и установить новый баланс. Терапевт становится как бы акушером, помогающим родиться всему тому новому, что промелькнуло в момент паники в сознании семьи. Когда гомеостаз таким образом нарушается, развивается вторичная компенсация, и тогда новые виды взаимоотношений интегрируются в динамику семейного целого.
Итак, семейная терапия предполагает разрыв старых лояльных связей, в результате чего не только появляются новые подгруппы, но и выходит наружу неведомое до сих пор напряжение. Терапевт помогает семье совершить этот переход, осуществить процесс разрыва и становления нового. Когда терапевт конструктивно участвует в такой динамике семьи, стресс его достигает примитивного уровня, на котором появляются отношения переноса. (Rosen, 1953).
Виды контрпереноса
Мы говорили о том, что пока контрперенос действует, он является неосознанным. Тем не менее, можно заставить терапевта осознать его действие, “поймав за руку” во время работы или вскоре после ее окончания. Терапевт вносит в семейную терапию свои установки, привычные по отношению к любой терапевтической ситуации. Привыкнув иметь дело с одним человеком, он подходит к семье как к индивидуальному пациенту. Это естественная реакция, связанная с его терапевтическим опытом, но она открывает путь проблемам контрпереноса. Терапевт при встрече с семьей может тревожиться или переживать больше, чем его пациенты. Они представляют собой самодостаточную группу с надежными защитами. За их спиной — многолетний опыт конфликтов с людьми, угрожавшими их целостности. Они привыкли побеждать в таких столкновениях и уверены в своей силе. Так что терапевт теряет равновесие, в то время как его пациент (семья) крепко стоит на ногах: она стабильна и умеет справляться со стрессами.
Некоторые исследования показывают: терапевт работает с семьями для того, чтобы оживить свои собственные тяжелые переживания, касающиеся семьи, в которой он вырос. Он не может изменить прошлые взаимоотношения, поэтому пытается поменять часть социальной структуры. Таким образом, он горит миссионерским пылом,8 пытаясь изменить хотя бы эту семью.
Хотя мы пользуемся привычным термином “контрперенос”, вероятнее, правильнее будет назвать самые иррациональные чувства терапевта просто “переносом”. Он снова переживает детство, иным образом, чем в психоанализе или даже чем у себя дома. Он может наслаждаться инфантильным всемогуществом, контролируя семью, может раствориться в семейной массе или убежать из дома, как Гекльбери Финн. Ему дана идеальная фантастическая семья, и искушение проиграть с ней свои детские мечты становится неимоверно сильным.
Одному терапевту, проработавшему с семьей больше года вместе с коллегой, внезапно во время терапии пришла на ум фантазия отрезать головы отцу и матери. Это продолжалось в течение нескольких встреч с семьей. По нашему убеждению, если бы он умолчал о своей фантазии, терапевтические взаимоотношения оказались бы ослабленными. Высказав свою фантазию вслух, он показал семье, что можно делиться с другими даже самыми кошмарными чувствами.
Нам кажется, что единственным спасением от вреда, который наносит контрперенос, является ко-терапевт. именно он может заметить, как его коллега обращается со своими личными нуждами. В одиночку терапевт будет съеден живьем и растворится в семейном “салате”9.
Начальная фаза: вовлечение
При первых встречах с семьей терапевт переживает сильную тревогу. У него в голове имеется план для новой семьи, для его новой семьи. Может быть, он станет ее родителем и воплотит в ней свои фантазии детства? Какой бы ни был план, все будет не так, как он себе представляет. Благодаря своему рвению, желанию посвятить себя семье, он легко может в ней раствориться, став как бы одним из ее членов. А если так, значит, его перенос уже действует. Перенос может выразиться в желании атаковать гомеостаз этой семьи. Терапевт старается переломить семью примерно в том же смысле, в каком Джон Розен (1953) говорит о необходимости “переломить хребет психозу” при проведении индивидуальной терапии шизофреника. И он может больно ушибиться, пытаясь сделать это, как терапевт, о котором речь пойдет ниже. Вот выдержки из одной встречи с семьей.
Мать. Что вы думаете, доктор, о школе для Пэта? Какую выбрать школу, где?
Терапевт. Дело, по-моему, не в школе. Вы верно заметили, что его проблемы существовали давным-давно, а школа лишь заставляет обращать на них внимание.
Мать. Да, доктор, все так, но дело в том, что у нас не будет никаких перспектив, если мы заберем его из школы. Не может же он бесконечно сидеть дома, он и так пропустил уже два месяца в этом году.
Терапевт. Вы замечаете, что вы делаете, когда так говорите?
Мать. Нет. А что такое?
Терапевт (к отцу). А вы?
Отец. Нет.
Терапевт. А ты, Пэт? (Шестнадцатилетний пациент не отвечает)
Терапевт. Джон, а ты? (к младшему брату.)
Джон. Нет.
Терапевт. Я указывал на эту проблему прямо здесь, на встрече.
Джон (перебивает). Прямо здесь?
Терапевт. Да. Мама сразу после этого отвлекла ваше внимание разговором о том, что делать со школой. Как будто все дело в школе.
Мать. Конечно, он должен получать образование, вот в чем проблема.
Терапевт. Не думаю. Вот что я скажу. Проблема не в этом. Проблема в том, что он поставил свой грязный башмак на мое кресло — 80 долларов! — а папе на это начихать. Вот в чем проблема. (Терапевт злится на отца и на грязь.)
Отец. Что тут можно поделать? (подразумевая: “Что вы, терапевт, можете с этим поделать?”)
Мать. Как этакого большого оденешь в чистое? Ты его просишь надеть, даешь ему, а он не надевает и не обращает на тебя внимания.
Терапевт. Наконец-то мы говорим, как мне кажется, о настоящей проблеме.
Попытка терапевта переместить фокус со школьных проблем на то, что сейчас происходит, провалилась. Пытаясь говорить об отношениях отца с пациентом-мальчиком, терапевт не только ничего не добился, но и сам включился в семейный процесс деперсонализации пациента (“этакого большого”, “оденешь”…) Мать не стала бы говорить так про сына, если бы сначала терапевт не стал соучастником семейной злости на “пациента”. Продолжение интервью показывает, что терапевт подавлен бременем привычной динамики семьи и неспособен освободиться. Если бы рядом присутствовал другой терапевт, он помог бы первому сохранить свою позицию и оставаться самим собой. Тогда бы ему не нужно было превращаться в одного из членов этой семьи из-за того, что он озабочен ее продвижением. Этот терапевт “желает” и “старается”, но слишком спешит. В данном случае лучше сделать полшага: “Насколько ваши семейные проблемы сейчас витают в воздухе этого кабинета?” или “Кто-нибудь из вас молился за меня во время нашей встречи?”, или “Папа, как вы думаете, здесь для вас подходящее поле боя, чтобы довести ваше сражение с семьей до конца?”
Средняя фаза: взаимоотношения
По мере того как терапевт все глубже вовлекается в отношения с семьей, он может вдруг обнаружить, что идентифицируется с ребенком и атакует мать, как бы собираясь защитить ребенка от ее злых импульсов. И вследствие этого он хочет заменить маму во внутренней жизни ребенка и самому стать матерью этой семьи. С другой стороны, терапевт может идентифицироваться с матерью и подобно ей опутывать ребенка двойной связью — либо из-за своего желания его завоевать, либо соревнуясь с ней. Пример:
Мать. Я, конечно, понимаю: бывают вещи, которые ты не хочешь делать. Но иногда случалось, что ты совсем не делал того, что тебя просили.
Сын. Мне кажется, это не...
Мать. Когда мне кажется, что надо тебя о чем-то попросить, я прошу, так же, как и всех прочих. Я давала советы и учила вас, когда вы были младше, да и потом, я думала, кто же вас научит, если не я. И я, конечно, старалась не давать слишком много советов. Я немного говорила о том, о сем, потому что ты не продумал этого.
Сын. Очень важно, доктор, чтобы вы сказали, что вы думаете обо всем этом. Мы ведь не знаем, что вы думаете. То есть если вы молчите, то мы остаемся на прежнем месте, потому что опытный человек не говорит нам, четко и ясно, правы мы или нет.
Терапевт (откашливается). Вот что...
Сын. Наверное, это странно, но мы оба хотели бы услышать, что вы думаете. Если я чувствую неправильно (нет, я знаю, с чувствами все нормально). Чувства мне понятны, а вот если я неправильно думаю, то я хотел бы это знать.
Терапевт. Именно поэтому я и молчу. Я хочу, чтобы вы научились лучше понимать друг друга, чтобы по-новому взглянули друг на друга с моей помощью, как-то по-другому, чем раньше. У меня нет готового мнения. Когда я почувствую, что надо сказать что-то ценное для вас, я сразу это сделаю.
Сын. Я не могу думать, как она, и не знаю, как надо.
Терапевт. Конечно, так и должно быть. Думаю, это еще долго будет продолжаться. Вы не можете измениться за один присест.
Сын. Надо признаться, в прошлый раз на обратном пути от вас мы оба были очень расстроены, наверное, так же будет и сегодня.
Терапевт. На этот счет я хотел бы поделиться своим мнением. В этом я знаю толк. (Откашливается.) Когда вас расстраивает то, что здесь происходит, по дороге домой вы можете поздравить себя с удачей, потому что когда мы просто мирно беседуем с вами, это не помогает.
Мать. Может быть, я не права. Сын говорит, что я всегда недовольна, значит, я и не могу быть довольна, но я могу сказать, что думаю и почему. Когда я говорю Ховарду, что он не прав, сын не обращает внимания, не соглашается, ему кажется, он знает лучше. А если вы ему вы скажете, что он не прав, скажете свое мнение, тогда он прислушается; он должен уважать ваши слова больше, потому что вы специалист и знаете то, чего не знаю я. С другой стороны, я уже давно сюда хожу, и надо быть совсем глупой, чтобы ничему не научиться. Кроме того, у меня тоже накоплен большой опыт во всем, я не хочу давать неверные советы, неправильно учить. В моей семье и так не слушают советов. Ховард тоже, но я все равно не хочу думать неправильно.
Сын. Странно, что двое людей, — конечно, если не принимать во внимание разницу в возрасте, — совершенно по-разному смотрят на одну и ту же ситуацию. Мне кажется, один из нас не прав.
Мать. Мне тоже так кажется, и думаю, что это не я. Может быть, я слишком высоко себя ценю, а может быть — недостаточно. Я обхожу стороной соседей, чтобы не спорить с ними.
Сын. Это так.
Мать. Зачем мне нужны соседи? Вот что я хочу тебе сказать. Ты думаешь, я их слушаю, а это не так.
Сын. Ты что, никогда ни с кем не споришь?
Мать. О, очень часто!
Сын. Никогда не слышал, чтобы ты сказала хоть слово, которое... (Говорят одновременно.)
Мать. Просто не было случая, чтобы ты слышал, как я спорю. Дело в том, что я почти всегда дома и мало общаюсь с людьми...
Сын. Я не о том.
Мать. Так что это бывает лишь иногда. Я так привыкла сидеть дома, что не хочется куда-то идти, такова моя судьба. На самом деле, я никогда не любила появляться на публике, с меня хватало моей работы.
Сын. Доктор, что вы на это скажете? Про отношения между матерью и сыном вообще? Не имея в виду именно нас. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Мать. У каждого свое дело. Вообще, это довольно неинтересные вещи, что о них говорить.
Сын. Моя жизнь и ее жизнь — какими они должны быть? Не говоря о нас лично...
Терапевт. Очень важно говорить именно лично.
Сын. Значит, вы не хотите сказать.
Терапевт. Ховард, зачем говорить об абстрактных матери и сыне, когда есть реальные? Я с удовольствием скажу, что думаю о твоих сегодняшних словах, о том, как ты ощущаешь зависимость от матери и ненавидишь это, что является нормальным для мальчика четырех лет. Ребенок зависим от мамы, она его кормит, она — самое главное для него. Но мальчик в то же время ненавидит свою зависимость, потому что хочет стать взрослым мужчиной и уйти в большой мир, и здесь я могу это наблюдать.
Мать и сын захватили беседу, идущую по бесконечному кругу. Сын пытается вовлечь терапевта, мать — вмешаться, потом сама обращается к терапевту. Сыну не понравилось замечание терапевта (”Очень важно говорить именно лично”), и он провоцирует его (“Значит, вы не хотите сказать”). Терапевт превращается в мать и отвечает, приятно опутывая сына двойной связью и тем самым приводя его в замешательство. Он говорит: “Зачем говорить об абстрактных матери и сыне?”, но к концу своей реплики называет пациента в третьем лице. Переход от “ты” к “он” почти незаметный.
Терапевт может также оказаться бессильным и слишком мягким, пытаясь участвовать в балансе власти подобно отцу семьи, и тогда он в один момент провоцирует ребенка на то, чтобы тот стал жертвой, а в другой провоцирует мать, и та начинает доминировать, устанавливая двойную связь (Winnicott, 1949).
Нередко на данной стадии терапии терапевт, пытаясь противостоять своему погружению в “семейный салат”, начинает искусственно изолировать себя от пациентов. Он может думать, что просто является объективным и интерпретирует. Мы думаем, что в семье существует расщепление, и терапевт одновременно устанавливает отношения и с ребенком, и с родительской парой. Семейная терапия — уникальное переживание, часто терапевт многого не замечает из-за того, что имеет дело не с символической исторической ситуацией, а погружен в динамику системы. Обнаружив работу контрпереноса у семейного терапевта, мы настолько воодушевились, что рискнули сделать одно обобщение: терапевт, с динамической точки зрения, есть плод патологии другой семьи, той семьи, где он сам рос. Если это так, то терапевт находится под угрозой снова оказаться нездоровым. Ослабляется его собственный контакт с реальностью, начинают работать защитные механизмы Эго перед лицом опасности, терапевт теряет свою целостность.
Большая часть нарушений взаимоотношения терапевта и семьи происходит тогда, когда терапевт идентифицируется с пациентом. Мы, психиатры, много лет идеализировали шизофреника, его магические чуткость и всеведение, как бы разделяя с ним его манию величия. Мы восхищались его загадочностью, повторяли за ним неологизмы и символы, не поддающиеся пониманию. Мы даже сравнивали его интуицию с интуицией терапевта, фантазируя и воображая, что шизофреник был бы идеальным терапевтом для нашего роста. Мы абсурдно предполагали, что шизофреник понимает жизнь лучше, чем его родители, и это давало нам право купаться в нашем гневе на родителей.
К тому же, благодаря нашей подготовке мы очень ценим и замечаем символические переживания, но в то же время плохо понимаем общение внутри семьи и обвиняем семью в том, что она порождает “больного” человека. И одновременно очень ценим этого больного. Таким образом, мы передаем замечательную двойную связь семье, и, конечно, из-за этого и семья, в свою очередь, нередко связывает терапевта двойной связью, обычно, на невербальном уровне.
Мы часто представляем себе, как шизофреник приносит себя в жертву семье, при этом совершенно упуская из виду его нарциссизм. Мы как бы говорим пациенту: “Ты прекрасен”. “Вы тоже”, — отвечает он. И при помощи такой обратной связи мы становимся рядовыми жертвами ловушек переноса и контрпереноса. Иногда мы советуем пациенту: “Выздоравливай, но береги свое безумие. Это творчество, и мы им восхищаемся”. Похоже, что мы порой слишком поглощены созерцанием этих прекрасных символов и начинаем относиться к пациенту просто как к художнику. Бывает, мы говорим про такого ребенка семье: “Он у вас единственный по-настоящему честный человек”. Но это неправда, поскольку все в семье играют в одну общую игру.
Еще один вид контрпереноса, являющийся развитием предыдущего: мы представляем себе пациента-шизофреника асексуальным существом. Образ превзошедшего половое разделение героя — это отвержение и защита от сексуального контрпереноса. Другая проблема возникает в связи с саморазрушительной тенденцией терапевта. Тогда он как бы усваивает жертвенность шизофреника по отношению к семье и сам становится жертвой: “Вот я. Господи, возьми меня”. Иногда идеализация шизофреника превращается в идеализацию семьи. Тогда мы не слушаем третьим ухом и не замечаем грубой манипуляции во время терапии. Шизофреники умело управляют людьми, делая это сознательно и страстно. Если терапевт поддается на подобные ловушки, он запутывается в ситуации.
Иногда контрперенос терапевта связан с его идентификацией с матерью. Она говорит ребенку: “Как ты можешь делать такое, когда я готова умереть за тебя?”, а терапевт почти повторяет ее слова: “Как вы можете не обращать внимания на меня, на того, кто приносит себя вам в жертву?” Он говорит: “Слушайте меня, иначе вы не достойны моей любви”.
Такая ситуация похожа на положение ребенка в семье, и терапевт запутывается в ней очень глубоко, и тогда развиваются серьезные проблемы контрпереноса. Терапевт реагирует на семейное целое как на семью своего детства, наслаждаясь общением с ней. И тогда он уже не терапевт, а ребенок в семье.
А иногда наоборот — в терапевте возникает напряжение из-за негативных переживаний. Это мешает ему выполнять свою функцию, а порой доводит до того, что он взрывается на терапии. (“Эта семья срывает все мои планы”). Иногда терапевт ввязывается в борьбу семейных подгрупп за власть, либо примыкая к родительской коалиции, либо к другим подгруппам (мать и сын, отец и сын), либо вставая на сторону отдельного человека. В любом случае он бессилен как терапевт. Если ему удалось избежать Сциллы чрезмерного вовлечения, он оказывается у Харибды изоляции. Наконец, происходит такой контрперенос, когда терапевт быстро переключается с одной коалиции на другую в серии переносов, которых не замечает, и выходит из строя в качестве терапевта.
Итак, терапевт оказывается в трудной ситуации. Семья стоит неприступной крепостью, когда он играет свою роль. Его привычная теплота, работающая в индивидуальной терапии, приобретает качество контрпереноса. Он должен вступить в отношения с семейным целым, но не может стать членом семьи. Он должен помочь семье разрушить старые связи, образовать новые подгруппы и постепенно научить каждого “принадлежать” семье, не теряя своей идентичности. (Возможно ли, чтобы какая-нибудь подгруппа семьи была более здоровой, чем вся семья?) В этом процессе он должен быть внутри семьи, но не членом семьи или ее подгрупп. Он должен быть в контакте с каждым членом семьи, но ни на чьей стороне. Он должен принадлежать только себе самому (Whitaker, Warkentin, & Malone,1959).
Заключительная фаза: отсоединение
Довольно трудно понять заключительную фазу работы с семьей. Опыт невелик, ситуация сложная, и даже терапевты, работающие вдвоем, перестают быть наблюдателями, поскольку то, что происходит, значимо лично для них (Whitaker, Warkentin, & Johnson, 1950). Если семейная терапия уже дошла до этой стадии, неуспех может быть только в относительном смысле слова. Многие семьи не дожидаются того момента, когда получат от терапии все, что можно, и уходят. Стоит ли считать это неудачей? Терапия может прекратиться из-за того, что кто-то в семье вступает в брак или отец получает новую работу, семья переезжает или просто теряет интерес к терапии. Мы стараемся участвовать в таких событиях. Мы выражаем все наши предостережения и наше удовлетворение, чувство потери или облегчения, и за всем этим стоит признание права членов семьи решать за себя. Мы сами научили их пользоваться этим правом. Только время покажет, насколько глубоко они изменились.
Если терапия семьи с шизофреником проходит успешно и “семейный салат” меняется, то в средней фазе терапии остаются три человека с достаточно гибкими взаимоотношениями. Каждый из них наделен своей собственной целостностью, может позволить себе отключиться от других и не участвовать в порочном круге патологического взаимодействия. В результате успеха на последней фазе образуется стабильная родительская подгруппа, на которую ребенок может опираться, когда сам того захочет. Он свободен приближаться к ней или отдаляться. Эта пара доступна для него, но не привязывает к себе. А родители могут радоваться своей связи с ребенком, а если он отдаляется, то друг другу. Они свободны и могут бороться за самое главное — за свой брак. Пациент для них — на втором плане. И сами они, наконец, могут быть одновременно и отдельными людьми, и частью организма брака.
Мы видим, что терапевт, чтобы оставаться отдельным человеком, должен преодолеть не только такую проблему контрпереноса, как слишком сильное вовлечение и растворение в семье, но и изоляцию. Чтобы служить образцом, он должен оставаться участником этой группы, должен действительно лично участвовать, а не просто исполнять роль, и в то же время не тонуть в семейном болоте.
Что делать с проблемами контрпереноса?
Разрешение возникающих вследствие контрпереноса проблем имеет по меньшей мере две стороны. Есть специфические проблемы контрпереноса, которые решаются специальными подходами. Но глобально проблемы контрпереноса решаются путем изменения взаимоотношений между терапевтом и его “пациентом”. Тогда динамика, порождающая контрперенос, постепенно уменьшается. Самое очевидное здесь — меры профилактики, где помогают несколько вещей. Самое простое — адекватная подготовка и опыт терапевта: тогда он входит в процесс терапии как зрелый человек, способный устанавливать отношения, не теряя своей целостности, не перенося свою патологию на терапевтическую ситуацию. В процессе обучения терапевт должен пройти личностный рост. Должен научиться рассматривать нужды пациентов с разных сторон. Для этого ему полезно побыть, например, пациентом в группе, поработать с маленькими детьми, побыть ко-терапевтом, когда легче обнаружить в себе тенденции контрпереноса. Ему, конечно, может помочь чуткий супервизор. Обычная терапия тоже учит, как обращаться с явлением контрпереноса и ему противостоять. Конечно, опыт личностного роста должен быть уравновешен достаточным опытом терапевтической работы. Тогда он может стать “профессиональным” терапевтом, не тем, кто занимается психотерапией просто из любви к искусству, кого можно назвать любителем. Он должен глубоко вовлекаться в терапию, до той степени, пока не начнет сам испытывать сильное эмоциональное напряжение и тревогу. На таких переживаниях он учится все лучше и лучше выполнять свою профессиональную функцию.
Поскольку терапевт живет и работает отчасти вопреки социальной структуре, ему необходимо чувствовать свою защищенность в профессиональной группе. Исследовательский институт или сотрудники госпиталя нередко служат ему такой опорой. Если рядом нет коллег, его изолированность от общества может оказаться тяжелым бременем. Когда такая поддержка существует, он начинает смелее путешествовать по темной долине психоза. Возможно, семейная терапия шизофрении вообще невозможна без опоры на такую группу.
Один из важнейших моментов, касающийся предупреждения контрпереноса и умелого обращения с ним — его собственная семейная жизнь. Терапевт, который находится в глубоких и конструктивных отношениях со своей женой и детьми и получает здесь удовлетворение, будет работать с семьями лучше, чем тот, для кого жизнь дома — мучение.
Если терапевт обладает всем вышеперечисленным, то проблемы контрпереноса будут разрешаться — при том условии, что он будет честно делиться своими глубокими переживаниями во время работы. Его честность и открытость станут моделью для семьи; увидев такие качества в терапевте, пациенты тоже сделают шаг в сторону большей честности и открытости. Образ “Я” терапевта послужит прототипом для самовосприятия семьи и всех ее членов в отдельности. Кроме того, терапевту необходим взгляд со стороны на его отношения с семьей — будь то форма магнитофонной записи или живое присутствие коллеги. Даже просто используемые в качестве технической уловки, открытость и честность терапевта, который рассказывает о своих эмоциональных трудностях, меняет качество его взаимоотношений.
Мы обнаружили, что идеальным средством предупреждения проблем контрпереноса при работе с такими семьями является ко-терапия. Возможно, по мере того как терапевт становится все более опытным, нужда в котерапии отпадает. “Если я запутаюсь, хорошо, что ко-терапевт подтолкнет меня или покажет мое неверное движение” (Whitaker, 1958).
Техники
Некоторые специальные техники помогают справиться с проблемами контрпереноса. Важно, чтобы терапевт мог видеть семью в целом, как единый организм. Его эмоциональное отношение к семье как к целому предотвращает развитие контрпереноса к отдельным людям или подгруппам семьи. Но одновременно терапевту необходимо для равновесия установить отношения и с каждым членом семьи, и с ее подгруппами. От терапевта требуются сила и гибкость, чтобы уметь входить в семью и выходить из нее. Для того терапевт должен быть и действовать спонтанно и уникально.
Постоянство в отношениях не столь значимо, как аутентичность. По сути дела, терапевт постоянно вовлекается то в один, то в другой эдипов треугольник, должен уметь по своему желанию время от времени разрывать эти связи и снова восстанавливать их. Тогда он становится терапевтом, профессионально исполняющим свою роль. Одной лишь роли недостаточно для установления терапевтических взаимоотношений, но это необходимое условие для того, чтобы терапевт справился с многообразными проявлениями контрпереноса, неизбежно возникающими в процессе терапии.
Еще одна техника, помогающая разрешить проблемы контрпереноса — сознательная передача инициативы ведения процесса общения в руки членов семьи. Терапевт сходит со сцены, как бы отвергая всю ситуацию, это неизбежно порождает напряжение, которое потом придется прорабатывать, но нередко такой подход абсолютно незаменим. Обычный пример подобной ситуации — работа с семьей, пребывающей в депрессии. У терапевта возникает искушение вмешаться, начать всех подбадривать, пытаться справиться с депрессией и стать спасителем семьи. Но часто такое вмешательство — лишь проявление его контрпереноса. Лучше активизировать депрессию, дать ей углубиться, чтобы пациенты прошли сквозь нее, а не убегали от нее. Терапевт как бы отрекается от каждого члена семьи по отдельности, утверждая свою верность целостному семейному организму.
Когда терапевт смотрит на брак родителей как на нечто пока еще не состоявшееся, это помогает не отрываться от реальности. А родители, когда их считают лишь женихом и невестой, получают свободу строить более здоровый союз.
Когда в терапии участвуют двое терапевтов, для разрешения проблем контрпереноса появляется новая возможность: на время отключиться от семьи и уйти во взаимоотношения с коллегой. В таком случае возникают отношения между двумя группами. Тогда терапевт чувствует, что основные взаимоотношения — это отношение между ним и его коллегой, и освобождается от чрезмерной идентификации с семьей. Возможно даже, что такие взаимоотношения двух терапевтов, несколько “инцестуозные” по своей природе, разрешают вину за инцестуозные взаимоотношения внутри семьи с ее членов и тем самым снимают некоторые проблемы контрпереноса.
Обычно в таких семьях мать при пособничестве отца достигает своей цели, используя жертвенного “козла отпущения” — пациента. С одним терапевтом она легко может реконструировать такую семью, с двумя это у нее не получится, поскольку они образуют свою собственную группу. Когда центральными взаимоотношениями для двух терапевтов являются отношения друг с другом, семья остается со своими несчастьями наедине и потому отдается терапевтическому воздействию.
Когда с семьей работает один терапевт, он может достичь тех же целей, пригласив на встречу консультанта. Без консультанта терапевт легко может запутаться в групповой зависимости семьи. Когда же “семейный салат” теряет свою силу с приходом еще одного человека, терапевт получает свободу совершать движения в семью и из семьи. Он не прикован к ней наручниками. Напротив, беседа с супервизором, используемая для разрешения проблем контрпереноса, малоэффективна, поскольку терапевт не способен прямо выразить свою проблему. Зато аудиозапись встречи может заставить терапевта в достаточной мере снова пережить прежнюю ситуацию, поэтому можно решать проблемы контрпереноса, слушая запись вместе с коллегой. Все это может показаться чрезмерными предосторожностями, но мы понимаем, что терапевт участвует в терапии не как невротик и не как техник. Он погружается в чужую семью всеми своими чувствами, превращаясь почти что в психотика, переживая свой первичный процесс. Это отличает семейную психотерапию от групповой. Семейная терапия главным образом основана на динамике первичного процесса, а групповая в большой степени — на динамике вторичного процесса. Чувства терапевта тут и там соответствуют этим двум разным степеням глубины.
Заключение
Семейные терапевты нашего поколения сами не были пациентами в семейной терапии. В следующем поколении появятся люди, которые пройдут через этот опыт и таким образом разрешат не только свои проблемы переноса, но и особые проблемы отношения к семье как к единому целому. А в настоящее время подготовка терапевта для работы со сверхмощными семьями, в которых вырастает шизофреник, требует прохождения глубокого анализа и большого опыта терапевтической профессиональной работы. И, конечно, такой терапевт должен находиться в значимых взаимоотношениях со своей собственной семьей и чувствовать себя достаточно защищенным. Только тогда он будет свободен от предрасположенности попадать в эмоциональные ловушки контрпереноса. Ему необходима опора в виде группы коллег, с которыми у него сложились сильные взаимоотношения и кого он может приглашать работать своими ко-терапевтами.
Внимательное наблюдение супервизора за семейной терапией — индивидуальное или групповое — помогает избежать многих проблем, связанных с контрпереносом. Терапевт также должен уметь оценивать динамику семьи. Этому невозможно научиться в индивидуальной терапии или в психиатрической больнице, скорее тут подойдут центры профилактической психиатрии или социальные службы, работающие с семьями. Только общаясь с семьями можно научиться не бояться их мощи, подходить к семье с уважением, а не с отвращением, любопытством или же страхом.
Из всего ясно следует, что терапевт, работающий с семьями, развивает в себе своего рода раздвоенность. Он должен участвовать в жизни семьи и одновременно находиться в стороне от нее, должен быть цельной натурой и — членом такой примитивной группы, как семья. Терапевт идентифицируется с ребенком, при этом не делаясь ребенком для семьи. Он вместе с родителями, но не родитель, учится такой открытости и такому соучастию, в которые может свободно входить и свободно покидать. Ему необходимо понимать, какой невероятной силой обладает семья, и в то же время уметь участвовать во всех изменениях семейной ситуации, не теряя себя перед лицом этой силы и не стремясь использовать семью для своих нужд. Поэтому работа с семьями требует от терапевта невозможного, но взамен дает очень многое; это и наиболее опасная форма терапии и — одновременно — работа, приносящая самое глубокое удовлетворение. Настоящая смертельная схватка, где “жизнь, которую ты спасаешь, может оказаться твоей собственной”.
Отыгрывание в поведении
в семейной терапии
Хотя эта статья и была написана раньше, чем статья о контрпереносе, мы поместили ее вслед за первой, потому что отыгрывание в поведении (acting out) и есть поведенческое проявление контрпереноса. Отыгрывание в поведении любого члена терапевтической группы снижает тревогу и потому мешает продвижению терапии вперед.
Здесь рассматривается защитное поведение обеих сторон — и пациента, и терапевта. Но кто бы ни разряжал свою тревогу, это всегда происходит в результате совместного решения всей терапевтической группы. Цель отыгрывания в поведении зависит от стадии процесса терапии. В статье описываются разновидности такого поведения и способы решения возникающих в связи с этим проблем — те же самые способы, что предлагались и для решения проблем контрпереноса.
Практика ко-терапии, начатая в 1945 году для исследования сложных случаев, придала нам неведомое до того чувство силы, так что несколько лет спустя мы решились начать работу с семьями. И столкнулись с новыми проблемами, ранее остававшимися в тени. В нашей группе мы постоянно продолжали обучаться психотерапии, привыкли критиковать работу друг друга, поскольку часто сидели на терапии вдвоем. Поэтому в 1955 году мы осмелились отойти от традиционных форм работы и стали вовлекать в терапию супруга или семью почти с каждым пациентом.
В системе ко-терапии проблема отыгрывания в поведении является проблемой команды, когда же терапевт работает один, подобное высвобождение тревоги превращается в нападение на другого человека. Мы уже писали о разнице между отыгрыванием в поведении и терапевтическим взаимодействием в поведении (Whitaker & Malone, 1963). Отыгрывание в поведении любого члена терапевтической группы снижает эмоциональное напряжение между ними. А терапевтическое взаимодействие в поведении, напротив, не снижает остроту чувств и поэтому помогает терапевтическому процессу. Когда поведение снижает напряжение чувств или тормозит ход психотерапии, его следует отнести к отыгрыванию в поведении, которое представляет собой поведенческое выражение нарушения баланса переноса и контрпереноса. Это необязательно свидетельствует о тупике взаимоотношений, запутавшихся в переносе и контрпереносе. Мы уже упоминали, что любой акт отыгрывания в поведении происходит с молчаливого согласия всех участников. Возможно, что такой неосознанный и тайный сговор касается не только вопроса, кто разорвет эмоциональную связь, но и того, как он это сделает. Оглядываясь в прошлое на свою работу в интернате для малолетних правонарушителей в Ормсбай Виллидж10, я теперь ясно понимаю, что в некоторых случаях парни угоняли машины в ответ на мое скрытое восхищение перед их антагонизмом к социальным структурам. Одновременно такое поведение защищало нас от паники. Они были сильными людьми, я — начинающим терапевтом. Я не чувствовал себя в своей тарелке, равно как и они.
Определение семейной терапии
Существует столько же определений понятия “семейная терапия”, сколько существуют центров, где ею занимаются11. Данный термин может включать или не включать в себя терапию супружеских пар. Иногда под семейной терапией подразумевают ситуации, когда разные терапевты работают по отдельности с мужем и женой или когда несколько терапевтов работают со всеми членами семьи, но каждый сам по себе и в своем кабинете. В некоторых центрах семейная терапия рассматривается как разновидность “многостороннего подхода” к проблеме. Мы предполагаем, что семья есть биологическая единица и именно ее считаем (за редкими исключениями) нашим пациентом. Семья — миниатюрное общество со своей собственной уникальной культурой, обычно незаметной для внешнего мира. Она также представляет собой психологическую и социальную целостность, как и вообще любая малая группа. Но в наших рабочих терминах и в настоящей статье мы будем называть семьей группу, где присутствуют два поколения. Эта группа — наш пациент, и для простоты далее мы сосредоточимся на искусственной группе, состоящей из отца, матери и ребенка (или нескольких детей).
Главная жалоба, с которой обращаются семьи, может быть какой угодно. Сын крадет машины или дочь слишком застенчива и замкнута, а может быть, у взрослых возникают психологические проблемы. Другой вид жалоб — симптом всей семьи. Взрослые решили, что их семья плохо способствует развитию, дома не хватает тепла или слишком напряженная обстановка; в некоторых случаях семьи просто хотят жить лучше или стать более творческими. Третья группа семей приходит к нам, продолжая свою предыдущую, более специальную, работу с терапевтом. Отец говорит: “Мне стало лучше, жене тоже, брак — крепче, но мы хотим, чтобы и дети участвовали в таком росте, чтобы семья получила то же, что получили мы в нашей индивидуальной терапии”.
Терапевтическая цель
Надо точно определить, к чему мы стремимся в семейной терапии. Хотя мы и придерживаемся общего принципа, что любое новое переживание представляет ценность, семейная терапия неимоверно сложна для терапевта. Мы вынуждены признать, что эта работа по силам только команде из двух терапевтов. Хороший хирург легко проведет обычную операцию по удалению аппендикса, но даже самый опытный хирург не рискнет делать сложную абдоминальную операцию без компетентного коллеги. Семейная терапия — это сложная операция. Более того, мы убеждены, что никакая терапевтическая команда не в силах справиться с семьей. Манипуляции помогают при неглубоком вмешательстве, но не при серьезной операции. Мы манипулируем переносом, но невозможно установить контроль за происходящим в семье. Даже понимание семьи невозможно на данном этапе наших познаний. Мы недостаточно опытны, недостаточно мудры и, видит Бог, недостаточно взрослы для того, чтобы субъективно вовлекаться в жизнь семьи и при этом объективно воспринимать нашу субъективность в отношении к процессу, происходящему в ней. Поэтому в семейной терапии перед нами стоит задача — присутствовать, быть в распоряжении семьи, участвовать в ее психологических и социальных процессах, чтобы помочь системе активизировать свои собственные силы исцеления. Мы расшатываем психобиологические процессы семьи в надежде, что природа сделает наше вмешательство конструктивным.
Отыгрывание в поведении
В индивидуальной терапии отыгрывание в поведении происходит в результате тайного сговора пациента с терапевтом. В семейной терапии подобное поведение, притупляющее эмоциональный накал взаимоотношений, может быть проиграно терапевтической командой, всей семьей или одним из терапевтов, какой-то подгруппой семьи или просто одним из ее членов.
Отыгрывание в поведении на семейной сцене похоже на отыгрывание в поведении в группе. Поскольку семейная динамика во многом выражается в межличностных отношениях, динамика семьи почти всегда является динамикой поведенческой. Динамика индивидуальной терапии идет внутри пациента, групповая динамика может и не выражаться в поведении. Силы, действующие в семье, ощущаются всей терапевтической группой, а семья умеет общаться внутри своего организма очень тонко и незаметно. Семья училась своему языку, непонятному окружающим, много лет. Его точность нас иногда изумляет.
Отыгрывание в поведении терапевта
Как было сказано выше, мы считаем, что всякое отыгрывание в поведении происходит по взаимному согласию членов терапевтической группы. Поэтому защитное поведение терапевта или команды терапевтов всегда происходит в результате скрытого сговора с семьей. Чтобы не делать далее бесконечных отступлений и оговорок, мы предполагаем, что двое терапевтов, работающие с семьей, — это достаточно подготовленные, опытные, зрелые люди, у них стабильные, глубокие личные и профессиональные взаимоотношения. Совместная работа двух терапевтов с одним пациентом или с парой служит хорошей подготовкой для их последующей работы с семьями.
И, несмотря на все сказанное, первый и самый очевидный тип отыгрывания в поведении представляет собой раскол внутри терапевтической команды.
Терапевт Джо говорит своему коллеге после встречи с семьей: “Билл, сегодня ты был слишком жесток с матерью этого семейства”. Единство терапевтов нарушено, очевидно, что Джо хочет, чтобы Билл так же бережно относился к матери, как это делал сам Джо. Конечно, если бы они были открыты в большей степени, то по ходу дела поговорили бы о своих отношениях в присутствии семьи, и это стало бы частью терапевтического процесса. Сам факт, что разговор происходит после встречи с семьей, ясно свидетельствует о том, что поведение Джо направлено на снижение эмоционального уровня взаимоотношений.
Второй вид отыгрывания в поведении — административные ошибки. Например, неудачно выбранное время встречи, когда один из терапевтов постоянно опаздывает, что делает семью более зависимой. Или оговорки терапевта, показывающие, что он хочет уйти от взаимоотношений.
В-третьих, терапевт убегает от взаимоотношений, эмоционально разряжаясь с помощью размышлений о семье, фантазируя о ней вне встречи или посредством своего неадекватного поведения во время терапии.
В-четвертых, терапевт может обнаружить, что он создает дистанцию. Или увлекается интерпретацией, или показывает общее безразличие, холодность, недостаток внимания, погружается в “научную объективность”, или просто замыкается в себе.
Пятый вид отыгрывания в поведении проявляется в том, что терапевт или оба терапевта во время работы в техническом смысле слова регрессируют к более примитивным видам помощи: ободряют, вдохновляют, читают лекции или запугивают.
Шестой вид поведения, помогающего избежать тревоги; терапевт вовлекается в тесные взаимоотношения с одним из членов семьи, тем самым убегая от отношений с семьей как с единым целым.
В-седьмых, терапевт во время встречи может проецировать свою злобу достаточно прямо. Например, Джо говорит: “Отец, вы напоминаете мне моего бывшего сержанта”. Или это может быть проекцией сексуальных чувств. Например, Билл заявляет: “Я вдруг заметил, что Сьюзи ходит совсем как моя жена”. И конечно, терапевта может охватить чувство вины по поводу собственной профессиональной неполноценности. Факт бессилия помогает терапевту оправдываться бессилием за бегство от взаимоотношений.
Лучше, если отыгрывание в поведении происходит во время встречи с семьей. Это хорошо, что в данной ситуации все вместе вынуждены работать над данной проблемой, что коллега на основе такого поведения может оценивать терапевтический процесс. Более того, поскольку не всякое поведение является нездоровым, честное отыгрывание в поведении, внесенное в терапевтические взаимоотношения, не только не притупит накал чувств, но, напротив, но может выразить и усилить чувства.
Отыгрывание в поведении семьи
В ходе терапии происходит постепенное объединение семьи, усиливается близость между ее членами и одновременно — близость к терапевтической команде. Отыгрывание в поведении снижает тревогу, и его характер зависит от стадии терапии. На ранней стадии оно препятствует развитию взаимоотношений, на средней — снижает давление, необходимое для изменения, а на поздней — представляет собой попытку отложить окончание терапевтических взаимоотношений. Мы не будем, говоря о проявлениях отыгрывания в поведении, связывать их с определенной стадией терапии, поскольку подобная схема достаточно искусственна и на практике не встречается в чистом виде. Сделаем лишь одно замечание. Поведение “резинового барьера”, о котором говорит Лаймен Вайн, более всего характерно для средней стадии терапии.
Во время терапевтической встречи
Защитное поведение семьи столь же многообразно, сколь разнообразны сами семьи. Оно отражает не только единство и стиль семьи, но и ее структуру. “Псевдовзаимность” на ранних стадиях работы можно ошибочно принять за признак единства семьи. Ничто не может находиться дальше от истины. Это тайная попытка семьи “уработать терапевта до смерти”. Постоянная тема, с которой приходит такая семья: “Доктор, нам нужна помощь, пожалуйста, сделайте что-нибудь”. Та же самая уловка, которую использует пациент с истерическим характером, заявляя: “Я не знаю, как мне быть, помогите, пожалуйста”. На терапевта вываливают гору проблем: это их вклад, а остальное — дело терапевта. Также семья может замкнуться на себе, вообще исключив терапевтов. Они говорят между собою, и разговор носит легкий параноидный оттенок. Если терапевты не очень уверенно себя чувствуют в компании друг друга, то им покажется, что их исключили и объявили бойкот, да это и в самом деле так. Если они выдержат такое испытание, или, говоря другими словами, если они готовы переносить тревогу, следующим шагом семьи будет отрицание своего единства. Тогда встреча превращается в светскую вечеринку, и вся семья единодушно забрасывает терапевтов предложениями вступить в отношения один на один12. Разновидностью такого поведения может быть, как мы ее называем, “групповая проституция”: каждый член семьи начинает обсуждать свои проблемы прошлой недели, ожидая, что терапевт даст ответы на все вопросы и предложит правила на следующую неделю, чтобы она прошла лучше. Поскольку терапия высвобождает тревогу, семья вступает в серию ролевых битв, разнообразие которых просто бесконечно. Это, например, может быть борьба за то, кто должен говорить от лица семьи или за то, кто начнет исповедь о напряженных моментах жизни семьи.
“Козел отпущения” — очень распространенная роль в семье. В течение долгих лет в семье создается ситуация, когда кто-то один из ее членов несет на себе симптом болезни всей семьи. Чаще всего это бывает ребенок. При защитном отыгрывании в поведении семья возвращается к данному типу поведения. Оно очень разнообразно. Энни, старшая дочка, слишком замкнутая, Сьюзи, средняя — совершенно безответственная, а Бенни, младший, слишком инфантильный, — и на них все нападают. Когда такое поведение становится явным и обговаривается на терапии, члены семьи интегрируют связанную с ним тревогу, и тогда все могут напасть на отца или исключить его из семьи. Маргарет Мид сказала, что отцовство есть социальное изобретение. Не требуется слишком большого воображения, чтобы понять, насколько биологическая связь матери и детей сильнее и глубже, а отец — просто какое-то психологическое и социальное приложение.
В семейной терапии может начаться общий танец, в котором терапевт и отец оба исключаются из семьи. Если процесс работы продолжается, семья начинает защищаться от тревоги, раскалываясь на подгруппы. Или они могут объединиться, защищая одного “слишком чувствительного” человека. Все ведут себя как старая дева, кудахтающая вокруг слабого человека. Таким образом семья удаляется со сцены терапии.
От общего сопротивления семья легко переходит к сражениям разных подгрупп. Дети объединяются против старшего поколения, или отец с матерью вместе критикуют детей, или же мужская часть семьи борется против женщин. За всеми этими механизмами кроется тайный сговор с терапевтом.
Вся группа должна в достаточной степени принимать свою тревогу и в достаточной мере сотрудничать в одном общем деле, чтобы терапия продвигалась и углублялась, невзирая на все эти защиты. И отчасти такой попытке создать терапевтическое единство людей, которые растут вместе, мешают просто блоки общения. Старая сеть общения в семье разрушена, и невербальные сигналы нередко прямо противоречат словам. Глубокое замешательство не дает развиться открытости и честности.
Надо отдавать себе отчет, что наши представления о динамике терапии крайне несовершенны и неполны. Удивительным феноменом являются колебания проекций или игра в прятки членов семьи с терапевтом. В них выражается гнев зависимости, появляющийся, если терапия становится значимой для всех участников.
Вне встречи
Мы искусственно отделили отыгрывание в поведении, происходящее во время встречи с терапевтом, от подобного невидимого для терапевта защитного поведения, которое разыгрывается между встречами. Второй тип отыгрывания в поведении может серьезно нарушить ход терапии. Мы выделили его в отдельную группу еще и потому, что терапевт зачастую дает прямые инструкции семье, чтобы предотвратить подобное поведение. Типичной проблемой является то, что члены семьи как бы продолжают терапию за дверями кабинета терапевта. Члены семьи в течение многих лет так или иначе разговаривали о своих проблемах. В ходе терапии их способность общаться повышается, а это увеличивает тревогу, и естественно, что они подводят итоги, спорят, обсуждают терапию или пытаются помочь друг другу вне встречи с терапевтом. Это уменьшает заряд чувств, который они приносят с собой на следующую встречу, и потому, разумеется, является прекрасным способом справиться с тревогой, — как их собственной, так и терапевта. Поскольку подобная псевдопсихотерапия рождает некоторые инсайты, семья может и не подозревать, что это снижает их включенность в терапию.
Нередко происходит уход к суррогатному терапевту. Семья внезапно решает в воскресенье пригласить бабушку и обсудить с ней все свои проблемы, кто-то идет потолковать со священником, с семейным врачом. Дети могут поделиться своими бедами со школьным консультантом, папа — с партнером по гольфу или с секретаршей, мама — с соседкой или даже с приходящей прислугой. Они спускают пары, и очередная встреча с терапевтом проходит очень спокойно и, следовательно, она почти бессмысленна. Они даже могут преподнести терапевту букетик маленьких инсайтов, собранный в течение недели, в качестве взятки. Разумеется, терапевт не сможет участвовать в таком разговоре достаточно лично и глубоко.
Семья может попытаться избавиться от тревоги еще одним способом — вступив в административную битву с терапевтической командой. С усилением уровня чувств отыгрывание в поведении также приобретает все большую серьезность. Возможны эмоциональные взрывы. Например, Сонни попадает в маленькую автомобильную аварию, и семья не может продолжать терапию, потому что должна платить за машину. Отец теряет работу. В семье у кого-то возникают серьезные неприятности с законом или происходит обострение хронической астмы или язвы желудка. Эмоциональный взрыв порой может привести к ссоре с родственниками. Все это ставит профессионалов в оппозицию к семье.
Как обращаться с проблемами
отыгрывания в поведении
Защита терапии от разрушительного отыгрывания в поведении похожа на защиту от проблем контрпереноса. Лучший подход — профилактика. Терапевт должен ясно дать понять: семейная терапия — это борьба и она предполагает тревогу, — тревогу терапевтов и тревогу семьи как целого. Семья должна понимать, что за любое отыгрывание в поведении — и в кабинете терапевта, и вне его — отчасти ответственна она сама. Члены семьи должны также понять, что исправление последствий подобного поведения — дело не одних только терапевтов, но и всей семьи. Разумеется, терапевт не может четко обозначить такую установку, если сам в нее не верит.
Тревогу можно сделать более терпимой, если во время терапии она свободно выражается. Это возможно только в том случае, когда участники готовы выражать свою патологию во время встречи. Близость требует, чтобы мы отказались от своей гордости, а многие терапевты (благодаря восхищению, которым их окружают пациенты) все больше и больше возводят вокруг себя стену гордости. Не так-то легко признаться перед семьей: “Мы застряли”, а потом объяснить, что отчасти это произошло по нашей вине. Легче сделать это в том случае, если вы заранее объяснили, что любое отыгрывание в поведении происходит с молчаливого согласия всех участников. Достаточно трудно ставить рамки для отыгрывания в поведении, происходящего вне встречи, если не сформулировать специальных правил, превращающих терапевтическую встречу в изолированное переживание. Семья должна нести всю свою тревогу к терапевту.
С защитным поведением семьи легче справиться, если терапевту свойственны постоянные колебания между принятием на себя родительской роли и отрицанием ее перед членами семьи. Терапевт должен опасаться того, как бы его чувства по отношению к пациенту не стали для него центром мироздания. Он сам должен быть своим центром. Когда терапевт борется с защитным поведением, он превращается как бы в пациента, показывая членам семьи образец. Смирение заставляет его открывать перед ними свою собственную патологию, а это провоцирует пациентов на подобное раскрытие. Важно, чтобы терапевт “исповедовался”, когда открывает в себе нечестность. Полезно показывать пациенту свои явно не имеющие отношения к делу ассоциации или фантазии, которые приходят во время встречи с семьей, иногда даже фантазии, возникающие вне этого времени.
Может показаться, что консультант не поможет в столь запутанной ситуации, но часто он способен сделать удивительно много. Он может обратить внимание на разделение двух терапевтов, в результате чего один стал зависимым, а второй — отстраненным. Он может заметить какие-то аспекты динамики семьи, невидимые для терапевтов, настолько погруженных в ситуацию, что они уже перестали различать лес за деревьями. Также мы знаем, что часто пациент получает возможность расти тогда, когда терапевты “сдаются”, тем самым выходя за пределы своего бреда величия. Мы настолько верим в то, что можем помочь другим, что этот бред сам становится динамической силой любого отыгрывания в поведении.
Заключение
Семейная терапия представляет неимоверную трудность для терапевта, и одновременно это прекраснейшая возможность для изучения человека и для его роста. Если бытие есть становление, то действие — это цена, которую платят за право не быть.
Ужасное напряжение такой работы порождает тенденцию выпускать пар эмоций посредством отыгрывания в поведении. Это и есть бегство от бытия в дела. Ему надо противостоять, иначе без достаточной интенсивности конструктивной тревоги не произойдет изменения ни в членах семьи, ни в самих терапевтах.
Мы пытались очертить разнообразие вариантов отыгрывания в поведении в семейной терапии. Приносим свои извинения за то, что все наши объяснения страдают неполнотой, поскольку речь идет о таких сложных предметах. Любая дискуссия об отыгрывании в поведении в семейной терапии напоминает дискуссии о динамике терапевтического процесса. А в понимании динамики семейной терапии мы также крайне далеки от совершенства.
Проблемный подросток: член семьи,
исключенный за неуспеваемость
Настоящая глава показывает, насколько Витакер в семидесятых годах продвинулся в понимании психопатологии как проявления семейной системы. Он выбирает подростка, чтобы на этом примере показать роль семьи в формировании симптомов, поскольку подросток, на первый взгляд, не слишком активно участвует в жизни семьи. Витакер утверждает: нельзя оценить, насколько человек связан со своей семьей, по тому, сколько он проводит в ней времени или как далеко от нее живет.
Семейная терапия предоставляет подростку возможность отделиться от своей семьи и индивидуировать, а не просто физически от нее убежать. Родителям она помогает установить взрослые отношения на равных с выросшими детьми. Когда у подростка имеются какие-либо нарушения, семейная терапия для него — единственный шанс успешного отделения от семьи.
В то время (впрочем, как и сейчас) подросткам чаще всего предлагают индивидуальную терапию. Витакер признает, что подобная терапия нередко проходит удачно, но все же что лучше помочь подростку вернуться в семью и затем научиться новой независимости от нее. Он рассматривает проблемного подростка как человека, исключенного из семьи за неуспеваемость.
Терапию подростков часто рассматривают как что-то среднее между игровой терапией для детей и взрослой аналитической терапией. В пятидесятые годы терапия подростков была хаотичной, поскольку психотерапевты не умели обращаться с его глубокой амбивалентностью: подросток то стремится к зависимости, то через мгновение ненавидит свою зависимость от терапевта и тогда борется за свою свободу и злится на терапевта, который его в этом не поддерживает. Тем не менее, к началу шестидесятых появились мягкие техники терапии для подростков, и это привело к значительным успехам. Умелый терапевт может почувствовать, какую дистанцию взаимоотношений способен перенести данный подросток, и предоставить ему самому сокращать данную дистанцию в поисках близости или удаляться, если ему нужна автономия. Таким образом ни его полная зависимость, ни всевозможные виды отвержения авторитетов не будут нарушать движения терапии.
Тем не менее, в семидесятых годах феномены переноса и контрпереноса при терапии подростков остаются крайне сложными. Современный терапевт сталкивается не только с обычной амбивалентностью подростка, но и с реальностью культурного барьера между поколениями во всей ее сложности. Подросток считает для себя унижением просить помощи у взрослого терапевта, принадлежащего к истеблишменту, поэтому он неохотно соглашается на терапию. К тому же, группа сверстников внушает ему, что взаимоотношения с кем-то из старшего поколения — предательство своей группы, и это приводит к прекращению терапии по инфантильным мотивам. Но возможность получить помощь от своих сверстников для подростка также ограничена. Сверстники могут чувствовать эмпатию очень избирательно, в тех случаях, когда напряжение касается приемлемой социальной роли. С ними легко бывает поделиться злобой или обидами на родителей, но трудно — депрессией или какими-то странными переживаниями. Тем не менее, терапевт, работающий творчески, может научиться преодолевать барьер поколений. При этом он пользуется своей терапевтической юностью и гибкостью в терапевтических взаимоотношениях. Некоторые терапевты используют музыку, жаргон и прочие компоненты, привнесенные в современное общество молодежью, для того, чтобы перешагнуть барьер общения.
Во время Всемирного психиатрического конгресса в Мехико в 1971 году я был потрясен тем, что за полдня, посвященных вопросам терапии подростков, ни слова не прозвучало о семейной терапии. Единственным методом, о котором все говорили, была работа с переносом. А я бы хотел сказать, что семейная терапия — хороший подход к лечению каждого подростка.
Очевидно, что подросток приходит на терапию индивидуально, он страдает от внутрипсихического напряжения, но это не значит, что единственный верный подход к его проблемам — индивидуальная терапия. Хороший врач не всегда старается устранить боль, а индивидуальная терапия, даже когда ей занимается очень заботливый и опытный терапевт, нередко похожа на укол обезболивающего больному, у которого острый аппендицит. Это не решает проблемы, но усложняет ситуацию, поскольку картина возникновения симптома затемняется.
Фрейд с его ревностным изучением внутрипсихических конфликтов взрослого способствовал тому, что мы плохо воспринимаем тот цельный контекст, в котором появляется симптом. И это особенно очевидно при терапии подростка и при проявлении его внутренней боли. Обыкновенный проблемный подросток разорвал связи со своей семьей преждевременно, кровавым образом, и это не приносит в дальнейшем удовлетворения. После такой операции и у него, как и у его семьи, остаются незажившие раны. Часто такой разрыв в эмоционально незрелом возрасте приводит к еще большей зависимости и неразрешимой амбивалентности, к колебаниям между близостью к семейной системе и бегством от нее. Если принять такую картину, то становится очевидным, что терапия должна стать возвратом в семью и работой над завершением травмы потери. Подросток — это тот, кто не смог доучиться в семье на старших курсах, когда был уже близок к статусу взрослого человека и к выпускной церемонии с вручением диплома об окончании семьи. Ему нужно снова вернуться в семейную систему и заново отделиться от нее. И сделать это не на манер развода, а при совместном решении семьи, в среде, где и взрослые и дети свободны от рабства.
Существует гипотеза, что напряженность подросткового возраста — вещь необязательная, и можно конструктивно покинуть семью в форме особой выпускной церемонии так, что все остаются довольны. Это образно выразила одна студентка старших курсов, которая была у нас со своим мужем на супружеской терапии. Они в течение года занимались на терапии тем, что пытались предотвратить узаконенную операцию по разделению сиамских близнецов, именуемую разводом. На последней встрече терапевт заговорил о том, как это прекрасно, что он их больше никогда не увидит. Студентка удивленно сказала: “Я бы мечтала услышать такие слова отца и матери хотя бы один раз. Тогда бы я могла уйти без чувства вины”. Через перенос она вошла в терапевтическую семью и вышла из нее, но ей хотелось сделать то же самое со своей настоящей семьей, со своими родителями. Понятно, что супружеская терапия — не слишком удобная форма работы для того, чтобы вернуться в свою семью и выйти из нее, уже завершив свое взросление.
Каковы же показания и противопоказания для семейной терапии? Я убежден в том, что противопоказаний не существует, при том условии, что семья доступна и терапевт готов иметь с ней дело. Это относится как к подростку, так и к взрослому, но в случае с подростком — особенно очевидно. Именно семья контролирует жизнь подростка, неважно, проводит ли он в ней свое время, живет ли в ней вообще или же находится где-то вдали.
На терапии могут присутствовать и приемные родители, какие-то люди, временно взявшие на себя ответственность за подростка, одинокая мать, уставшая от борьбы за экономическое выживание и от заботы о детях, но все равно семейная терапия имеет дело с внутрипсихической семьей, которая в основном и определяет динамику терапии. Отец-алкоголик, ушедший лет десять назад, остается с подростком и его матерью в виде реально присутствующего призрака. Если на терапию явятся социальный работник, занимающийся правонарушителями, или школьный консультант, они не только усилят терапевтическую команду, но и научат родителей гибкости, а терапевтам откроют незнакомые аспекты работы.
Мужчина сорока пяти лет совершает попытку самоубийства в том самом возрасте, когда ее совершил его отец. Мать звонит своей замужней дочери и одним маленьким замечанием портит ей настроение на целую неделю. У дочери тридцати пяти лет вдруг возникают проблемы в поведении, что заставляет подключиться ее родителей. Все эти бесконечные истории показывают нам власть семьи. Терапевты, культурные суррогаты родителей, должны заполнить в культуре пустое место, образовавшееся после исчезновения ритуалов, в которых подросток превращается во взрослого, когда этот переход празднуется как победа над зависимостью и обретение места среди взрослых людей (Flescher, 1968).
Дж., студент девятнадцати лет, которому в университетской клинике назначили препараты лития и стеллазин по поводу маниакального психоза, переезжал из города в город и начинал работать с различными терапевтами, а затем быстро покидал их. Он прекратил прием лекарств и не хотел ходить к терапевту. И терапевт, в конце концов, решил встретиться с его матерью, отцом и сестрой. В середине этой встречи, продолжавшейся четыре часа, он указал матери на ее хаотичность, и тогда мать первый раз в жизни рассказала своему девятнадцатилетнему сыну о том, как сама пять лет ходила к психотерапевту с того момента, как сыну исполнилось три года, как она скрывала это от своей матери, рассказывая, что ходит — пять раз в неделю на протяжении пяти лет — к стоматологу. Тогда в разговор включился отец и объяснил, что вовсе не занятия наукой мешали ему уделять время и тепло своему сыну. Он рассказал о кошмарных ночах, пережитых им в то время, когда мать лечилась у психотерапевта, и потом, когда их сын находился в психушке. С той поры, как Дж. исполнилось восемь лет, отец старался изо всех сил скрывать от всех ужасную тайну психического нездоровья матери и охранять ее от любых напряжений, чтобы та не сошла с ума снова. Он, разумеется, и в этот раз пытался сделать так, чтобы она ничего не рассказывала. Реакция сына была потрясающей: “Так вот почему, отец, ты всегда готов был меня убить, когда я пытался отстаивать себя перед мамой! Я-то и не подозревал, что тебя вообще кто-нибудь волнует, я или мама, и никогда в жизни не видел, как ты плачешь. Это все переворачивает”.
Такие случаи заставляют задуматься: а можно ли было бы разрешить подобную путаницу чувств самой тщательной работой с переносом? Мне бы хотелось, хотя я этого и не сделаю, процитировать Джима Фремо: “Одно объятие родной матери весомее тысячи объятий терапевта”.
Мама Билла звонит из соседнего городка:
— Я по поводу моего сына, ему восемнадцать. Его терапевт, что занимался с ним четыре года, отказался продолжать работу и дал мне ваш телефон.
— Прошу прощения, я общаюсь только со всей семьей.
— Значит, вы отказываетесь?
— Я занимаюсь с семьей.
— Хорошо, я тоже приду.
— А его отец?
— Это сложно. Мы ведь развелись.
— Тогда вам следует обратиться к кому-нибудь еще.
— Ладно, я приведу его.
— А с кем вы живете вместе?
— С моими родителями.
— Попросите и их прийти.
— Это бред. Они не имеют отношения к моему сыну.
— Тогда найдите себе другого терапевта.
— Ладно, я их приведу тоже.
— А родители вашего мужа живы?
— Но они живут за пятьсот миль от нас.
— Хорошо, пускай ваш муж позвонит мне, если не сможет их сюда вытащить.
И все они собрались за исключением матери отца, которую прихватил ревматизм. Встреча продолжалась три часа, и сначала я, по своему обыкновению, обратился к отцу папы со стандартным вопросом:
— Что творится в семье?
Затем я задал тот же вопрос отцу мамы, матери мамы, затем самим папе и маме. Целый час я не слышал ничего интересного, лишь лозунги лживой семейной солидарности: “Все прекрасно. Мы дружная семья. Непонятно, почему мальчик так расстроен”. Наконец, я обратился к идентифицированному пациенту, к парню:
— Послушай, вся твоя семья какая-то безумная. Никто ничего не видит дальше кончика своего носа. Все говорят о том, какая это прекрасная семья, а меж тем ты уже четыре года сходишь с ума.
Тогда Билл, которому ставили диагноз “шизофрения”, сказал:
— Я могу объяснить вам, в чем тут дело. Мой дедушка, отец моего папы, приходится младшим братом бабушке, матери мамы, и “старшая сестрица” всегда говорит “братишке”, что ему надо делать, с пятилетнего возраста. Я — жертва в этой войне трех поколений, из меня они непременно хотят сделать хасидского учителя, и я не знаю, как мне вылезти из угла, в который я загнан.
Его трудности частично объясняются решением, свойственным многим детям и подросткам, принести себя в жертву ради того, чтобы родителям было хорошо. Трудно разобраться, насколько его эмоциональные нарушения прямо связаны с семьей, насколько — с его психологией, но очевидно, что индивидуальная терапия не могла бы эффективно помочь в этой запутанной ситуации с участием трех поколений. Идентифицированный пациент оказался жертвой войны между слишком могущественными для него силами.
Сью было двадцать лет, и она, без сомнения, находилась в психотическом состоянии. Собралась вся семья, включая взрослых братьев и сестер, уже вступивших в брак и живущих в соседнем штате. Мама и папа рассказывали о том, какая тесная дружба царила в этой теплой семье. Все всегда шло прекрасно, и они не понимали, что случилось с их дочерью. Примерно через полчаса одна из старших сестер сказала:
— Пап, я не понимаю, кому нужны все эти слова. Сью просто не подозревает, в какой семье живет. Мама полгода провела в психушке. Я три года ходила к психотерапевту. А моя сестра к настоящему моменту ходит уже четыре года и будет продолжать. А брат только что начал свою терапию. Почему ты обо всем этом не говоришь терапевту?
Как могла Сью расти в такой скрытной семье? Она никогда не видела честности и открытости по-настоящему близкой и любящей семьи. Семейная консультация помогла Сью понять, что она не белая ворона в своей семье, а родители научились принимать жизнь такой, какая она есть, и выражать свою тревогу и заботу вместо того, чтобы их скрывать.
Идентифицированный пациент чаще всего — лишь верхушка айсберга, и симптом, с которым обращается к нам пациент, показывает хаос в семьи, с которой и надо заниматься как с целостным организмом, больным и страдающим. Семейный симптом может проявиться в психике одного или нескольких “козлов отпущения”. Он может появиться у разных членов семьи одновременно или по очереди. Система контролирует функцию своих отдельных компонентов. Индивидуальная терапия нередко меняет компоненты, но не трогает систему (Whitaker & Miller, 1969).
Билл привел свою жену к терапевту, поскольку у нее были признаки алкоголизма, достаточно тяжелого. Через две встречи терапевт узнал, что Билл коллекционирует репродукции произведений искусства. В их маленьком доме по разным уголкам было распихано около 35000 таких репродукций. Еще через несколько недель выяснилось, что их десятилетний мальчик, наглый и женственный, во многом управлявший семьей, часто пропускает школу из-за фобии. На терапию пригласили школьного консультанта, и он открыл через две недели, что их старший сын семнадцати лет уже полгода как прогуливает школу. Он каждое утро делал вид, что идет в школу, но ни разу не дошел до нее. Семья выглядела такой карикатурой, что я предложил пятнадцатилетнему сыну хотя бы угнать машину, чтобы вписаться в общую картину. Это помогло семье научиться смеяться над собой. А что было бы, если бы я лечил десятилетнего мальчика по поводу фобии школы, мать от алкоголизма или отца в связи с навязчивым коллекционированием? Каждый из них мог бы провести долгие годы в индивидуальной терапии.
Когда подросток уходит из семьи, сам себе придумывая церемонию взросления в виде бунта, когда он рвет отношения с семьей, не разрешая вместе с ними проблемы симбиоза, когда он уходит, не пытаясь вместе с семьей открыто работать над своим отделением (что было бы гораздо лучше, нежели попытки терапевтов облегчить индивидуальную и групповую боль), подросток остается с чувством вины, не имея возможности творчески строить свою новую жизнь. Он вынужден воспроизводить вокруг себя старую семью, чтобы в ней достичь зрелости и совершить свою церемонию окончания детства. И он будет это делать на работе, в игре или в своем браке.
Как же тогда действует индивидуальная терапия? Часто она удается как будто только потому, что перенос оказывается достаточно сильным для изменения динамики всей семьи. Возможно, эффект индивидуальной терапии продолжителен только в том случае, когда произошло изменение в семье. Когда терапия с глазу на глаз с терапевтом оказывается слабее семьи, это ведет к неудачам и не позволяет пациенту расти и отделиться от своей семьи. Вдобавок, такая неудача воздвигает стенку между пациентом и его семьей.
Символическая иллюзия взаимоотношений переноса может в результате индивидуальной терапии стать единственной моделью отношений родителей и детей, но никакая реальная семья, конечно, не способна жить согласно этому бредовому представлению о безграничной любви. И тогда пациент удаляется — географически или психологически — и живет в иллюзорной взрослости, одновременно бессознательно пытаясь вернуться к матери ради несостоявшейся церемонии выпуска из семьи, или же устанавливает новые взаимоотношения. Ярче всего это проявляется, разумеется, в браке.
Встреча с семьей может также послужить основой для ценного взаимодействия с проблемным подростком. Необязательно все, что полезно, одновременно имеет и символическое значение.
Мэри, семнадцатилетняя студентка первых курсов, была направлена на семейную терапию в связи с “потерей границ Эго” и ходит уже три месяца. В воскресенье в 7 часов утра она звонит мне.
— Доктор, мой отец вмешивается в мою жизнь. Он ничего не дает сделать так, как я хочу. Вчера вечером мне захотелось попкорна, а его не оказалось в моей квартире, так что мне пришлось пойти домой, чтобы его приготовить. Я осталась ночевать, и с утра они не оставляют меня в покое, ходят за мной по пятам.
— А вчера вы ходили за ними. Почему бы вам просто не вернуться в свое жилище?
— Это мысль. Я, пожалуй, так и сделаю... Да, у меня еще вопрос: вы меня научите быть настоящей?
— Постараюсь.
— Спасибо вам. Всего доброго.
Совершенно очевидно, что при следующей встрече с семьей разыграется милая семейная драка. С каждым шагом подростка усиливаются колебания маятника близость-автономия между ним и его семьей, поскольку чувство единства и ощущение индивидуации у Мэри и у всех пяти членов семьи постепенно растут. Мэри сначала настолько жаждет любви, что приходит в дом приготовить попкорн, а потом настолько стремится к одиночеству, что уходит к себе на следующее утро. Может ли столь крохотное вмешательство терапевта так же действовать в индивидуальной терапии? Возможно, но велика вероятность, что семья вскоре нейтрализует его эффект. Когда Мэри по своей воле вернулась домой, она прикоснулась к прототипу возрождения к окончательной свободе, к свободе создавать свою собственную семью, не испытывая при этом вечной ненависти к своим родителям и не запутываясь в хаосе треугольных взаимоотношений между будущим мужем и родителями. Терапевт создал новый треугольник, так что теперь Мэри связана не с отцом и матерью по отдельности, но с треугольником родители-Мэри-терапевт. Терапевт помогает Мэри входить в семью и выходить из нее. Так, церемония взросления будет повторяться до тех пор, пока и Мэри, и ее родители не почувствуют себя свободно (Zuk, 1969).
Джим, молодой человек восемнадцати лет, совершил попытку самоубийства в закрытом гараже — почти что успешную. Через три дня после этого события он, его родители, старшая сестра и младший брат встретились с терапевтом в госпитале, где лежал Джим. Стажер доложил о состоянии Джима: в госпитале держится замкнуто, налицо не только признаки депрессии, но и расстройства мышления; мальчик совершенно не может говорить о взаимоотношениях в семье или о причинах попытки лишить себя жизни.
Во время разговора с семьей, когда папа, мама и двое детей пытались описать жизнь дома, пациенту был задан вопрос:
— Кто в семье желает твоей смерти?
— Никто.
— Кто-то должен быть. В самоубийстве всегда участвуют по меньшей мере двое.
— Может быть, папа. Он всегда сходит с ума, глядя, как я общаюсь с мамой.
— Что вы скажете, папа? Вам не приходило в голову, что жизнь стала бы лучше, если бы ваш сын умер?
Семья, разумеется, пришла в ужас. Отец возмущался, но старшая сестра заявила, что может понять, почему я задал такой вопрос. Она также признала, что ее брат отчасти прав. Терапевт продолжал разговаривать с Джимом:
— А если бы тебе удалось себя убить, представь себе это. Долго бы отец оплакивал тебя?
— Две недели.
— А мать?
— Два месяца.
— А твой брат?
— Долго.
— Сестра?
— О, всю оставшуюся жизнь.
— А какие бы тебе устроили похороны?
— Не представляю.
— С красивыми корзинами со множеством цветов, с толпой народа?
— Похоже на то.
— Что они сделают с твоей одеждой?
— Не знаю. Может быть, отдадут брату.
— А что будет с фотографией твоей девушки, с твоими личными вещами?
— Скорее всего, сожгут.
— Что будет с твоей комнатой?
— Не знаю.
— Ты хотел бы, чтобы тебя похоронили рядом с твоими родными?
— Думаю, да.
— Твоя девушка придет на похороны?
— Скорее всего, нет.
— Ты думаешь, тогда у нее появится новый парень?
— Наверное.
Такое исследование динамики ненависти в семье и прямое обращение к внутренней фантазии типа “я умру, а им тогда будет стыдно” представляет собой техники семейной терапии, которые было бы трудно себе представить в индивидуальной работе. Присутствие матери, отца, братьев и сестер вносит в эту фантазию измерение реальности и, возможно, служит прививкой от суицидальных попыток в будущем. Тот факт, что Джим начинает воспринимать враждебное отношение отца и он сам выражает откровенный цинизм, говоря о матери и брате, изменяет внешнюю, а может быть, и внутреннюю динамику взаимоотношений семьи. Терапевт стремится возвратить Джима в семью, чтобы он мог работать здесь над своим полноценным отделением и уйти из семьи в свою новую жизнь, а не на кладбище.
Семьи среднего класса обращаются к терапевту по своему желанию. Бедные семьи обычно делают это под давлением общества: школы или полиции. И с такими семьями терапия, базирующаяся на инсайте, часто не работает. В подобном случае терапевт может манипулировать семейной динамикой для того, чтобы справиться с проблемой.
Билл, мальчик одиннадцати лет, был предметом восхищения своего девятилетнего брата Майка. Зато отец относился к обоим с полным безразличием, равнодушно взирая на бесконечные слезы матери.
Мать. Я ничего не могла поделать с Биллом с тех пор, как ему исполнилось восемь лет. Это был ужасный год. Моя мама умерла, я вам говорила, она жила с нами вместе.
Терапевт (отцу). А вы можете справиться с Биллом?
Отец. Заниматься детьми должна мать. Меня это не касается.
Терапевт (матери). Вам не кажется, что муж иногда подмигивает мальчишкам и смеется над вашими страданиями?
Мать. Нам с ним бывает трудно. Иногда он поступает так, как будто ненавидит меня.
Терапевт. А вашу маму он тоже ненавидел?
Мать. Да, они все время ругались.
Терапевт. А теперь вы — мать, и он ведет против вас холодную войну, используя детей. Может быть, раз уж вы решили быть матерью, то сможете победить мальчишек?
Билл. Если она нас тронет, папа даст ей по морде, как бабушке.
Мать. Замолчи, Билл. Твой отец ни разу не поднял руку на меня и никогда этого не сделает.
Билл. Заткни свою пасть, ма.
(Внезапно отец взмахнул рукой и ударил Била по носу.)
Отец. Мне не нравится, как ты разговариваешь с мамой.
Появились слезы: облегчения — у матери, испуга — у Била. Из-за этого испуга пришлось закончить встречу. Терапия на этом не кончилась, но именно данный момент задал ей направление.
Мужчина тридцати пяти лет, решил показать психиатру свою жену, женщину примерно такого же возраста. Терапевт настоял на том, чтобы он сам также пришел на первую встречу. Тринадцать лет они сражались друг с другом, их совместная жизнь была пропитана атмосферой трагедии и жаждой мести. Терапевт потребовал, чтобы на следующую встречу пришли их дети. Родителям это показалось бессмысленным, но они подчинились. Дети, к удивлению терапевтов, оказались достаточно нежными, общительными, развитыми, тепло относились друг к другу, к своим родителям и двум терапевтам. В начале третьей встречи родители спросили: “И зачем же вам понадобились дети?” Терапевт ответил: “Они перевернули наше представление о ваших проблемах. Теперь вы можете сколько угодно говорить о ваших муках, но мы не поверим, что за ними скрывается серьезная патология”. При первом контакте эта пара показалась очень тяжелым случаем. Дети помогли нам понять, что мы имеем дело с семейной проблемой. Последующая встреча с тремя поколениями помогла понять символическую связь матери со своими родителями, которая и явилась источником ужаса ее взрослой жизни. Разрешение проблемы подросткового бунта у матери по отношению к родителям позволило супругам установить отношения на равных, свободные от симбиоза.
Эти тридцатипятилетние подростки не смогли завершить войну со своими родителями. Но каким-то образом третье поколение пострадало незначительно. Как это моглопроизойти? Комплементарность ли характеров помогла им пережить эти проблемы? Или отчаяние зависимых дедушек и бабушек помешало родителям вовлечь в свои проблемы детей? Об этом мы можем только гадать, но ясно одно: важно собрать как можно больше компонентов семейной системы, если мы хотим ее изменить.
Псевдосемья
Поскольку семья не всегда бывает доступна, иногда мы вынуждены работать со псевдосемьей. Группа сверстников часто похожа на семью. Как и в браке, в такой группе существуют и спроецированный образ семьи, и определенные роли.
Майка направили к нам родители из далекого города. Они рассказали, что его привели домой товарищи после попытки отравиться выхлопным газом. На первой встрече его семья присутствовала, а потом они уехали домой на расстояние в тысячу миль, зная, что Майк будет ходить на терапию со своими друзьями. Эта команда состояла из шести парней и одной девушки; девушка была привязана к Сэму, хотя группа единодушно утверждала, что она просто общий друг. Узнав про попытку самоубийства и чувствуя себя отчасти ответственными за это, молодые люди проявили заботу и решили, что хотят помочь своему другу. Сходство с семьей этой группе придавал тот факт, что они два с половиной года жили в соседних комнатах. Из них только Сэм иногда готовил еду, раза два в неделю. Выяснилось, что он обижен и сердит на то, что за эти два с половиной года ни один человек ни разу не предложил ему хотя бы помочь вымыть посуду.
Выяснилось, что Майк откололся от группы и к их неудовольствию уединялся в подвале, где мог по четыре часа подряд играть на гитаре. Им также было очевидно, что их раздражение на Майка повлияло на его попытку убить себя. Масса обид на Майка и друг на друга в конечном итоге помешала им продолжать участие в семейной терапии. Неудача в попытке вовлечь эту группу сказалась на том, что последующая индивидуальная терапия оказалась менее эффективной; ведь динамика этой группы отчасти создала напряжение, породившее суицидальную попытку.
Можно сконструировать модель семьи, используя окружение идентифицированного пациента — с одноклассниками или с друзьями. Тогда терапия превращается в работу с социальной группой. Привлечение социального работника или сотрудника школы может в конечном итоге вытащить на терапию семью пациента, что крайне важно для успеха.
Современная терапия подростков нередко основывается на идее использования семьи как ресурса для пациента. Тогда перед терапевтом стоит задача сделать его семью более любящей, более доступной, более самоотверженной, чтобы подросток, прежде чем покинуть семью, смог почувствовать, что его эмоциональные потребности удовлетворены. На мой взгляд, подобный подход ошибочен. У других членов семьи есть право на свое существование, право приспосабливаться к семье и право на личную инициативу и свободу. Они не должны ориентировать свою жизнь на бунт подростка. Семье нужна поддержка терапевта, чтобы они могли как ненавидеть, так и любить. Они должны бороться за свои права быть группой и быть личностями. Это побочный продукт семейной терапии. Она помогает “козлу отпущения” вернуться в семью, завершить в ней свою индивидуацию и с соответствующей церемонией получить диплом об окончании.
Политика власти в семейной терапии
В этой главе Витакер исследует начало терапии, тот процесс, который он считает “политикой”. Поскольку семейный терапевт не может пользоваться отношениями переноса, являющимися слишком слабыми в семейной терапии, он полагается на то, что Витакер называет “тактикой власти”. Витакер использует свой прошлый опыт работы с психотиками, чтобы показать различные ходы, которые терапевт делает в начале терапии.
Установлено, что обычная парадигма психотерапии, сотрудничество вокруг невроза переноса, не подходит для работы с семейной группой, состоящей из двух поколений. Пассивное развитие невроза переноса не помогает в работе с психотиками, и в семейной терапии данная модель также не способствует успеху. При индивидуальной терапии психотика двусторонний перенос развивается через постепенно растущие интенсивные взаимоотношения, похожие на отношения матери и маленького ребенка. По моему мнению, во многих проблемных семьях необходимую динамику для изменения должен создавать, контролировать и усиливать терапевт, используя динамику власти в группе. Хорошо, когда терапевт или, что еще лучше, терапевтическая команда, расценивает начало терапии как политику — нечто вроде шахматного дебюта. Захват центральных позиций, защита короля любой ценой, бережное отношение ко всемогущей королеве до середины игры, расстановка всех фигур таким образом, чтобы они защищали друг друга, — все эти метафоры можно использовать для понимания причин успехов или неудач в семейной терапии.
Как установить терапевтические взаимоотношения
Терапевтические взаимоотношения устанавливаются в основном по одному из трех типичных способов. Первый — невроз переноса, описанный Фрейдом. Он типичен для отношений с невротиками.
“Доктор, я так желала с вами встретиться, я расстроена. Я замужем пять лет и вчера убедилась в том, что где-то внутри ненавижу своего мужа, а я ведь так его любила и прожила с ним все это время. Как же я могу его ненавидеть?”
Пациентка приходит уже почти с готовым заранее переносом; сомнения заставляют ее стать зависимой от терапевта, который с первого же момента превращается для нее в символического родителя.
По другому отношения устанавливаются с пациентом-шизофреником. Такому пациенту трудно сразу установить символический перенос. Для него характерно — поворачиваться к людям спиной, сторониться других и быть подозрительным. Общение с ним происходит следующим образом:
(Пациент за все время не произносит ни единого слова.)
Терапевт. Я буду приходить в эту комнату каждый день, как вчера и позавчера, нравится вам или нет, и буду проводить здесь один час. В этот раз вы упустили свой шанс. Если вы плюнете мне в лицо, я, наверное, тоже плюну на вас. Если вы меня ударите, я оттаскаю вас за волосы, как это было вчера, и буду колотить вас по спине, как позавчера. Это было весело; я размялся и, думаю, это пошло на пользу вашим мышцам. Когда я вижу, как вы сидите без слов, без движения весь день, мне хочется вас потормошить. И помните: если вы ударите меня, я тогда не знаю, что сделаю... Может быть, положу вас к себе на колени и хорошенько надаю вам по заднице, как поступил бы с ударившим меня трехлетним ребенком. А если вы дадите мне пинка, то я поверну вас лицом к стене и дам пинка в ответ. И совсем уже не знаю, что сделаю, если вы меня поцелуете. А если вы захотите уйти от меня, у нас будут большие неприятности. Наверное, я не позволю вам этого сделать, буду держать вас, чтобы вы не могли подойти к двери. И, кстати, не стоит щелкать на меня вашим волшебным пальцем, потому что, если я щелкну моим в ответ, вы будете убиты. А я вот он, все еще живой.
(Пациент продолжает молчать.)
В семейной терапии происходит то же самое, что и в терапии психотика: нельзя рассчитывать на столь слабый перенос, который выражается в том, что семья к вам пришла и ведет в вашем присутствии светскую беседу. Даже когда семья честно рассказывает о своей истории, это не означает, что она принимает вас во внимание, доверяет вам, воспринимает ваши попытки помочь им измениться. Семья похожа на психотика, их единство крепнет, когда она противопоставляет себя внешнему миру, поэтому ей ничего не стоит исключить вас или же проглотить.
Дон Джексон открыл, что семья с патологией способна поддерживать свой гомеостаз еще сильнее, чем обычная семья, поэтому терапевт должен мобилизовать все силы, чтобы хоть немного изменить ее ситуацию. Мы называем этот ранний период терапии сражением за структуру. Терапевтическая команда создает новые правила в семье, охваченной замешательством, иначе семья отразит любые попытки терапевта, направленные на изменение. Первое правило, которое устанавливает терапевт, утверждает, что он и семья относятся к разным поколениям, отделенным четкой границей. Этим он предлагает родителям образец контроля над ситуацией, контролируя самих родителей. Тогда дети чувствуют себя в безопасной зависимости от благожелательной власти.
Пример 1
“Джим, наша работа с этой семьей наткнулась на огромное препятствие. Отец с головой ушел в работу, скоро заработает себе язву. Мама в своем преданном служении детям потеряла человеческий облик, а дети потеряли ощущение, что их родители — живые люди, отец и мать для них — просто Деловой Человек и Кухарка. Меня также волнует, что если мы будем заставлять их полюбить друг друга, они почувствуют себя совсем плохо”.
Терапевт предлагает также образец борьбы между поколениями — в той битве, которая идет между терапевтом и семьей. А для родителей ценной моделью являются взаимоотношения между двумя ко-терапевтами.
Терапевт должен не только контролировать ситуацию в том смысле, что он решает, кто присутствует на встрече, начинает рассказывать об истории проблемы и так далее. Он также обладает правом в любой момент изменять эти правила. Поэтому второе правило можно сформулировать так: “Я решаю, что и как будет происходить во время терапии”.
Пример 2
“Папа, поменяйтесь, пожалуйста, местами с Мэри”.
“Мама, я хочу, чтобы вы слушали, дайте возможность Джону рассказать о ссоре, которая вчера была у вас с мужем”.
Третье правило: инициатива терапевтического группового процесса принадлежит семье. Иными словами, сама семья должна решать, насколько ее члены могут открываться и в какой мере участвовать, какой уровень тревоги им по силам перенести и о каких семейных проблемах они будут говорить на ранних стадиях терапии. Как только они возьмут на себя такую инициативу, терапевт может участвовать в процессе, ни в коей мере не лишая их этой инициативы.
Пример 3
“Ну вот, мы уже встречаемся третий раз, и никто не осмеливается начать. И, поверьте, я могу ждать долго, дольше, чем вы, учитывая то, что я еще не готов заботиться о вас или об успехах вашей терапии, а ваша семья все снова и снова повторяет старые способы общения”.
Четвертое правило состоит в том, что каждый член семьи должен в равной мере участвовать в семейных тревогах. Терапевту не следует смиряться с ситуацией, когда семья предлагает ему поверить, что один “козел отпущения” несет на себе все семейные тревоги. Надо освободить “козла отпущения” от его непосильного бремени и призвать семью разделить между собой всю тревогу и боль. Хороший способ сделать это — научить всех играть данную роль по очереди.
Пример 4
“Мы начали с алкоголизма матери. Она получает одно очко. Сейчас мы открыли кошмарную болезнь отца — страсть коллекционера, ему два очка. Джон рассказал о своей фобии школы и выдал тайну Генри о его проблемах с полицией. Мэри, а как ты будешь разрушать себя? Может быть, тебе стоит стать семейной героиней и нянчить всех больных вашего семейного госпиталя?”
Пятое правило: вне терапии семья должна жить так, как она сама того хочет; терапевт контролирует только терапевтический процесс.
Пример 5
“Разводиться вам или нет? Лично я решил оставаться вместе со своей женой, а вам ничто не мешает делать так, как вы хотите”.
Шестое правило: терапевт в любой момент может отделиться от терапевтической тревоги, и ему необязательно при этом извиняться.
Пример 6
“Что я думаю о ваших словах? Я не слушал. Мечтал о новом парусе для своей яхты”.
Седьмое правило заключается в том, что терапевт сознательно старается обострить кризис до предела, увеличивая тревогу и неуверенность каждого члена семьи.
Пример 7
“Джим, поскольку Мэри пыталась убить себя, чувствуя, что ты был бы рад ее смерти, то не боишься ли ты, что с нашей психотерапевтической помощью это превратиться в намерение убить тебя?”
Разумеется, терапевт отвечает за то, чтобы стресс подобных хирургических действий был уравновешен наркозом заботы и участия. Но он сам решает, в какой степени будет больно семье и сколько крови она потеряет. Демократический процесс принятия решения тут неуместен, он не породит достаточного для изменения накала тревоги.
Пример 8
“Господа, это доктор X. Доктор X., я пригласил вас, потому что мне стало скучно работать с этой семьей. Отец все время говорит, как все чудесно. Мать не выходит из депрессии, а дети предлагают дальнейшие меры по улучшению семейной жизни, за исключением Джо, которому почти удалось убить себя три недели назад. Наверное, они думают, что у него просто дурная наследственность. Научите меня, как заботиться об этой семье и как стать жестче”.
Самое тяжелое для меня в работе — когда семья, твердая как камень, оставляет полное ощущение бессилия. Во мне рождается желание яростно орать на них за то, что они так дурно обращаются с “козлом отпущения”. Это приводит к невыносимой тоске, часто сопровождающейся телесными симптомами или игрой воображения и фантазии. Однажды при встрече с такой семьей мне привиделись кучи дерьма ростом с человека. Я постепенно научился перевешивать эмоциональный груз на их плечи. Я стремлюсь к тому, чтобы совсем не скрывать моего отчаяния, и полностью отказался от всяких теплых слов ободрения, которые не затрагивают семью и охлаждают сердце терапевта, так что в следующий раз пойти на риск в своей заботе о пациентах ему будет еще сложнее.
Пример 9
“Сегодня наша встреча — попусту потраченное время. Ваш терапевт изо всех сил старался помочь вам измениться — и без толку. Он попросил меня побыть консультантом, думая, что он чего-то не замечает или слишком слаб для работы с вами. Но я вижу, что тоже ничем не могу помочь. Ситуация безнадежна. И через десять лет ничего не сдвинется с мертвой точки. Может быть, вы живете, как можете, и нечего делать из этого проблему, хотя выглядит это печально. Одно утешает: невозможно себе представить, что ваша ситуация станет хуже”.
После такого столкновения с семьей я оказываюсь выбитым из колеи на весь день, теряю аппетит и сон. Я надеюсь, им тоже снятся плохие сны или они почувствуют, что у них появился враг. Объявление войны может мобилизовать семью и заставит ее что-нибудь сделать. Бывают случаи, когда такое вмешательство имело хорошее продолжение. Хотя часто оно не работает, но по крайней мере это увеличивает мое чувство целостности, что кажется мне важнейшим средством в моем росте и самым ценным катализатором их единства.
Символическая сексуальность
в семейной терапии13
Процесс терапии любого вида, как индивидуальной так и семейной, с точки зрения Витакера, есть акт противостояния культуре. Терапевтические взаимоотношения свободны от обычных норм вежливости. Терапевт, в частности, нарушает семейные табу по отношению к таким темам, как насилие и сексуальность.
В этой главе Витакер постоянно повторяет, что терапевт может и должен говорить и заводить разговоры о бессознательных фантазиях членов семьи при условии, что он делает это в атмосфере личной заботы о своих пациентах. Открытость терапевта и его готовность принять любое, самое необычное переживание помогают членам семьи стать более гибкими. Витакер рассказывает о своем стиле терапевтического поведения. Этот стиль позволяет ему обсуждать сексуальность и насилие с детьми и с семьями, с людьми, открытыми для подобного разговора, и с теми, кто боится таких тем.
В процессе семейной терапии, стремясь к тому, чтобы семья достигла большей гибкости в своих ролях и требованиях, предъявляемых друг к другу (ролевая гибкость — признак здоровья семьи), мы сталкиваемся с тем, что одно из главных табу в большинстве семей касается темы насилия. Чтобы работать с этой темой, полезно прогуляться по ней вашими собственными босыми ногами и расширить семейную восприимчивость, оживить чувства тепла членов семьи друг к другу и активизировать их переживания. Нужно косвенно, а может быть, и явно, договориться с семьей, что во время терапии вы не будете скованы обычными запретами и предложите всем исследовать территорию сексуальности и других переживаний, чтобы лучше понять, как в семье люди живут друг с другом. Важно на первых встречах определить, кто в семье подогревает взаимоотношения, а кто охлаждает. В каждой семье существует своя структура ролей, и среди них есть и эти роли семейного термостата. Обычно тепло вносят самые молодые, а функции снижения температуры делят между собой отец и мать. Он основывает свои действия на реальности, она — на морали.
Чтобы терапевт мог нарушать семейную структуру запретов, он сначала должен установить с семьей личные отношения и ощутить в себе заботу о ее членах. Тогда его движения в скульптурной группе семьи, где уже есть четко установленное распределение ролей, будут восприниматься как игра, как проявление нежности, как эксперимент. Надо уметь делать это ненавязчиво. Когда движение терапевта связывает пациента, последнему не остается ничего другого, кроме протеста. Поэтому терапевт должен быть готов уйти в сторону, если он видит, что причиняет слишком сильную боль. Этой цели прекрасно служат двусмысленные разговоры. С их помощью терапевт легко может переходить от двусмысленных фраз о жизни к двусмысленностям о доме, о сексуальных переживаниях, о нежности, о духе игры, о ребячестве. Важно, чтобы терапевт и семья понимали всю ценность подобных разговоров, хотя осознание в данном случае не играет никакой роли, а иногда и вредит. Так или иначе, это расширяет спектр взаимоотношений внутри семьи и обостряет чуткость к табу инцеста. Важно помнить высказывание Эсселина: “Прямое объяснение приводит всего лишь к осознанию. Настоящее обучение происходит путем косвенного общения”. Поэтому терапевту не стоит идти в лобовую атаку. Лучше передавать свои мысли обходным путем, в духе наивной непосредственности. Двусмысленность — ценное средство, а не проблема. Разумеется, существует множество способов сказать о чем-либо косвенно. Можно, например, важно вещать, говоря нечто прямо противоположное тому, что имеешь в виду, и подать это в такой манере, что каждый услышит то, что хочет. Или можно с помощью структуры фразы и ее тональной окраски передать недоверие к своим словам, маскирующим подлинное сообщение. Тон вашего голоса как бы намекает: “Это сообщение с двойным дном”, и тогда пациент или семья почувствуют, что вы говорите не то, что хотели. С некоторыми семьями можно постоянно общаться на подобном языке двусмысленностей.
Важно также понять, что дети без вреда для себя могут принимать участие в любых семейных разговорах. Я уверен, что при них допустимо говорить об убийстве, самоубийстве, разводе, измене, инцесте и так далее и это их не травмирует — при условии, что терапевт действительно лично заботится о жизни этой семьи и действительно старается помочь, а не просто удовлетворяет свое любопытство порнографией чужой семейной жизни.
Вы можете без проблем сказать жене мужа, совершившего измену: “А вы не думали о том, чтобы переплюнуть его? Займитесь этим делом, а мужу предложите стать вашим основным заказчиком, со скидкой”. Такие слова услышат все, и в то же время они оставляют свободу. Терапевт не должен ожидать подтверждения своей правоты или согласия, не должен вступать в споры с семьей. Возможности говорить о сексуальности на символическом языке просто неисчислимы. Например, отец сидит рядом с тринадцатилетней дочерью Джейн, мать — с шестнадцатилетним Джимом. Терапевт во время встречи с ними говорит: “Джим, а в каком возрасте ты перестал спать вместе с родителями? И сразу ли тебя заменила на двуспальной кровати Джейн? Или у родителей было немного времени, чтобы поласкать друг друга? Я это спросил потому, что хотел понять, отпустите ли вы ее, или ей придется оставаться в вашем доме старой девой всю жизнь, чтобы стоять между вами, дабы вы не сошли с ума. Ведь ей уже тринадцать, через три-четыре года у нее появится парень, она может выйти замуж или сделать операцию по изменению пола”. Для усиления свободы и открытости семьи можно поиграть в словесный флирт, полный двусмысленностей — с кем-то из маленьких детей, с бабушкой, мамой и (с большей осторожностью) с отцом или с кем-то из мальчишек. Неплохо при этом заручиться позволением супруга, сказав, например отцу: “Вы не против, если сегодня я немного пококетничаю с вашей женой? Мне кажется, она строит мне глазки, и это прекрасно, мне хочется ей ответить, но боюсь, как бы вы меня не побили”. Отец загнан в угол. Он не может сказать “нет” в такой подчеркнуто треугольной ситуации. Подобным образом можно обратиться к матери: “Надеюсь, вы не будете против, если мы, мужики, поговорим о рыбалке или бейсболе? Вам не придется молчать слишком долго”. В одной семье бабушка семидесяти лет пришла с новой прической. В конце нашей встречи я сказал ей: “Ба, только не приходите никогда сюда одна. Ведь аборт — такая дорогая штука”. Все понимают, что такое высказывание — глупая шутка, и в то же время сам факт, что она пришла вам в голову становится комплиментом и учит семью в большей мере радоваться сексуальности.
Пользуясь двусмысленностями и намеками можно при встрече с семьей, потерявшей отца вследствие развода или смерти, научить детей, как помочь матери познакомиться с кем-то еще. Можно начать разговор о том, как маме грустно спать одной, и на возражение детей, которые скажут, что они залезают к маме в кровать, сказать, что это не то же самое, и предложить им поискать для мамы нового папу. Часто складывается ситуация, когда жена жертвует своей жизнью ради детей, а те пытаются сыграть для матери роль отца. На такой порядок вещей можно напасть — или прямо, или пользуясь двусмысленными разговорами.
Зажатые семьи не говорят о зажатости, но можно начать разговор о сексуальности, пользуясь намеками вместо грубого уличного языка. Нетрудно спросить маму, стал ли папа теплее, чем раньше, в последние дни, или между ними все заледенело. Они хорошо провели эту ночь? Мечтают ли они о другом супруге? Как они считают, хочется ли папе найти другую жену? Есть у него подходящая на примете? И так далее.
Можно, опять-таки используя двусмысленность, спросить: “Кто-нибудь в семье планирует быть изнасилованным?” Один из удачных подходов к теме супружеских отношений — разговор о том, какой ужас бывает, когда муж и жена на самом деле влюблены друг в друга, с них довольно того, что они женаты, у них дети, они спят вместе, если же они вдобавок еще и влюбятся друг в друга, это сделает их ранимыми на всю оставшуюся жизнь. Или, чтобы коснуться темы сексуального взаимодействия в семье, можно беспардонным образом заговорить о внебрачной беременности, а затрагивая тайные опасения родителей, что один из их подростков свяжется с дурной компанией, поставить ситуацию вверх ногами, заявив: “Венерическая болезнь? Ничего особенного, просто дурная болезнь”. А можно подобраться к теме сексуальности, завязав разговор с кем-то из детей. Вы, например, говорите девятилетней девочке при всей семье: “Тебе не кажется, что мама сердита на папу, когда он приходит домой на два часа позднее, потому что она думает, что у него свидание с секретаршей?” Девочка ответит отрицательно, и вы можете свободно уйти от этой темы, но мама с папой услышали о своих фантазиях, и теперь сами заговорят об этом потом.
Обсуждая структуру семьи, можно рассказать о чувственной и сексуальной температуре и предположить, что один из супругов ее повышает, а другой понижает, но неплохо бы меняться ролями, постепенно, на какой-то период времени, на один вечер, или даже на час. Такой внезапный взаимный обмен ролями иногда происходит во время супружеской ссоры: сперва он нападает, а она безучастно молчит, и вдруг все становится наоборот. Надо, чтобы супруги научились быстро менять роли и в сексуальных взаимоотношениях.
Можно затронуть структуру эдиповых проблем в семье, предложив супругам просто жить вместе, спиной к спине, для такой жизни надо просто найти еще одну пару в качестве сексуальных партнеров, или, если секс в узком смысле слова не важен, этой парой могут быть просто сын или дочь, или, что еще лучше и гармоничнее, для него дополнительной супругой может стать секретарша, для нее добавочным мужем — дети, или же его мать будет отчасти заменять ему жену, а для нее вторым мужем станет ее отец. Или можно все это сделать еще более хитрым образом: муж вступит в дополнительный брак со своими партнерами по гольфу, а жена — со своим женским клубом.
Иногда один из них может использовать в качестве добавочного супруга своего психотерапевта, с которым работает индивидуально, или же заменителем внебрачной любовной связи может стать любовь к деньгам. Можно ввести символический аспект сексуальности в семейные разговоры, превратив эдипов треугольник в историю о Давиде и Голиафе. В тех семьях, где один из супругов превращается в великана Голиафа, другой супруг вступает в коалицию с ребенком, из которого вырастает новый Давид, готовый убить Голиафа. Это убийство может быть символическим в виде, например, преждевременной сексуальной свободы дочери-подростка, превращающейся в орудие наказания матери или отца по тайному завету другого супруга. А иногда такая ситуация приводит к тому, что сын накапливает горькую ненависть к отцу и в конце концов нападает на него с кулаками, когда тот обижает мать. Можно коснуться вопроса измены, поговорив о том, что при охлаждении взаимоотношений супруги в качестве любительской психотерапии тайно планируют измену. С помощью неосознанных намеков, косвенных слов, произнесенных при чтении газеты или при пересказе какой-нибудь сплетни, они решают, кто будет изменять. Когда один подчиняется и находит себе любовника или любовницу, другой повышает температуру взаимоотношений, устраивая сражение вокруг данного события. Например, решено, что муж будет изменять, а потом сделает так, что жена это обнаружит. Тогда она вправе ненавидеть его, а он переполнен чувством вины, а затем ей становится доступна радость прощения (иногда такое прощение выдается периодически, например, у жены хронического алкоголика). Это может зайти далеко, как описал О’Нейл в одной из своих книг, когда алкоголик входит в бар и говорит товарищам: “Я наконец-то совершил это”. Они спрашивают: “Что совершил?” И тот отвечает: “Убил жену. Она слишком часто прощала меня раз и навсегда”.
Все эти разговоры о сочетании агрессивности и сексуальности в браке ведут к пониманию того обстоятельства, что такие события контролируются системой, они всегда — плод совместного решения супругов и тот, кто изменяет, делает это в согласии с семейной программой. Драка или сексуальное взаимодействие происходит вследствие четкого контракта, установленного между супругами с помощью косвенного и замаскированного общения. Прекрасное изображение данной идеи можно найти в книге “Прагматика человеческого общения”14, написанной Вацлавиком, Бивиным и Джексоном, в том месте, где они разбирают произведение “Кто боится Вирджинии Вульф”.
Техники и процесс семейной терапии
Написано совместно с Огустом Непье
Этот материал, по нашему мнению, отображает новый этап профессиональной зрелости Витакера. В предыдущих работах он всегда исследует отдельные аспекты семейной терапии. Здесь все его прежние идеи соединились в единую конструкцию. Объединяющей является идея разворачивающегося процесса работы с семьей. В мыслях Витакера семья давно уже стала чем-то единым, только ранее в своих работах он не мог ясно сформулировать эту идею.
Витакер обсуждает каждую стадию терапии: предтерапия, борьба за структуру, борьба за инициативу, средняя или основная рабочая стадия, завершение — всему дается описание. В картину включается поведение и семьи, и терапевта. Вдобавок Витакер предлагает читателю особые техники, подходящие к каждой стадии, и описывает типичные ошибки и формы сопротивления, нарушающие терапевтический процесс. Это скорее советы опытного практика, чем набор указаний, созданных на основе концепции. Витакер предлагает читателю путеводитель по стадиям семейной терапии. В то же время описанные техники и стратегии не настолько детально разработаны, чтобы это препятствовало творчеству терапевта.
Он настойчиво советует пользоваться метатехниками и такими структурами, как ко-терапия, встреча с расширенным составом семьи и консультация. По его мнению, это придает силу терапии, делает ее более действенной, помогает терапевту не выключаться из ситуации и снижает риск контрпереноса.
Введение
Семейная терапия — достаточно новая область, хотя изучение семьи и работа с ней, возможно, явления более древние, чем самые древние профессии. Обсуждение техник семейной терапии на современном этапе должно включать в себя как концептуальное понимание процесса, так и практический опыт, без которого разговоры о техниках рискуют превратиться в интеллектуальную игру. Для этого надо дать определение как техникам, так и самой семейной терапии. Иначе эта глава заставит нас вспомнить историю о человеке, который на вопрос друга, умеет ли он играть на скрипке, ответил: “Не знаю. Никогда не пробовал”. Техники в семейной терапии помогают изменить взаимоотношения в семье и также между семьей и терапевтом или командой терапевтов. (Я буду далее говорить о терапевте в единственном числе, молчаливо предполагая, что в семейной терапии всегда лучше работать с коллегой.)
Я называю “семьей” группу живущих вместе людей. Это может быть обычная биологическая семья, но часто мы встречаемся с какими-то измененными ее формами: кого-то недостает либо появляются другие члены, например, мачеха или приемный ребенок. Это порой несколько изменяет процесс, но не столь существенно.
Поскольку терапия стремится изменить стиль жизни пациентов, стоит определить и понятие “здоровая семья”. В здоровой семье люди достигают одновременно и большей степени единства, и большей степени индивидуации. Она одновременно предоставляет и свободу образовывать новые группы, и относительную свободу для развития подгрупп, треугольников, коалиций и посредничества между ними. В ней человек волен уходить и возвращаться, не навлекая недовольства остальных, не боится близости ко внесемейным подгруппам, иногда может включить в свою семью кого-то близкого человека со стороны. Благодаря индивидуации в здоровой семье возникает гибкость функций: каждый выполняет разнообразные роли. Четырехлетний сын может побыть “мамой” своего отца, сорокалетняя мать маленькой девочкой для своих детей. Эта гибкость проявляется в ответ на конкретную ситуацию как реализация творческого импульса в семье.
Я также предполагаю, что семья динамически связана со своим окружением — с “расширенной семьей”, соседями и друзьями. Я не буду обсуждать техники работы с этой средой семьи, хотя считаю их весьма ценными, а подключение расширенной семьи может оказаться эффективным средством семейной терапии.
В моем отношении к техникам существенно важно понимать одну вещь: “одной любви недостаточно”, недостаточно и одних техник. Знаменитого художника однажды спросили, что важнее — самовыражение при помощи кисти и холста или же его технические навыки в живописи. В ответ он крайне разъярился: “Ни то и ни другое! Все важно!” Целью техники становится такая зрелость терапевта, когда он перерастает использование техники.
Серен Кьеркегор говорит, что существует три вида отчаяния.
1. Отчаяние из-за того, что ты не личность.
2. Отчаяние из-за того, что ты становишься личностью.
3. Отчаяние из-за того, что ты есть личность.
Так и терапевт может заниматься семейной терапией, не будучи личностью или становясь личностью. По мере своего роста и постепенного развития новых техник он приближается к тому моменту, когда становится семейным терапевтом, не пользующимся техниками. Он ведет процесс семейной терапии просто в силу того, что он есть. Не знаю, стану ли я таким когда-нибудь?
Позиция терапевта: диалектика
Любая форма психотерапии в той или иной мере связана со скрытыми ценностями терапевта, но в семейной терапии это особенно важно. Растет ли терапевт как личность? Увеличивается ли его близость со своей собственной семьей? Данные вопросы можно опустить при подготовке к индивидуальной терапии, но встреча с семьей требует их постановки. Среди важных тем можно отметить, например, следующие.
Облегчение симптома или рост семьи
Можно работать с семьей на административном уровне, назначая лекарства, манипулируя социальными структурами и окружающей средой, усиливая кризис и доведя его до той точки, когда семья решает проблему и потом продолжает жить по-старому. Терапевт должен решить — как для себя, так и вместе с каждой конкретной семьей — хочет ли он работать вместе с ними лишь для того, чтобы разрешить проблему, или же члены семьи готовы посвятить свое время и силы для того, чтобы семья могла достичь наиболее полного роста во всех возможных областях.
Терапевт исполняет роль или стремится
к своему росту
Семейная терапия ставит терапевта перед вопросом: занимается ли он просто работой или же находится в процессе становления, используя для этой конечной цели свою работу с семьей. Эта философская позиция существенно влияет на нашу работу. Исследования показали, что терапевты работают наиболее эффективно в возрасте от тридцати до сорока лет, и я думаю, эти данные относятся к тем терапевтам, которые поставили себе цель овладеть профессией и получить свою ученую степень или признание. В более зрелые годы технический опыт, как это бывает и в сфере секса, не возбуждает личного интереса к семье. Но я знаю и противоположный пример: один пожилой терапевт сказал, что если он стремится к своему собственному росту, психотерапевтическая работа становится все более и более увлекательной. Он не превращается в апатичного старого солдата, но продолжает меняться. Так, техника плюс личный интерес дают постоянный рост — не технический, не профессиональный, а личностный. Стабильности не существует. Человек либо растет, либо увядает!
Личное участие или тренинг общения
Процесс обучения общению есть разновидность деятельности и как таковой может быть ценным в качестве побочного эффекта поздней стадии терапии. Но он не может заменить присутствия терапевта, его личного участия в психотерапии. Платон прекрасно выразил эту мысль, сказав отцу своего ученика: “Я не могу его учить, потому что он при мне уже год и до сих пор не полюбил меня”. Скорее всего, сам Платон не полюбил юношу. Мне кажется, то же самое относится и к психотерапевту. Когда терапевт не проявляет человеческого участия, пациент ничему не учится по-настоящему. Научиться же он может лишь в конце терапии, после того, как произошло значимое изменение его экзистенциальной позиции.
Единство или индивидуация
Терапевт должен решить, насколько он может быть близок к семье и насколько может отдаляться от нее. Он должен решить, готов ли переживать радость близости и боль разделения, хочет ли войти во взаимный перенос или же останется вне семьи как участвующий наблюдатель и комментатор. Боится ли стать частью семьи и терпеть связанную с этим боль?
Понимание или жизнь (сущность или бытие)
Очень важно понять, ориентируется ли терапевт на понимание или обучение при работе с семьей, поскольку эти цели могут вступать в конфликт со стремлением к целостности. Свобода пойти на столкновение с пациентом соответствует свободе использовать свое собственное здоровье при терапевтической схватке. Терапевт, пытающийся добиться понимания, так же ограничен в своих движениях, как и тот, кто ставит во главу угла тренинг общения. Облегчение симптома может приоткрыть дорогу для роста, но не дает пациенту нужного импульса, не ломает ограничивающие его рамки.
Наконец, терапевт должен понять, что его присутствие, его живая личность гораздо важнее, чем образ терапевта в представлении пациента, иногда создаваемый при содействии терапевта. Психотерапия не начинается на первой встрече. Она начинается, когда терапевт преодолеет в себе иллюзию, что пациенту помогает образ помогающего человека.
Семейная терапия: терапевтическая
команда или один терапевт
Идея работать с семьею не одному, а командой терапевтов, навеяна самой жизнью семьи, где родители вдвоем растят своих детей. Одинокому родителю трудно справиться с такой задачей. Также и терапевт один на один с семьей оказывается в слишком сложном положении. При первой встрече и некоторое время спустя он может работать эффективно, поскольку существует дистанция, но как только он эмоционально вовлекается в процесс — а по моему мнению, это необходимо для изменения семьи, — он сразу оказывается слишком слабым. Семья лучше вооружена, превосходит его числом, и большую часть времени именно семья будет заправлять процессом терапии. Когда семья достаточно здорова и нормально функционирует, опытный терапевт может справиться с ней один, но менее опытный все равно рано или поздно запутается в проблемах контрпереноса и почувствует себя либо исключенным из семьи, либо поглощенным ей. Тогда он или окажется для них посторонним, или потеряется в недрах этой семьи, — в обоих случаях терапевт бессилен на нее повлиять. Даже команда, внутри которой существует напряжение (как это бывает между супругами), лучше, чем отчужденный или же зависимый терапевт. Союз двух терапевтов способствует их творчеству, представляет административную свободу, позволяет разделить ответственность и с большей честностью говорить о возникающей скуке, агрессивных чувствах, об эмоциональных сложностях работы с данной семьей. Сила такой команды намного превосходит сумму сил двух отдельных терапевтов.
Я уверен, что не существует такой вещи, как адекватная межличностная дистанция в психотерапии. Терапевт должен обладать свободой приближаться и удаляться, не превращаясь в пленника той или иной позиции. Кроме своих экзистенциальных качеств, команда дает семье образец честного взаимодействия двух сверстников. И что, может быть еще важнее, представляет обоим терапевтам большие возможности для роста. Если растет терапевт, то и пациент стремится расширить границы своей личности.
Когда семейная терапия
начинается после индивидуальной
Если мой коллега какое-то время поработал с пациентом, а потом решил, что надо включить в терапию, например, его жену, тогда я предлагаю послать жену ко мне и занимаюсь с ней в течение нескольких встреч, а затем мы вчетвером собираемся и начинаем работу с семьей, приглашая вскоре и детей. Раньше я по глупости предполагал, что могу сразу пригласить супруга, с которым раньше не работал, и начать семейную терапию, но это плохо получалось. Мои отношения с терапевтом и его отношения с одним из супругов рождали в другом супруге чувство изолированности. Это можно образно выразить такой метафорой: терапевт — мачеха для супруга своего пациента. Поэтому, когда терапевт работает индивидуально с кем-то одним, а затем решает, что надо пригласить другого супруга, и предлагает ему включиться в уже существующие взаимоотношения, он наталкивается на сложности.
Чтобы не создалось впечатления, будто я противник индивидуальной терапии, поделюсь своими соображениями о том, когда она бывает полезна. Можно сказать, что индивидуальная терапия занимается “козлом отпущения” в семье. Даже когда все члены семьи умерли или не общаются с пациентом, все равно его психологические симптомы — это роль, которую он на себя принял. Марк Твен сказал: “Городской пьянчуга — выборная должность”. Я считаю, что пациент с психологическими проблемами — тоже выборная должность. Он не только стремился к тому, чтобы его избрали, но когда-то происходило и голосование, окончившееся его избранием. Вот почему я предпочитаю начинать психотерапию, собрав по возможности всю систему. Часто, когда мне казалось, что пригласить мать, отца, брата, сестру, дядю, тетю, бабушку или дедушку технически невозможно, практика показывала, что я ошибался. Если я говорю, что это важно, и прошу “козла отпущения” их пригласить, это, как правило, происходит на удивление легко. И почти всегда оказывается очень ценным для терапии. Когда система мобилизовалась и вся целиком участвует в терапии, центр проблемы обычно перемещается с “козла отпущения” на семью. И тогда возможны различные вариации терапии.
Работа с системой предполагает разрешение основных тревог всех ее отдельных членов, подгрупп, треугольников и пар. Тогда реконструктивная внутрипсихическая хирургия для любого члена семьи становится возможной. Последним этапом семейной терапии, прежде чем от нее мы перейдем к индивидуальной работе, станет разрешение проблем во взаимоотношениях супругов. В этом случае вопрос об индивидуальной терапии похож на вопрос, который задает себе учитель музыки: “К какому пределу нам стоит стремиться в занятиях с учеником?” При наличии таланта, заинтересованности и целеустремленности некоторые ученики могут в конечном итоге давать концерты. Не каждый пациент стремится к перемене характера, которую дает углубленная индивидуальная терапия, но в любом случае легче будет работать с тем, кто предварительно прошел семейную терапию.
С технической точки зрения, неразумно переходить к индивидуальной терапии, когда не удалась или была прервана семейная. Если члены семьи хотят идти дальше, каждый из них должен решить этот вопрос независимо от семейного терапевта и его рекомендаций. Когда терапия с семьей проходит неудачно, а потом я принимаю кого-то из ее членов как пациента, я открываю дорогу разрушительным фантазиям семьи, а тот, кто станет моим пациентом, обречен страдать из-за своего отчуждения от семьи15.
Техническая сторона процесса терапии
Рискну опустить вопросы семейного диагноза и нозологии и не буду пытаться изображать развитие патологии в семье. Сосредоточусь на технической стороне процесса терапии. Прежде всего, назову три обобщения, которые могут показаться таинственными, но мне представляются существенными для терапевта (или команды), который хочет успешно работать с семьями. Первое: изменение начинается тогда, когда семья оставляет попытки измениться. Я имею в виду переход от попыток семьи решить проблему к текучему неопределенному состоянию бытия. Во-вторых, встает вопрос: а что же может добавить в этот процесс профессионал? Я детально поговорю об этом ниже, а пока замечу очень важную вещь: мы представляем для семьи бульшую ценность, когда не пытаемся помочь. Может быть, главное, что приносит терапевт, есть его “животная вера”. Том Мелон сказал однажды пациенту: “Не злитесь на меня, я не собираюсь вам помогать”. Сам взгляд сверху вниз человека, который хочет помочь другому, есть вещь разрушительная. (Не буду распространяться о том, насколько это было в последнее время доказано политикой Соединенных Штатов на радость правительствам других стран.) Барбара Бетс произнесла, по-видимому, верные слова много лет назад: “Динамика терапевтического процесса лежит в личности терапевта”. Или я могу процитировать дзэн-буддистское высказывание: “Стараниями ты этого не достигнешь, но ты не можешь и перестать стараться”. Третья важная вещь заключается в том, что семейная терапия представляет собой не взаимоотношения двух людей, а взаимоотношения терапевта или команды — с системой. И потому по своей природе семейная терапия в большей мере является процессом манипуляции и политической игрой, чем индивидуальная терапия. Здесь нельзя полагаться на благие намерения, на искренность, на то, что вас радуют глубокие взаимоотношения.
Из этого можно сделать простой вывод: терапевт в своем взаимодействии с семьей должен пользоваться властью. Он должен понимать обыкновенную динамику функционирования семьи и уметь ей манипулировать для того, чтобы семья двигалась к росту.
Предтерапия
В моей работе первый контакт с семьей начинается с телефонного звонка. Мать, например, говорит: “Я хочу привести к вам моего сына” или “У моего мужа депрессия”. Я отвечаю: “Хорошо, приходите с ним вместе. А кто еще живет в вашем доме?” И каков бы ни был ее ответ, говорю: “Пусть они тоже приходят”. На ее протест я могу ответить временной уступкой и согласиться принять первый раз, скажем, отца, мать и “козла отпущения” либо отца и мать без детей. Но еще во время телефонного разговора я дам понять, что буду работать со всей семьей и, позволив им прийти в неполном составе, делаю одолжение лишь для первого раза.
В том случае, если семья уже ходила к терапевту — неважно, была это семейная, индивидуальная или супружеская терапия — я категорически настаиваю на том, чтобы в первый раз пришли все. Я могу отказаться принять их, если они приходят в назначенное время без одного кого-то. Я отправлю их домой поразмышлять о том, действительно ли им требуется моя помощь, или же кто-то хочет ее получить, а другие намерены сражаться против изменения. Таким образом я хочу ясно обозначить, что не намерен начинать работу, пока не буду убежден, что весь народ на моей стороне. Семейная терапия — большой риск, и я не хочу его начинать, если против меня кто-то бастует.
На первой встрече я стараюсь общаться с цельным организмом семьи. Я пользуюсь при этом концепциями теории систем. Обычно я начинаю с общего вопроса: “Что происходит с вашей семьей?”, обращаясь сначала к отцу, потом к другим членам семьи, обычно к младшим детям. Я стараюсь, чтобы разговор шел о семье с самых разных точек зрения. Начинаю с отца, поскольку он обычно является самым посторонним человеком и вдобавок именно он способен сопротивляться терапии в том случае, если на ранней стадии не установит контакта с терапевтом16. Я пытаюсь приостановить игру вокруг “козла отпущения”, говоря, что мы уже знаем, что у него депрессия или неприятности с полицией, так что давайте потолкуем об остальных. Обычно семья отвергает мои первые попытки исследовать ее патологию, и я усиливаю напряжение, обращаясь к каждому члену семьи с просьбой помочь мне представить себе цельную картину. Я работаю по той же схеме, что и Вирджиния Сатир, когда она пытается обозначить границы между разными поколениями с помощью разговоров о том, как отец познакомился с матерью, как они ходили на свидания, как родители жили до появления детей. Недавно я стал применять обычай одного знакомого мне терапевта, который просит дедушку или тех членов семьи, которые не пришли на встречу, передать кассету с записью рассказа о семье или о своей жизни. Я также пытаюсь приравнять к “козлу отпущения” тех членов семьи, у которых имеются физические болезни, кто закатывает сцены или страдает от бессонницы. Я стараюсь обнаружить расклад подгрупп в семье: кто утешает мать, когда та плачет? Кто заступается за отца, когда он ругается с мамой? Кто провоцирует сражение между братьями и сестрами или между матерью и старшей дочерью? И что происходит, когда все мужчины этой семьи восстают против женщин?
Я пытаюсь уже на первой встрече дать представление о том, какой будет семейная терапия. Я говорю о боли, которую им придется испытать, о том, что я нарочно буду приводить их в смущение, о том, как я ценю безумие, о моей вере в команду терапевтов, сила которой заставит семью двигаться в сторону роста, о том, что я мечтаю в конце концов создать терапевтическую среду внутри самой семьи, чтобы наши встречи не продолжались вечно.
Сражение за структуру
Я стараюсь обозначить рамки терапии, чтобы и мне, и семье было ясно: моя операционная комната, и я сам определяю, что когда происходит. Я называю это сражением за структуру. Я говорю о моем праве пригласить консультанта, определять порядок действий, решать вопрос о том, кто должен присутствовать на встрече, определять время, короче, задавать правила нашей работы. Доктор Дэвид Рубинштейн называет этот процесс утверждением целостности терапевта. А на языке Мюррея Боуэна это называется утверждением Я-позиции. Я убежден, что терапевт должен чувствовать свободу вступать в терапевтическую группу и покидать ее, входить в семью и оставлять ее. Такая борьба за структуру может происходить не только на уровне административных решений, но и во время встречи. Так, например, однажды я разговаривал с девятнадцатилетней девушкой, а ее отец, с явными признаками социопатии, прервал наше достаточно глубокое общение. Я взорвался и накинулся на него, сказав, что он никогда не должен прерывать меня в тот момент, когда я говорю с кем-то из семьи. Когда терапевт проигрывает такие битвы — во время первого телефонного разговора или на первых встречах, — терапевтический процесс оказывается под угрозой. Ни один пациент не может положиться на терапевта, который не умеет показать свою власть человека старшего поколения, человека, не чувствующего себя уверенно в роли родителя. Большинство семей подвергают терапевта такой проверке. Она начинается с телефонного звонка и продолжается в течение некоторого времени. Если я проиграл первую битву, то должен удвоить ставку в следующий раз и выиграть. Если бы я позволил отцу прервать мою беседу с дочерью, это нарушило бы ход всего терапевтического процесса, поскольку я показался бы “слабаком”.
Сражение за инициативу
Когда структура терапии установилась, на начальной стадии происходит то, что я называю сражением за инициативу. Определив мою целостность, мое господство на территории собственного кабинета, я считаю очень важным определить целостность семьи — Я-позицию семьи. Я хочу, чтобы все члены семьи сознавали: их жизнь и их решения принадлежат только им самим. Например, мать говорит на второй встрече: “Как вы думаете, не развестись ли мне с таким человеком?” Я отвечаю: “Для меня все ясно. Я женат и не собираюсь разводиться. Вы тоже в состоянии решить, продолжать вам жить вместе или разойтись. Меня заботит только одно: чтобы вы приходили сюда в назначенное время. Так что если развод означает окончание терапии, почему бы не прекратить ее прямо сейчас?” Борьба за инициативу означает также, что, поскольку мы покончили с историей семьи, решение о том, куда нам двигаться дальше, принадлежит только семье. Я хочу в этом участвовать, но не желаю, чтобы они были пассивными. Мяч они держат в своих руках и, хоть я и тренер, но не могу пытаться жить за них лучше. Я не просто отказываюсь принимать за них решения — я стараюсь ясно обозначить, что мне неинтересно, разведутся они или нет. Мне неинтересно, обращаются ли они в полицию, когда бушует их сын. Это их мир, где они живут. Я не считаю, что мой образ жизни более ценен и важен, чем их. Они не смогут изменить своего стиля жизни, если сначала не станут такими, какие они есть. Подражание не научит их жить.
Раннее прекращение терапии
Когда семья определила свои проблемы и начала их решать — ссоры между отцом и матерью, поведение наглого Джима или замкнутой в себе Мэри — она, возможно, захочет справиться с ними своими силами, без помощи терапевта. Семья чувствует, что происходит, и думает, что может это изменить. Терапевт должен понимать, что это, вероятно, шаг к единству. Члены семьи начинают говорить: “У нас все налаживается”, “Мы слишком заняты”, “Терапия стоит дорого”, “Мэри (“козел отпущения”) замечательно себя ведет”. Подобные высказывания — признак того, что семье хочется прекратить терапию и попробовать решить проблему своими силами. Я принимаю это всерьез, не пытаюсь их отговорить, предполагаю, что они и в самом деле способны справиться без меня, но также даю понять, что они всегда могут ко мне вернуться: завтра, через неделю, через пять лет. Я стараюсь не устанавливать “двойную связь”, хотя это столь естественная реакция для нас, “мамаш”; мы боимся, что у ребенка что-то не получится!
Это совсем не то же самое, что интервенция в кризисе, когда определяется состояние кризиса, терапевт помогает с ним справиться и затем подводит терапию к окончанию. Я подчеркиваю стремление семьи к росту, принимаю их стремление уйти от меня как проявление здоровья и выражаю свое доверие. Я верю, что такой уход — не просто защитное поведение. Их неявные попытки вместе справиться с источниками семейной тревоги выражаются самыми различными способами. Члены семьи могут, например, заговорить о том, как чудесно на этой неделе им помогали дети. Терапевт может сфокусироваться на данном утверждении, чтобы семья лучше почувствовала свою готовность оставить терапию. Они могут спросить, не хочет ли терапевт таким образом избавиться от них, не надоели ли они ему? Я ободряю их, потому что стремление к самостоятельности соединяет их семейную группу. Если же они прекратят терапию, семья может продолжать собираться без терапевта или же просто продолжать жить. Если потом они увидят себя хаотичной раздробленной группой или набором подгрупп, то почувствуют новый вид отчаяния, отчаяние перед лицом своего небытия, отчаяния из-за того, что они не семья. И тогда можно вернуться. Такой возврат не только приносит новое единство, которого не было прежде, но также и создает новое единство в команде терапевтов. Это похоже на встречу старых друзей. Второе свидание юноши и девушки всегда отличается от первого. Терапевту в этом случае легче проявлять заботу, поскольку семья пришла к нему как целое, а не кто-то один притащил за собой всех остальных на терапию.
Дети в качестве семейных терапевтов
На ранних стадиях семейной терапии дети нередко играют для родителей роль семейных ко-терапевтов. Родители, иногда из чувства вины, иногда из-за своей зрелости, более способны услышать своих детей, чем терапевтов. А дети — в гневе или любви — гораздо свободнее называют вещи своими именами. Это создает странную ситуацию: дети становятся родителями своих собственных родителей, или, как я иногда им об этом с изумлением сообщаю, своими бабушками и дедушками. У терапевта возникает искушение их остановить, поскольку они вмешиваются в его работу, или возмущаться тем, что это ставит детей в неестественную позицию. Хочу успокоить читателя. Когда родители станут адекватнее и преодолеют свой кризис идентичности, они составят хорошую команду и поставят детей на должное место. Создание четких границ между поколениями проходит болезненно, но несет семье счастье. Дети освобождаются и могут быть самими собой, а родители отвечают за охрану границ поколений. Поэтому, когда происходит такая символическая кастрация, подгруппа родителей взаимодействует между собой, двигаясь в сторону роста и исцеления. Тогда терапию пора заканчивать.
Двое терапевтов как образец
В начальной стадии терапия во многом основана на том, что два терапевта показывают родителям пример честных взаимоотношений взрослой пары. Они делятся друг с другом возникающими в данный момент чувствами: “Да, эта шайка сильна. Они не только могут заставить Джона угнать машину. Они также способны ввергнуть мать в глубокую депрессию, и, похоже, та помышляет о самоубийстве”. Или: “Гус, сейчас опять начнется драка”, или: “Мне настолько нравятся эти люди, что мне надо относиться к себе подозрительно, или ты следи за тем, куда меня заносит моя симпатия”. Терапевты также могут обмениваться своими наблюдениями за семьей и сомнениями, возникающими по поводу искренности их намерений сотрудничать в терапии. Они могут, например, сказать: “Знаешь, почему собственно они должны нам доверять? Я тоже не доверяю отцу семейства. Похоже, он будет вести себя нечестно. У него такой вид, словно он пришел сюда просто ради того, чтобы прогуляться”.
Мне кажется, что терапевт на начальном этапе терапии должен как можно дольше оставаться для семьи незнакомцем или гостем. Самое нелепое, что можно делать в подобной ситуации, это выражать ложное дружелюбие или профессиональную докторскую доброту, что заставляет семью подозрительно относиться к нам, гадая, что же мы там на самом деле думаем. Может быть, такова черта моего характера, но я полагаю, что не стоит имитировать заботу, когда ее не чувствуешь. Терапевты также должны в присутствии семьи свободно разговаривать о своих чувствах: о бессмысленности, о отчаянии или страхе, что ничего не получится. Иногда терапевтам полезно бывает поговорить о своих старых ранах и о картинках из прошлого, чтобы открыть свои чувства. Например, я говорю коллеге: “Гус, когда он рассказывает о своей дочери, я вспоминаю о своих отношениях с дочерью, а это было жутко”. Или: “Эта семья похожа на ту, что была весной, когда у нас ничего не получилось. Как тебе кажется, тут ситуация лучше или нет?” Терапевты могут также показать семье, что они отдельная группа со своим единством. “Гус, эта встреча будет тяжелой. А я все еще зол на тебя за вчерашний вечер”. Или: “Знаешь, мне скучно с этой семьей, может быть, потому, что я сейчас думал, как было бы здорово нам с тобой в воскресенье покататься на яхте”. Такие открытые разговоры увеличивают тревогу семьи, но им также будет легче положиться на силу союза двух терапевтов.
Попытка семьи произвести раскол
в команде терапевтов
Обычно, когда тревога семьи снижается, их следующим шагом становится попытка произвести раскол среди терапевтов: “Пускай отец с матерью подерутся”. Динамика власти терапевтической команды направлена против власти семьи, и те могут выиграть битву, если им удастся разделить между собой двух терапевтов. Папа может сказать: “Гус, а вы добрее, чем Карл. Он издевается надо мной. Если он не сможет прийти на следующей неделе, вы примете нашу семью без него?” Здесь встает один технический вопрос. Пока процесс терапии не идет хорошо, двум терапевтам лучше не разлучаться. Если один из них не может прийти, лучше отложить встречу до следующего раза, когда они будут вдвоем. Позже возможны различные встречи подгрупп, не нарушающие всего хода терапии, но я всегда думаю, что отсутствующие становятся подозрительными, если не могут в чем-то убедиться сами.
Средняя стадия
Развитие единой команды и культура заботы
Когда процесс терапии установился и движется к серьезной работе изменения, возникают некоторые проблемы, о которых должна знать терапевтическая команда. Самая важная из них — опасность раствориться в семье. Терапевт может почувствовать себя настолько уютно и хорошо, что превращается в родителя, ставшего единым со своими детьми. Тогда семья и терапевт становятся группой сверстников вместо союза двух поколений, а такая группа плохо функционирует. Другая опасность — отстраненность или равнодушие терапевта к своему “пациенту”, семье, тогда он превращается в родителя, не способного побыть ребенком и радоваться своим детям, играть с ними. Такая суровая семья похожа на мужа с женой, живущих друг с другом спина к спине.
Если удалось избежать этих двух опасностей, терапевту следует приблизиться к семье, чтобы создать культуру заботы, хотя в этот момент он особенно рискует быть съеденным семьей. Нельзя ожидать от семьи открытости, когда просто терапевт сидит где-то вдалеке и наблюдает. В индивидуальной терапии терапевт показывает свое человеческое лицо, когда делится своими свободными ассоциациями, тогда пациенту уже не так страшно открывать себя. В семейной терапии также важно показывать свои чувства и личность. Терапевт может говорить о своем одиночестве в данный момент, о подозрениях, о чувствах агрессии или любви. Когда один из терапевтов готов соединиться с кем-то из семьи или входит в семью, тогда и член семьи вступает в терапевтическую команду и делится своим отчаянием, тем, что мешает ему стать личностью. Сью говорит: “Папа, я согласна с терапевтом: когда ты так поднимаешь брови, ты очень сердишься. Мне тоже так кажется, и я похожа на тебя. Когда я сержусь, я, как и ты, скрываю свои чувства”. Удивительно, что в такой момент один из терапевтов может покинуть терапевтическую команду и на время присоединиться к семье. Он может придвинуть поближе к ним свое кресло или вдруг ощутить чувство единства с семьей. По сути дела, терапевты исследуют свою свободу отделяться друг от друга и вступать в контакт с членами семьи или с семьей в целом. Когда это произошло, второму члену семьи будет легче вступить в союз с терапевтической командой.
Возможно, два терапевта и двое присоединившихся к ним членов семьи создают критическую массу, и тогда все начинает двигаться. Семейная система вынуждена меняться под воздействием этой вновь образованной надсистемы. Терапевтическая команда соединилась с семьей, и в то же время она свободна отделиться от нее. Семья едина с терапевтами и в то же время не чувствует, что потеряла свою автономию. Возникает один интересный побочный эффект: терапевты иногда тоже вынуждены менять свои взаимоотношения. Семья, например, говорит: “Вы, похоже, сердитесь друг на друга. Наверное, Карл думает, что вы слишком мягки, а я думаю, это он слишком холоден”. Семья тем или иным способом выражает свое восприятие взаимоотношений терапевтов и свое желание их изменить. К такой обратной связи стоит внимательно прислушиваться, она может оказаться весьма полезной для команды терапевтов или для каждого из них по отдельности.
Техники крупным планом
Для средней стадии семейной терапии существуют особые ценные техники. Некоторые из них помогают разрушать семейные мифы. Одной из таких техник является переопределение смысла симптома как знака стремления к росту. Например, мать подозревает отца в неверности. Затем команда открывает факт, что супруги пребывают в отчаянии холода в их браке. Пара бессознательно решила, что один из супругов должен повысить температуру взаимоотношений с посторонней помощью. На эту роль был избран отец. Когда факт его измены обнаружился, жар ярости повысил температуру брака. Если бы супруги не были готовы к изменению, то не осмелились бы пережить боль, выводящую из тупика. Подобным образом психоз у одного из членов семьи определяет как попытка уподобиться Христу: “Я стану никем ради того, чтобы вы с отцом были спасены”. Когда кто-то в семье испытывает отчаяние, это можно расценить как знак того, что семья достаточно заботлива. Лучше передавать такие вещи, пользуясь намеками, чтобы столкновение с мифами семьи не оказалось слишком болезненным.
Когда взаимоотношения установились и создалось “над-объединение” терапевтов и семьи, можно использовать многие техники, которые были бы рискованными в индивидуальной терапии, но являются ценными при работе с семьей. Причем можно не бояться навредить, поскольку семья прекрасно умеет брать то, что ей нужно, и защищаться от всего остального. Например, мужу, жена которого мучается головными болями, можно смело предложить отшлепать ее, чтобы вылечить от этого недуга. Или жене, которая лезет на стенку из-за нытья детей или холодности мужа, можно предложить на неделю уехать к своей матери и предоставить остальным самостоятельно готовить себе еду.
Другой ценной техникой является предложение фантастических альтернатив для решения реальных проблем жизни. Например, женщине, совершившей попытку самоубийства, можно предложить пофантазировать на тему: “Если бы вы задумали убить мужа, как бы вы это сделали?”; или: “Предположим, решив покончить с собой, вы сначала захотели убить меня. Как вы это будете делать? С помощью пистолета, ножа, яда?” Все это примеры той свободы, которая возможна в общении с семьей и редко бывает доступна при отношениях с глазу на глаз. Так семья учится пользоваться фантазией, расширяющей эмоциональную жизнь, не увеличивая степень риска реального насилия.
Четвертая техника — отделение межличностного напряжения от фантазии. Например, пациентке после суицидальной попытки предлагают поговорить вслух о том, на ком бы женился муж, если бы она убила себя, как быстро это произойдет, как долго он будет оплакивать ее, будут ли горевать дети, кто получит ее страховку, как переживет ее смерть свекровь и возьмет ли она к себе детей с согласия отца и так далее. Такое перенесение фантазии в межличностные рамки очень ценно, поскольку фантазия бледнеет от соприкосновения с реальностью. Это также открывает семье новые возможности общения, поскольку они видят, что можно произносить все самые страшные слова, и это не конец света.
Пятая техника — усиление отчаяния члена семьи до такой степени, что семья соединяется вокруг него. Это особенно хорошо получается по отношению к “козлу отпущения”. Так, например, я говорю пациенту-шизофренику: Ты думаешь, “если ты отдашь всего себя, станешь никем и проведешь остаток своей жизни в психушке, то родители будут счастливы, скажем, через двадцать лет? Или они будут набрасываться друг на друга, как сейчас? Ведь тогда окажется, что ты совершенно напрасно жертвовал собой”.
Шестая очень мощная техника — организация революции в семье. Так, например в одной семье, куда после года путешествий автостопом вернулся Билл, он увидел, что его сестра Мэри не в себе, и решил пожить дома. Мы отметили, что мать может быть близкой с сыном, и предложили, чтобы Билл и Мэри привлекли мать на свою сторону, тогда они смогут защититься от любого другого члена семьи. Отец и его коалиция третировали остальных в семье, но с нашей помощью мать с двумя детьми смогли это изменить.
Можно научить семью рассказывать друг другу свои сны. Лучше всего это получается, когда сам терапевт рассказывает свой сон и просит у семьи помощи в его интерпретации. Точно так же, чтобы научить семью произносить вслух свои свободные ассоциации, терапевт сначала делает это сам.
Одну ценную технику мы называем “эмоциональным прыжком”. Терапевт делится внезапно возникшим в нем чувством абсурда ситуации или позволяет себе выражать любовь или злость импульсивно, без предосторожностей, которыми мы обычно пользуемся при работе с пациентами. Так терапевт учится играть с членами семьи или со всей семьей, несколько дразня их. Сюда же входят шутки или двусмысленные дразнилки, произнесенные в стиле двойной связи. Тут можно дать полную свободу своему юмору, и хотя некоторые спонтанные шутки вроде бы и не имеют отношения к делу, терапевт в большинстве случаев обнаруживает, что они рождаются в ответ на что-то значимое в семье и что они гораздо более ценны, чем кажутся с первого взгляда. Думаю, что такая игра на равных помогает терапевту не зацикливаться на технике, не скучать и не копить злость. Когда терапевт получает удовольствие, пациент растет.
Очень важно при работе с семьями пользоваться примитивными способами общения, которые мы редко применяем в индивидуальной работе; телесное прикосновение, использование вульгарного уличного языка или безумных слов. Такие приемы хорошо показывают пациентам, что мы вышли за пределы интеллектуальной социальной игры или игры в доктора и больного.
Встреча с расширенным составом семьи
Когда возникает или подготавливается возможность пригласить родственников — членов расширенной семьи, а еще лучше — всех, кого только можно, терапия пойдет быстрее, станет более всеобъемлющей и творческой. Такая встреча выполняет несколько функций. Она помогает семье почувствовать себя единым организмом, в котором даже те, кто живут далеко, занимают важное место, проявляют свою заботу, что-то значат для каждого по отдельности, для всех вместе и для многочисленных подгрупп большой семьи. Встреча с расширенным составом семьи создает хорошую среду для роста. Именно благодаря этому подобные семейные собрания были так популярны в прежнее время. При напряжении терапевтической работы столь ценным оказывается присутствие тети Минни, дядюшки Генри, двоюродного брата Билла или бабушки. Их замечания настолько уместны, так глубоко проникают, как никто бы от них не ожидал. Такая встреча не является терапией для остальных родственников. Не надо стремиться изменить бабушку и дедушку, но они могут помочь той семье, которая приходит к нам на терапию. Лучше, когда у такой встречи нет заранее определенной и объявленной темы. При отсутствии четкой структуры большая семья сама будет двигаться в той мере, в какой готова переносить тревогу, пользуясь интуитивным пониманием самого важного. Нет нужды открывать большой семье все сведения, которые мы узнали во время терапии. Цель подобной встречи — эмоциональный вклад участников, это не публичная исповедь. Во время встречи не нужны семейные схватки. Они часто возникают, но обычно самопроизвольно иссякают, не требуя вмешательства терапевта. Достаточно его присутствия, достаточно того, что он — символ этой встречи. Динамика встречи расширенной семьи очень сложна, самое важное заключается в том, что терапевт берет на себя роль посредника в этой большой семье, роль, которая раньше переходила из рук в руки или принадлежала какому-нибудь незаменимому родственнику. И это отсутствие избранного посредника открывает новые возможности для самовосприятия большой семьи. Возможно также, что семейное единство усиливается благодаря присутствию терапевтической команды, олицетворяющей собою чужое они. Семья собирается как бы перед лицом опасности.
Так присутствие “противников” в лице терапевтов усиливает чувство единства большой семьи. Семья начинает воспринимать отдельных людей сообразно их возрасту и зрелости, а не как фигуры детских интроекций. Родители могут увидеть настоящий возраст своих детей. Подобное изменение восприятия очень ценно.
Консультант и ситуация тупика
Использование консультанта в качестве одной из техник семейной терапии остается для многих непонятным. Возможно, появление любого постороннего человека в тот момент, когда терапия зашла в тупик, ценно. Консультантом должен быть ваш знакомый или коллега. Им может стать почти любой человек, которому терапевт вместе с семьей рассказывают о своих отношениях и о том, почему они зашли в тупик, такую же роль может играть видеозапись (ее потом можно просмотреть) и даже аудиозапись. В любом случае важно, чтобы терапевты, поняв, что оказались в ситуации тупика, честно рассказали об этом — прежде всего семье, а потом, если этого окажется недостаточным для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, признались бы в этом коллеге, которого ценят, тому, кто мог бы исправить ситуацию или по крайней мере покритиковать их недостатки. Это усилит единство между двумя терапевтами и семьей. Консультант похож на мачеху: он человек посторонний, но достаточно по-родительски вовлечен в ситуацию, поэтому несет в себе эмоциональную угрозу. Отчасти тупик разрешается тогда, когда мы открыто признаем нашу неудачу. Я называю это “уловкой бессилия”. Я говорю пациентам: “Я старался как мог, но боюсь, что вскоре ничего не буду чувствовать по отношению к вам. И когда это произойдет, я смогу сделать не больше, чем вы. Мы с вами сможем лишь приносить сюда свои чувства”.
Поздняя стадия
Если терапия приходит к состоянию постоянного изменения, значит, семейное единство уже установилось, субгруппы становятся подвижными, треугольники — достаточно гибкими и не причиняют прежней боли, посредник оставляет свою роль спасителя семьи, и семья тоже становится гибкой, текучей группой. На такой поздней стадии семье для работы не требуется ничего, кроме времени и места. Семья занимается терапией сама с собой, а терапевт, подобно родителям старших подростков, чувствует себя лишним.
По сути дела, сама семья стала терапевтической средой. За время, отведенное для терапии, они работают сами по себе, а терапевтам кажется, что они могут выйти, и это ничего не изменит. Действительно, иногда семья за встречу может ни разу не заметить присутствия терапевта. Тот чувствует во многом свою ненужность, поскольку семья начала выходить из теплого терапевтического союза. Семья может, и даже очень сильно, влиять на своих членов. Если терапевт способен помогать семье, сохраняя нелегкое равновесие, оставаясь уверенным в себе, так что ему не нужно отнимать чужую власть или требовать сделать что-то, чего семья не желает или в чем она не нуждается, тогда завершить терапию несложно.
Завершение терапии
Многие плохо понимают процесс завершения семейной терапии. Семьи очень по-разному заканчивают лечение. Обычно это бывает похоже на отвержение своего родителя. Семья начинает отчуждать от себя ценности терапевта, иногда, как дети, они присылают другую семью — как бы взамен себя. Важно не оставлять без внимания тревогу, возникающую при отделении. Терапевту следует воспользоваться одним простым средством: поговорить о своей грусти по поводу разлуки с семьей. Он действительно имеет возможность получить помощь от семьи. Важно, чтобы терапевт не приукрашивал свой образ, делая вид, что занимается психотерапией из альтруизма. Когда семья дает обратную связь команде профессионалов, тогда члены семьи строят свое самоуважение и избавляются от чувства вины перед беднягой терапевтом, старающимся для них изо всех своих сил.
Когда приходится закончить терапию из-за тупиковой ситуации или из боязни больше навредить, чем помочь, инициатива должна принадлежать терапевту. Он может:
1. Отказаться от продолжения работы с одними только родителями, вместо этого предложив семье жить и радоваться тому, что они получили.
2. Отказать здоровому члену семьи, который хочет прекратить терапию, тем самым отрезая себя от семьи.
3. Пригласить профессионала в качестве консультанта или же собрать для той же цели семью в расширенном составе.
4. Начать работу с группой взаимодействующих семей.
5. Открыто сказать семье, что опасается ее зависимости от терапии и что завершение работы менее опасно, чем продолжение.
Иногда весьма ценным является то обстоятельство, когда на последних встречах появляются элементы равенства отношений взрослых со взрослыми и когда терапевты дают понять, что они смогут жить дальше без семьи, — или потому что к ним придет другая семья (новый ребенок), или потому, что им хорошо вдвоем.
Заключение
Я еще раз подчеркну, что лучшая модель для семейной терапии — это рост в обычной семье, и два терапевта представляют как бы двух родителей из далекого детства, которые готовят детей к самостоятельной жизни. Можно дать хорошее сексуальное воспитание только тому, кого любишь. Если ты не любишь семью, с которой работаешь, ты не только упускаешь золотую возможность, но и делаешь вид, что ничего не произошло там, где на самом деле нечто произошло. Семья, достойная того, чтобы с ней работать, достойна и того, чтобы ее любить, а разлука — это сладкая печаль.
Семья в трех поколениях
В этой главе Витакер всесторонне исследует и расширяет одну-единственную мысль, о которой упоминал раньше: необходимо подключать третье поколение к работе с семьей. Он считает, что это и его личная потребность, потребность расти, и также потребность семьи, которой необходимо осознать свою связь с прошлым. Ко времени написания этого текста Витакер стремился в каждом случае семейной терапии так или иначе использовать поколение бабушек и дедушек.
Переход Витакера к работе с тремя поколениями можно было предчувствовать по его более ранним статьям. Он как бы видит, что следует включить в терапию всех доступных людей разных поколений, связанных с семьей, но по техническим причинам не может этого требовать. Кажется, что настаивать на участии дедушек и бабушек Витакера вынудило ощущение бессмысленности и однообразия в его работе с обычной семьей, где представлены два поколения. Как и раньше, Витакер резко меняет свой терапевтический стиль, следуя своим потребностям личностного роста, а не новым концепциям психотерапии.
Двадцать лет моей работы — игровая терапия с детьми, терапевтические взаимоотношения с юными нарушителями закона, материнский уход за сомневающимися в себе невротиками, глубинная терапия с хроническими шизофрениками — все это перестало радовать, зашло в тупик. Терапия супругов тоже становится все скучнее и скучнее. Как пожилому терапевту сохранить в себе живую жизнь? Даже ко-терапия, в которой мы превращаемся в родителей для своих пациентов, после двадцатилетнего употребления кажется бессмысленной и однообразной. И мне стало ясно, что лишь мое собственное стремление к личностному росту должно стать главной целью любых взаимоотношений. Если терапия, основанная на личностном опыте, делает меня живым, тогда я могу быть подлинным образцом для своих пациентов. Раз могу измениться я, могут рискнуть и они. Время моей жизни ограничено; брак глубок, продолжителен и разносторонен; а для семьи временных рамок не существует, она живет в измерении вечности.
Чтобы понять семью, нужны три поколения
M., сорокалетний мужчина, отец троих детей, оставил свою жену и ушел к другой женщине, у которой тоже было двое сыновей. Он всегда делал то, что “доставляет удовольствие”. Вступление в брак ничего не изменило в его сексуальной жизни. Он прожил год в деревне в Европе со своей подружкой, шлюхой с двумя детьми, чей муж “четыре года как не помогал ей”. Когда сожитель ее бросил, M. стал жить с этой женщиной, чтобы она “могла прийти в себя”. Бесконечная борьба за то, чтобы две женщины в его жизни были счастливы, заставляла M. лгать и изобретать всевозможные хитрости, хотя он при этом никогда не нарушал законов. Сам человек ревнивый, он убеждал обеих женщин в своей верности. Иногда он подумывал о самоубийстве, по этой причине проходил курс гипноза и обращался к консультирующему психологу, но это не избавляло его от “кошмарной неуверенности”.
У М. есть брат и две сестры, намного старше его, родители его живут вместе. Они “хорошие люди”, но пациент отмечает, что жизнь с отцом бывала “тяжкой”. Жена не возбуждает его. Его любовница знает двадцать способов, чтобы его завести, а жена не может придумать и одного, чтобы его удовлетворить. Тем не менее, когда он предложил ей жить отдельно, женщина смогла успешно существовать и без него, что ввергло его в сильную панику.
План терапии
“Две женщины, с которыми вы спите, связали вас. Пускай обе они придут на нашу встречу. Мне потребуется ко-терапевт. Мы постараемся решить проблему вашей троицы. Женщины страдают так же, как и вы. Каждая из них лжет вам настолько же, насколько вы лжете им. Почитайте “Мачту здоровья” Харвея Клекли, послушайте запись “Дон Жуан в аду” Джорджа Бернарда Шоу. Дон Жуан думал, что все эти женщины любили его. Позвоните мне, когда поразмыслите над этим”.
Если M. приведет своих женщин и всех пятерых детей, то мы с моим коллегой будем настаивать на такой встрече, на которую придут его родители вместе с братьями и сестрами. Без этой дополнительной тревоги, возникшей из-за столкновения с родителями, с семьей, где он вырос, M., возможно, будет все время убегать от своей целостности, скрывая свое лицо за маской здоровья, помогающей ему притворяться перед самим собой, что он представляет собой двух разных людей в двух разных домах. Третье поколение увеличит напряжение его жизни, спровоцирует в нем состояние, похожее на психоз, которое поможет стать ему единой личностью, а не тем, кто разрушает себя и одновременно ищет внешние стимулы для своего существования.
Моя работа с двумя поколениями семьи началась в 1945 году. Я решил, что разуверился в отдельных людях. Они все больше и больше стали казаться мне фрагментами семьи. А затем я услышал, как в дверь стучится призрак бабушки. Каждый отец старается воспроизвести семью своего детства, используя жену и детей в качестве кукол. Каждая мать также стремится возродить тепло своего бывшего дома. Почему бы не собрать вместе эту систему трех поколений и не начать процесс взаимного приспособления друг к другу интроецированных реальностей двух семей? Соединение мифов поможет освободить поколение внуков от тирании семейной мифологии. А может быть, бабушки и дедушки тоже наконец покончат с воспитанием детей, чем они занимались последние тридцать лет, и начнут жить. Я больше не верю в отдельного человека и в его свободу выбора. Меня подмывает сказать пациенту по телефону, когда мы договариваемся о первой встрече: “Приводите три поколения, или не стоит и начинать”.
Многим непонятно, нужно ли приглашать третье поколение на семейную терапию и зачем это надо. В качестве пациентов? Для того, чтобы идентифицированный пациент или один из супругов смог выражать свои глубокие чувства или сражаться с мифами своего прошлого? Самая важная причина, по которой мы приглашаем родителей мужа и жены, заключается в следующем: они могут дать молчаливое разрешение сделать терапевта объектом переноса.
В индивидуальной терапии перенос возникает в контексте тайной или явной оппозиции родителям. Психотерапия противостоит культуре и потому предполагает разрыв с образом жизни родителей. Когда мы приглашаем родителей на первую встречу, пациент в меньшей мере чувствует себя непослушным ребенком, а терапевт с большей уверенностью может двигаться в направлении, противоположном образу жизни родителей. Содержанием самой встречи может стать чисто социальный разговор или выражение поддержки, совсем не обязательно касаться каких-то значимых тем. Родителям не нужно при этом узнавать, что пациент гомосексуалист, что он изменяет жене или мечтает о самоубийстве17. Эта встреча просто предоставляет родителям возможность познакомиться с человеком, который заменит их, чтобы они добровольно могли передать ему заботу о своем ребенке.
Джим и Мэри обратились к психотерапевту по поводу двух проблем: развод и невозможность справиться со своим трехлетним ребенком. Мэри хотела развестись с мужем из-за того, что у Джима ужасная мать. Она рассказала, что та все еще хранит у себя деньги, оставленные для Джима его отцом, а также сбережения Джима, отложенные им за то время, пока он был в армии, за два года до вступления в брак. Ее ярость за последние годы возросла, потому что мать Джима посылала им грошовые подарки на Рождество или ко дню рожденья своего внука. В течение нескольких лет я выслушивал эти жалобы и в конце концов настоял на том, чтобы бабушка приехала из далекого города и вместе с ними пришла ко мне.
Во время встречи Мэри набросилась на свекровь с упреками за дешевые подарочки. Та ответила, что всегда считала их символическими, поскольку каждый раз к ним прилагался чек на 100 долларов. Она также прислала им денег на покупку нового пианино после того, как они отвергли ее предложение взять пианино напрокат за ее счет.
В результате этой встрече образ суровой свекрови, не отдающей своему сыну его деньги и посылающей копеечные подарки, сильно изменился. Джим осмелился защищать свою мать от нападений жены; я получил возможность указать Мэри на ее злобу по отношению к собственной матери, спроецированную на свекровь; Джим и его мать смогли завершить роман прошлых лет; бабушка получила свободу от запутанных отношений в треугольнике, где бушевала война.
Вскоре после встречи терапия закончилась, и на протяжении пяти лет все идет хорошо.
В.M. развелась с мужем через год после свадьбы, потому что тот ее избил. Она была на шестом месяце беременности. После этого она в течение нескольких лет успешно работала с терапевтом, и тот послал ее ко мне, чтобы наладить их взаимоотношения с десятилетним сыном. На протяжении шести лет мы втроем встречались в летнее время от одного до пяти раз ежегодно. Это помогло установить границы между поколениями: обозначить, что мать и сын — отдельные личности и принадлежат к разным поколениям в этой семье с одним родителем.
Когда сыну исполнилось семнадцать, мать захотела привести своих родителей, чтобы проработать взаимоотношения с ними. Она пришла со своей матерью, но не привела отца. На вопрос, куда подевался отец, женщина ответила, что его присутствие не требуется, кроме того, он сам не захотел прийти. Я отказался принять их в тот день, и через неделю пациентка появилась с обоими родителями. Через двадцать минут после начала встречи между ними с отцом возникла физическая драка. Когда она кончилась, отец заявил терапевту: “Я подумал, что нападение дочери было притворным”. Я же возразил, что это похоже на драку супругов. Тогда дочь вспыхнула и стала проклинать своего бывшего мужа, этого “ужасного типа”, которого она не видела восемнадцать лет за то, что он бил ее. Я настоял на том, чтобы она привела и его. Пациентка позвонила мужу, и тот приехал через всю Америку, прибыв за три дня до нашей встречи. Супруги встретились, и теперь уже она била его. Затем у нас было три прекрасных встречи, когда во многом удалось распутать хаос трех поколений. Ну почему я не сделал этого на шесть лет раньше?
Переживание взаимной паранойи пациентки и ее бывшего мужа помогло ей перестать отождествлять отца с мужем. Это также изменило кошмарный интроецированный образ семьи у семнадцатилетнего сына. Теперь он мог видеть взаимоотношения своей матери с ее родителями и с “человеком, который был раньше его отцом”.
Вспоминая свою работу в индивидуальной терапии, я недоумеваю: как я мог так работать и помог ли я хоть кому-нибудь измениться на самом деле? Меняет ли супружеская терапия взаимоотношения, меняет ли она людей? Или просто их исцеляло время, и менялся лишь репертуар ролей? Чем отличается терапия, при которой на первую же встречу приходят все три поколения? Не попробовать ли так? И как тогда она работает?
Шестнадцатилетняя Сью провалила экзамен в школе, она не ночевала дома, а вернувшись, стала мрачной и раздражительной. Ее младший брат был очень замкнутым, мама — в депрессии, а отец — в тихом бешенстве. Он требовал, чтобы Сью лучше занималась и подчинялась домашнему распорядку. Поскольку в это время в семье гостила бабушка, ее тоже попросили прийти вместе со всеми. Когда ее спросили о семье, она ответила: “Я не сую нос в семейные дела дочери”. На вопрос о дедушке бабушка ответила, что тот погиб восемь лет назад. “Как это случилось?” — “Разбился на мотоцикле”. “Он помышлял о самоубийстве?” — “Ну, раз об этом зашел разговор... Я не задумывалась, но он постоянно попадал в аварии, когда ездил”. “Вы его боялись?” — “О да. Несколько раз он меня избивал”.
Так отец мог увидеть, что жена боится его гнева. Он признался, что и сам боится своей ярости, и рассказал, как в старших классах в безумной драке чуть не убил одноклассника. Семья согласилась с тем, что дочь должна научить маму сопротивляться отцу, а отец — получать удовольствие от своей агрессии, не выражая ее в форме самоубийства или избиения матери.
Скрытые темы
Все мы понимаем, что во многих браках семьи жениха и невесты относятся друг к другу с тайной или явной враждой, и это продолжается годы. Шутки про тещу не смешат. Это реальность: “Он чем-то ужасен, этот парень, укравший нашу дочь”, “Мать, не слишком ли воображает из себя эта Эдна перед нашим Джимом?”
Когда представители всех трех поколений сразу же приходят на терапию, это решает многие проблемы. Становится понятно, что в ситуации замешано много людей, даже если проблема заключается всего-навсего в стремлении к росту супругов. Во-вторых, во время такой встречи происходит заключение неявного контракта, облекающего терапевта властью. Ему как бы передают ответственность за боль и за проведение операции. Если беседа проходит хорошо, и участники один за другим делятся своими сомнениями, болями, страхами и надеждами, между семьями дедушек и бабушек нередко возникает тепло, которого не было раньше. Но даже когда между ними остается стена отчуждения, семья их детей ясно понимает: за свою судьбу отвечают только они сами.
Мэри только что выписалась из психиатрической больницы после четырехмесячного периода тяжелого психотического состояния. Муж был достаточно черствым человеком, и троим детям, шести, восьми и одиннадцати лет, было очень трудно снова привыкнуть к матери после ее долгого отсутствия. Родители мужа и родители жены не виделись и не общались друг с другом с самого момента их свадьбы — одиннадцать лет. И тем, и другим не нравился выбор их ребенка. За два часа не было достигнуто никаких результатов, все рассуждали об обычных источниках напряжения внутри семьи, но никто не осмеливался заговорить о чем-то более серьезном. Все боялись подумать о том, что будет в случае еще одного эпизода психотического поведения, и вся консультация казалась неудачной. Тем не менее, на следующей встрече Мэри произнесла: “Теперь я понимаю, почему мой муж такой “правильный”. Раньше я не видела его матери. Она совсем такая же, как сын. При ней мне хотелось ходить по струнке. Я подумала, что мой муж вроде старой девы”.
В результате этой консультации жена простила мужу его скрытую злобу и патологическую “нормальность”; родители мужа, когда-то не пожелавшие приехать на свадьбу, подружились с родителями жены; война супругов за то, чья семья будет воспроизводиться, разрешилась компромиссом; с детей был снят груз вопроса, каких дедушек и бабушек надо слушаться, теперь им уже не надо выбирать между мамой и папой. Семьи мужа и жены сложили с себя родительские обязанности и могли просто наслаждаться игрой со своими внуками. И, наконец, надежды на то, что следующего приступа психоза удастся избежать, возросли, поскольку семьи родителей готовы поддержать семью своих детей в стремлении построить здоровые взаимоотношения.
А что меняется в том случае, если вы уже начали работать лишь с двумя поколениями? Мне кажется, что разумнее показать символическое значение третьего поколения еще при самом первом визите. Позднее присутствие кого-либо из родителей, или всех сразу, может выполнять функцию консультации в процессе терапии. Терапевту не надо раскрывать секреты или даже выспрашивать о детстве мужа и жены. Сам факт, что у этой встречи есть цель (плюс присутствие “семейного терапевта с его рентгеновской проницательностью”), делают ее значимой. Даже разговор об истории взаимоотношений бабушки и дедушки откроет дорогу актуальным темам жизни их детей и часто имеет значение и для внуков. Пускай они сами таскают свой мяч. Они сами знают, что могут перенести и что им навредит.
А как быть при разводе? Приглашайте всех! Приоткрыть старые двери, напомнить, что родитель никогда не перестает быть родителем, всегда полезно, и ни разу еще я не видел, чтобы это причинило кому-нибудь вред. А если они отказываются? Продолжайте настаивать, попросите носителя симптома убедить их прийти, чтобы помочь терапевту. “Мне вы нужны не в качестве пациентов. Я не собираюсь вас судить. Мне просто требуется ваша помощь в моей терапевтической работе”. А как быть с тетушками, дядями, двоюродными братьями и сестрами? Чем больше народу, тем лучше. Мне приходилось работать с семейной группой из тридцати человек, которые вместе провели три дня подряд, много раз я работал с семьей из пятнадцати-двадцати человек. Огромная группа в меньшей степени нуждается в терапевте. Семейная система не в такой мере зависит от лидера, как это бывает при групповой терапии или при собрании большой социальной группы. Достаточно одной искорки, чтобы все вспыхнуло; а семьи, в которых не припасено огниво для высекания искр, встречаются редко.
Когда семейная терапия заходит в тупик и терапевт хочет для укрепления терапевтической власти пригласить нового члена семьи или консультанта, с тем же успехом можно позвать кого-то из родственников. Их надо приглашать в качестве ассистентов терапевта, а не как пациентов. Иначе, например, дедушка с бабушкой подумают, что на них накинутся, будут обвинять за все плохое, что происходит в семье их сына или дочери. Но когда терапевты, в процессе подготовки этой встречи, говорят семье: “Нам нужна их помощь, у нас без них ничего не получается”, тогда они придут и помогут. В начале встречи им говорят о том, что терапия идет неудачно: “Мы не справляемся с нашей задачей, пытаясь помочь этим людям получать большее удовлетворение и живее включаться в процесс жизни. Поэтому мы ищем помощи везде, где только можем”. Если после подобного предисловия не рождается ответ, терапевт может попросить старшее поколение поделиться своими наблюдениями по поводу семьи их детей, в прошлом или настоящем, а может быть — надеждами и тревогами перед лицом будущего. Когда не помогает и это, терапевт может предложить им рассказать об их собственных проблемах или достижениях в браке, поскольку это может оказаться полезным более юным поколениям. Надо ли приглашать их еще раз, когда такая консультация окончится? Обычно я приглашаю их приходить, когда им этого захочется — хоть каждую неделю, коль скоро они этого желают.
У такой консультации много символических целей. Терапевт не смотрит на бабушку с дедушкой как на извергов. Это может удивить родителей. Оказывается, люди старшего поколения способны относиться к своим детям как ко взрослым. Обычно родители открывают в таком столкновении с реальностью, что их “предки” сильно отличаются от своих интроецированных образов двадцати-тридцатилетней давности, а это ослабляет власть могущественных образов над их жизнью. Родители могут понять, что их собственные родители способны сами жить своею жизнью. Это освобождает родителей от перевернутого с ног на голову чувства ответственности за своих родителей. Супруги могут увидеть, что дедушка с бабушкой не оспаривают их независимости, не возражают против того, что они принадлежат к более юному поколению, позволяют им самим воспитывать своих детей. Так и супруги, и их родители становятся свободнее для того, чтобы жить своей жизнью. Две семьи могут отделяться друг ото друга — и потому могут принадлежать друг другу.
Я должен особенно подчеркнуть, что, устраивая такие встречи на протяжении многих лет, ни разу не видел, чтобы они кому-нибудь принесли вред, хотя бывает, что люди старейшего поколения выходят рассерженные. И не было ни раза, чтобы это не приносило пользы. Часто я даже сам не понимаю, почему. Постоянно растет моя уверенность в том, что встречи с третьим поколением полезны во всех случаях, практически всегда.
Джим, отец семейства, провел четыре года в индивидуальной терапии, но это не избавило его от замкнутости в себе и от застенчивости. Его жена, школьная учительница, тоже оказалась у психотерапевта, обратившись к нему по поводу приступов психоза, появившихся вследствие переживаний о своих четверых приемных детях. После года лечения ее психотерапевт оказался гомосексуалистом и покинул город. Женщину направили ко мне, я попросил терапевта отца стать моим ко-терапевтом в терапии этой семьи. У матери произошло три психотических приступа в следующем году. Однажды она выскочила на середину улицы и получила несколько переломов в результате столкновения с машиной, после чего несколько недель провела в больнице. За это время ко-терапевт настоял на том, чтобы в терапию включились отец мужа и мать жены, а также сестра мужа. В последующие два года к нам на каждую встречу приходили муж, жена, четверо детей, дедушка, бабушка и тетка. Если кто-то из них отсутствовал, мы не соглашались принять семью.
Терапевтический процесс главным образом был направлен на то, чтобы помочь дедушке и бабушке постепенно выйти из своей изоляции и включиться в жизнь. Скрытые психотические черты мужа также вышли на поверхность, и он мог их интегрировать. Дети превратились из бунтующих бестолковых зверей в людей, умеющих жить творчески. Взаимодействие с родственниками стало живым и гибким. У матери повторялись приступы психоза, но постепенно они становились все менее серьезными. Вся система трех поколений стала единым целым.
Присутствие третьего поколения прибавило нам силы для того, чтобы помочь справиться как с проблемами идентифицированных пациентов, так и со многими семейными проблемами. Работая с тремя поколениями, терапевт также может свободно входить в семью и выходить из нее. Это жизненно важно: как только терапевт затерялся в семье, он уже ничем не поможет. Процесс терапии трех поколений помог каждому: четверым детям, двум родителям, сестре родителя, бабушке и дедушке. Нам также удалось избежать полной неудачи предыдущих терапий: индивидуальной терапии родителей, супружеской терапии и терапии детей.
Как начать работу с такой группой, где присутствуют три поколения? Вначале обычно в деталях описываю свое собственное бессилие: “Семейные системы обладают огромной силой. Любое изменение может произойти только в результате группового решения. Команда семьи проигрывает во всех соревнованиях. Я, как тренер, хотел бы научить их побеждать, но мне не хватает власти. Я не могу даже выйти с ними на поле, я просто новый тренер. Как лучше всего им помочь? Вы, дедушка, сталкивались раньше с подобными проблемами? Откуда они?” Я всегда приглашаю семью приходить в любое время, а если есть желание, то и на каждую встречу. Иногда все члены семьи продолжают ходить, и это само по себе уже есть революция. Если они не могут приходить регулярно, я прошу разрешения пригласить их еще раз — всех вместе или отдельные подгруппы. Они могут прийти по своей инициативе, почувствовав, что это необходимо, или я позову их, когда, с моей точки зрения, будет нужно.
Новое в психотерапии чаще всего появляется достаточно случайно. Профессионалы, как правило, не стремятся вводить что-то новое до тех пор, пока их к этому не вынуждают терапевтическая забота или творчество пациентов. Чувствуя свою неуверенность при индивидуальной работе, я стал работать с супругами, а для того, чтобы преодолевать тупики супружеской терапии, стал приглашать семью. Один носитель симптома породил такую лавину телефонных звонков, что в результате собралось 35 человек (из 45 приглашенных членов расширенной семьи), чтобы три дня воевать друг с другом в присутствии терапевта. Цель встречи — остановка кровотечения у одной семьи.
Особенность такой работы с широким кругом семьи состоит в следующем: чем больше присутствует людей, тем меньше требуется вмешательство профессионального терапевта. Его роль — создание времени и места встречи, от него даже не требуется быть посредником. Тревоги и мысли о предстоящей встрече, мелькающие в голове каждого ее участника и в беседах между родственниками, заранее создают условия для разговоров о разных семейных секретах. Вопрос только в том, кто достаточно смел, чтобы начать. Терапевт может в качестве предисловия поговорить о теории систем, может также разрушить их фантазии о том, что он будет активно во все вмешиваться. Но как только началось движение и раздался первый выстрел, обычно со стороны старшего поколения, битва разгорается, а терапевту остается только сидеть и наблюдать. Часто напряжение настолько велико, что он ничего не может добавить, поскольку ситуация слишком горяча и прикосновение к ней обжигает. Обычный многосторонний подход или работа в виде регулярных встреч здесь излишни, поскольку у такой большой семейной встречи своя неповторимая динамика. Кроме того, следующую встречу трудно будет организовать по техническим причинам — причинам пространства и времени. Но можно сделать так, чтобы встреча продолжалась несколько полных дней, и за это время достичь значительного облегчения подавленных чувств, открытия новой реальности, можно разбить застарелые треугольники взаимоотношений, восстановить порванные связи между группами, в прошлом близкие, приостановить семейные войны.
Цель такой встречи — преодолеть разъединенность отдельных подгрупп и, что не менее важно, дать возможность членам большой семьи узнать друг друга, своих родственников: кто они, как живут, как действуют. Это и есть процесс интеграции. Если меня спросят, пытаюсь ли я изменить всю организацию большой семьи, я отвечу, что не ставлю перед собой такой задачи. Тем не менее, новое чувство принадлежности к большой семье, ощущение сети кровных связей, на которые можно положиться, многое меняет в жизни людей, чувствующих себя одинокими в городской социальной среде обитания, манипулятивной и холодной.
Когда семейная группа видит, что я действительно верю в то, что они знают себя лучше, чем я, появляется новая открытость. Они могут пригласить священника, к которому раньше обращались за помощью, или рассказать о том, что сказал их врач во время последнего астматического приступа у кого-то. Одна семья пригласила нового мужа матери, который, как подозревали, в драке убил прежнего отца семейства. Еще одна семья пригласила соседа как бы только для того, чтобы он, ко всеобщему удовольствию, выложил на стол перед всеми семейное грязное белье.
Часто терапевту разумнее всего держаться в тени, разве что иногда просить прощения за свою личную ограниченность: “Извините, но я не католик”, или “Хотел бы я понимать ваш фламандский язык”.
Один побочный эффект такой встречи трех поколений появляется почти всегда — растущее чувство родового достоинства: “А у нас, Джонсов...” Оно вместе с осознанием своей истории создает ощущение взаимосвязи прошлого и настоящего, чего не дают обыкновенные семейные праздники, свадьбы или похороны. Часто знакомство дедушки и бабушки со своими внуками ведет к взаимному прощению и оживотворяет группу, что потом надолго исцеляет изолированную семью от обычных напряжений. Нервное истощение матери, живущей в пригороде, фанатичная преданность отца работе — это, действительно, огромные проблемы, которые трудно разрешить одинокой семье с их терапевтом.
Еще один побочный эффект такой консультации — теплое чувство целостности, противоядие тому культурному отчуждению, столь прекрасно названному Кейзером18 “бредом слияния”. В то же время оно позволяет каждому отвагой ощущать свое одиночество и ограниченность рамками времени.
Общение трех поколений ясно определяет границы между разными поколениями и одновременно смягчает их. Терапевту нетрудно предложить старшим вспомнить старое доброе время, а это позволяет внукам познакомиться с семейными ритуалами и наслаждаться, созерцая картинки прошлого. Каждое поколение приходит к пониманию того, что можно быть лишь на своем месте и тогда проще понять, чего от тебя ожидают другие, а это способствует развитию новых функций. Взаимодействие двух полов — флирт бабушки и внука или дедушки с внучкой — снимают тяжесть эдиповой вины с семьи и включают любовь и сексуальность в единую радость бытия.
Взаимодействие двух семей — родителей мужа и родителей жены — особенно ценная вещь. Обе эти семьи тайно претендуют на потомство своих детей, приписывая все неудачи, реальные или воображаемые, семье партнера своего ребенка. Так может возникнуть война ревности, и ее дух заразителен. Семейная встреча самим фактом, что на всех можно поглядеть, часто уничтожает эти противоречия. Открытие другого поддерживает в человеке чувство своей собственной ценности, непохожее на самоуважение преуспевающего человека. Каждый заново открывает свою Я-позицию в семье своего детства, сюда добавляется третье измерение, место человека в большой семье, состоящей из трех поколений.
Каждый может, стихийно или осознанно, представить себя самого, каким он был двадцать пять лет назад, или себя через двадцать пять лет, и такое спроецированное время позволяет открыть новый смысл настоящего, интегрировать его с помощью правого полушария головного мозга, а этого невозможно достичь при использовании любой возможной формы работы с терапевтом. Некоторые даже начинают делать пробные шаги в пространстве новой для себя зрелости. Функции становятся гибче, роли — разнообразнее. Подростки говорят мудрые вещи, взрослые безответственно резвятся, как дети, мужчины становятся нежными, между супругами возникает новая любовь. А бабушки и дедушки впервые в жизни превращаются в товарищей по играм.
Когда система трех поколений собрана вместе — для профилактики патологии, для исцеления, в качестве консультации для терапевта, подавленного тяжестью ситуации, для заключения перемирия в гражданской войне трех поколений, — то, что такая встреча дает семье на долгие годы, сильно превосходит ее непосредственную ценность. Гибкость ролевых требований возникает почти что автоматически, часто меняются равновесие взаимоотношений и расстановка сил в тайных коалициях. Участие в мета-игре изменения рождает новые зрительные интроекции отдельных людей и подгрупп, а это меняет внутрипсихическую семью каждого человека. Открывая, что он принадлежит к целому и не может игнорировать эту связь, человек обретает новую свободу принадлежать другим, и, разумеется, свободу быть самим собой.
Теория — помеха
в клинической работе
В этой главе Витакер решительно утверждает, что терапевт должен быть в большей мере человеком, чем теоретиком или техником. Витакер предостерегает нас: теория убивает творчество и интуицию, а иногда разрушает и терапевта. Привязанность к теории снижает уровень тревоги, но терапевт должен отказаться от такого пути, тогда он может научить переносить тревогу и семью.
Вера в теорию приводит, по мнению Витакера, к тому, что терапевт полагается на техники и пытается манипулировать семьей, чтобы достичь какой-то узкой цели. А терапевт, отказавшийся от техники, желает просто быть вместе с семьей и дает им свободу двигаться туда, куда хочется им. Такой терапевт отказывается играть раз и навсегда установленную роль в семье и таким образом учит членов семьи ролевой гибкости. И прежде всего он показывает образец целостности и роста.
Данная статья отражает самую суть того, что Витакер хочет донести до психотерапевтов. Но большинство психотерапевтов не готовы это принять. Возникает опасение: вдруг терапевт будет вести себя бестолково и навредит своим пациентам? По мнению Витакера, опасность угрожает в большей мере с противоположной стороны: слишком сильная преданность теории опасней, чем пренебрежение теорией. Психотерапевт изучает теории много лет, и работа Витакера предлагает противоядие тем, кто отравился в процессе обучения. Терапевт должен стремиться преодолеть пределы техники, выйти за их рамки, но это предполагает наличие своих теорий и техник.
На мой взгляд, все теории разрушительны, и я знаю, что интуиция разрушительна. Печально, не правда ли? И никаких оправданий себе не придумаешь. Как сказал Берт Шейнбек:
Гляди
дело хуже,
чем ты думаешь,
а если думаешь,
то совсем плохо.
Теории
Теория — это попытка сделать непознаваемое познаваемым. Теория стремится заставить левое полушарие мозга управлять правым. Этому уже было дано определение много-много лет назад: “Человек может увидеть лицо Божие лишь через темное стекло”. Теория пытается понять невозможное. Была создана теория, что все мы зачаты во грехе. Существует и другая гипотеза: все мы рождаемся невинными. Тиллих говорит, что бытие есть становление и мы убегаем от бытия, пытаясь действовать. Мы все время что-то делаем, чтобы убежать от бытия. Согласно моей теории, все теории плохи, они пригодны лишь для начинающего игрока до того момента, когда он может смело отбросить теории и просто жить, потому что уже давно известно, что любая форма зависимости от теории ограничивает и связывает.
Успехи в психотерапии невротиков привели к появлению теории, что развитие способности обговаривать те ситуации двойной связи, которыми мы пользуемся для самообмана, исцеляет пациента. Но этим запасным выходом не воспользуешься во время психотерапии пациента с серьезной патологией, и он совсем не применим по отношению к семьям. Тем не менее, психотерапевты очень восприимчивы к такой болезни, как мета-общение. Мы так умело говорим о разговорах и думаем о мыслях, что можем потерять свободу говорить или мыслить.
К тому же, сочетание мета-общения и профессиональной объективности приводят к тому, что мы теряем способность заботиться. Мы говорим об “объекте любви” или о поисках техники для “социальной манипуляции”. Это все равно что говорить о “параметрах тела человека”. Зависимость от теории часто возникает из-за того, что пациентам становится лучше. Некоторые невротики выздоравливают даже и в результате научного исследования этиологии и психопатологии их невроза. (Тот факт, что психотикам такие обследования не помогают, просто попадает в рубрику непонятных дополнительных данных.) Но технические подходы не прививаются терапевтам второго поколения. Роджерианская теория, столь успешно практикуемая Карлом Роджерсом, не приносила тех же плодов у его последователей и учеников. В результате многие из них оставили теорию Роджерса и стали самими собою вместо того, чтобы стать дешевым изданием своего учителя. То же самое случилось с Лазарусом, который ушел от теоретической структуры Вольпе, стал самим собой и даже написал книжку под названием “За пределами поведенческой терапии”.
Теория симптома
Медицина понимает, сколь опасно лечить симптом вместо болезни. Каждого студента-медика предупреждали: нельзя давать обезболивающее, когда пациент жалуется на боль внизу живота справа: это может привести к прободению аппендикса. Тем не менее, в психотерапии много усилий направлено именно на то, чтобы устранить неприятный симптом. И действительно, иногда это сильно облегчает жизнь пациента. А если симптом возник в ответ на патологическую культурную или семейную ситуацию? Тогда помочь пациенту лучше приспособиться к такой ситуации — значит, сослужить ему дурную службу, может быть, это убьет в нем стремление к росту и интеграции. Может быть, симптом — это драгоценный опыт регрессии на службе Эго, и в подобном случае “добрый“ терапевт притормозит этот “экзистенциальный прыжок” (Эйзенберг), который мог бы принести плод, не только обогатив пациента двухнедельным “пиковым переживанием” (Маслоу), но и глубоко изменив его личность — и внутренне, и в отношениях с другими. Может статься, избавление от боли не дало вырасти чудесному цветку.
Теория замораживает интуицию и творчество, а в психотерапии ситуацию ухудшает тенденция ставить во главу угла избавление от симптома, то есть адаптацию к культуре, к семье, к напряженной ситуации. Но психологические симптомы подобны болям в животе, нельзя их устранять, иначе пациент может умереть от гнойного перитонита. Про пациента, который освободился от симптома за счет того, что его стремление интегрировать конфликтующие силы было разрушено, можно сказать, что “операция прошла успешно, хотя больной умер”.
Привести пример? У Джо психоз. Это его попытка стать Христом для своей матери и показать ей, что она может справляться с ночными кошмарами. Попытка удалась: мать успокоилась, хотя, конечно, стала больше переживать за своего сына.
Семейная терапия должна освобождать от рабства культуры. Требования культуры похожи на требования матери: культура требует, чтобы мы, связанные с ней симбиотической зависимостью, ей принадлежали, чтобы мы стали рабами ее обычаев. И вдобавок, культура стремится загипнотизировать нас, чтобы мы не знали об этом симбиотическом рабстве. Семья также использует и другое требование культуры: чтобы все люди отличались друг от друга — вместо того, чтобы быть самими собой. Если мне успешно внушили, что я не похож на вас, тогда я могу думать, что я — это я. Открытие себя через отрицание — одна из скрытых пружин стремления к разводу. Раз я уже не часть другого человека, значит, я нашел себя — тонкий бредовый самообман, ведущий к дурному одиночеству.
Заратустра обличал зависимость западных людей от дихотомии Бог-дьявол. Людей разделяют на хороших и дурных, на основании поведения человека решают вопросы жизни и смерти. Преданные теории люди помещают поведение терапевта и пациента на разных полюсах. В интерпретациях слышны бесчисленные оттенки осуждения. Свобода общения существует лишь за рамками такой системы, там, где нет полярностей правильно-неправильно.
И в частности, ориентация на теорию превращает терапевта в наблюдателя. А тогда он не только убегает от возможности становиться человеком и расти самому, но вдобавок учит и семью убегать от смелости бытия, от смелости быть. Коан Тиллиха “Бытие есть становление” превращается в “Действие защищает от бытия”. Многие очень занятые и деловые семьи убегают в дела потому, что они как бы решили: будем функционерами, чтобы убежать от тревоги. Это парализует стремление к интеграции, стремление к целостности. Каждый становится наблюдателем и актером на сцене, каждый хранит дистанцию от людей и боится плохо сыграть свою роль. Так возникает больная, неподвижная, нерастущая группа.
Студент, обучающийся психотерапии, нередко не может включиться в страдания пациентов, потому что это вызывает невыносимую тревогу. Неудачи оставляют осадок в виде ощущения своего бессилия, успехи вызывают эйфорию, с помощью которой легче скрыть ужас перед появлением следующего пациента. Подручные диагнозы помогают нейтрализовать эти сильные чувства. Первые теории очень просты: ее не любила мать, его отец был жесток, родители не хотели третьего ребенка. За три года обучения концепции усложняются: игровая терапия должна облегчать накопленную агрессию; физический контакт можно эффективно использовать в ответ на эмоциональный голод при синдроме сироты; все женщины, которым за тридцать, невротички, а все мужчины в этом возрасте ко всему равнодушны. Именно так новички отыскивают причины всего, с чем сталкиваются в рабочем кабинете.
И мы, работающие в институтах специалисты, достаточно интеллектуально вооружены, чтобы дать им сложные и всеобъемлющие ответы на вопрос о том, почему пациент страдает. В курсах по теории детского развития описываются многообразные формы патологии родителей, их неудачи, возникшие в результате того, что они позволяли ребенку делать все, что тот хочет, неудачи вследствие слишком слабых или слишком жестких границ между поколениями, авторитарной атмосферы, недостатка близости между родителями и нежеланными детьми.
Должен быть какой-то ответ. Несчастный стажер терзается противоречиями. Где истина: у Фрейда, у Юнга, у Роджерса? Кто из них прав? В идеях Адлера что-то есть, но и в мыслях Ранка или Рейха — тоже. А может быть, психологию вообще следует оставить, не вытесняет ли ее биология? Одно лекарство не действует, может быть, другое окажется эффективными? Или “они” — Кто есть эти они? — придумают новое средство от тревоги? Растет опыт работы с пациентами, разрастаются и теории, становятся глобальными, окруженными броней подтеорий: пациент не готов к терапии; здесь имел место эдипов комплекс, но смерть отца делает разрешение этой ситуации невозможной задачей. Иногда подобные объяснения столь же запутаны, как теологические конструкции богослова, создавшего ответ на свои тревоги систему, а иногда — две или пять.
Эту дилемму обучения психотерапевтов можно решить тремя способами. Либо бросить психотерапию, либо стать фанатиком какой-то одной системы, либо обречь себя на вечный поиск. Период полураспада переноса по отношению к каждой теории может быть разным, но в целом их значение с годами снижается, когда терапевт видит, что спонтанные выздоровления происходят не менее редко, чем выздоровления, согласующиеся с теорией. Проблема заключается в бредовой теории о том, что наука исцеляет, что достаточное количество знаний и информации разрешат все жизненные сомнения, проблемы и страдания. Это, конечно, сильно отличается от большинства систем философии или терапии на Востоке. По сути дела, йога — не метод терапии. Терапия человека происходит внутри культуры, и в таком случае йога помогает ему расширить границы своего “Я” после того, как он уже живет в ладу со своей культурой и умеет обращаться с самим собой, после того, как он уже прошел битвы за свой рост.
Разумеется, и на Западе терапия происходит внутри культуры, вопреки мнению многих изданий по психотерапии, утверждающих, что непрофессиональная помощь — вещь плохая, нереальная или вредная. Без сомнения, множество детей, с младенчества предрасположенные стать шизофрениками, могут, если им удается познакомиться с любящей соседкой или даже с доброй соседской собакой, научиться любви, быть самими собой и близкими с другим. Это обычно называют дружбой, но более честно — социальной терапией. Бабушка, угощающая девочку при каждой встрече вкусностями, старый плотник, зовущий соседского мальчишку с собой на рыбалку, начальник, устраивающий разнос своему подчиненному или супервизор, строго следящий за работой будущего профессионала, — все они могут оказаться терапевтичными для кого-нибудь. Хотя, кажется, за последние десятилетия культура становится менее терапевтичной, чем прежде. Раньше, например, в воскресный день в доме бабушки могли собраться в честь какой-нибудь даты многочисленные родственники, сегодня такая естественная психотерапия встречается нечасто.
Как же может действовать начинающий терапевт без помощи теории? Психотерапия — это искусство. Развить интуицию правого полушария своего мозга нелегко; техники лишь с огромным трудом высвобождаются из-под навязчивого господства левого полушария, словесного и запугивающего. Хороший супервизор и защита от ситуаций, когда тебя охватывает тоска из-за того, что растишь слишком уж изуродованного ребенка, способствуют тому, что в молодом терапевте пробуждается чувствительность к мукам заботы. А затем постепенно приходит и жесткость, необходимая для отделения от пациента и для того, чтобы можно было переносить все время повторяющийся синдром пустого гнезда. Если молодой терапевт не научится быть жестким, он неизбежно будет удаляться на безопасную дистанцию от каждого своего пациента. Когда молодая мать учится кормить и любить свое дитя, ей требуются нежность, поддержка мужа и своей матери; так и молодому терапевту необходимы профессиональные товарищи и опека старшего человека.
У нетехнической или нетеоретической семейной терапии есть различные аспекты. Один из них, может быть, самый ценный, позаимствован у дзэн-буддизма, построенного на том, чтобы разрушить запрограмированность человека его собственным прошлым с помощью постановки перед ним невозможной задачи. Дзэн учит не адаптации, а смелости, он учит, как реагировать на невозможную проблему, подталкивает ученика к новой целостности, отнимая у него все логические, теоретические, заученные способы постижения. Ученик должен ответить на парадоксальный вопрос, называемый коаном. Самый известный коан: “Хлопок двумя ладонями громок, а как звучит хлопок одной ладонью?” Размышления над ответом могут занять много месяцев, и для этого надо выйти за рамки привычного мышления. Один из возможных ответов утверждает, что звук хлопка одной ладони — это Ом, звук вселенной.
В процессе нетехнической или нетеоретической семейной терапии мы сознательно стремимся увеличить уровень тревоги. Терапевтическая команда выражает свою заботу, а это позволяет семье тревожиться, не убегая от своих чувств, не пользуясь привычными защитами. Терапевт устанавливает с некоторыми членами семьи Я-Ты отношения, модель гибких взаимоотношений подлинной заботы, помогающих семье терпеть тревогу. Терапевт говорит с семьей на своем тайном языке, которым разговаривает сам с собой, делится своими метафорами, свободными ассоциациями и фантазиями. Однажды мне представилось, что от мочек ушей семейного “козла отпущения” идет леска к ушам всех остальных членов семьи. Эта фантазия, когда я о ней рассказал, помогла семье сделать шаг к единству, о котором все они мечтали, оставив надежду его когда-нибудь воплотить.
Семейная терапия начинается с борьбы, в которой семья испытывает терапевта, проверяя, можно ли положиться на этого чужака, дабы он хранил их стабильность в то время, как они меняют семейную систему, для исцеления “козла отпущения” и достижения большей индивидуации. Когда битва за структуру или битва за границы поколений между пациентом и терапевтом свершилась, наступает новый этап: семья требует, чтобы терапевт сказал им, как надо жить, что хорошо, что плохо, настаивает, чтобы он возглавил эту семью. Когда терапевт предан какой-либо теории или просто верит в теорию психотерапии, он склонен подавать ее как теорию изменения, теорию роста или даже теорию правильной жизни. И, как бы тонко или осторожно он ее ни преподносил, в результате пациент или семья, приняв эту теорию, либо оказываются зависимыми, либо бунтуют, и в терапии уже мало чего можно добиться.
В идеале в этот момент должен наступить ролевой переворот: терапевт установил свою позицию, он отказывается от всяких теорий и вынуждает семью творить свою собственную теорию, свою систему, организующую их жизнь. Он утверждает, что его собственная жизнь ему кажется необъяснимой, поэтому необъяснима и жизнь семьи. Тем не менее, семье надо принимать решения, от этого никуда не денешься. Такой ролевой переворот, внешне похожий на парадоксальную интенцию, на самом деле является проявлением родительской заботы терапевта, бесконечно уважающего неповторимость каждого человека и уникальность семьи в целом. Как внутренняя жизнь отдельного человека неповторима, так неповторима и межличностная жизнь каждой семьи. Когда удалось утвердить этот факт и семья начинает понимать, что у нее свое особое строение и терапевт действительно не знает, как им надо жить, тогда он может присоединяться к семье, становясь ее консультантом, может входить в семью и выходить из нее в индивидуацию. Терапевт выходит из семьи, чтобы обозначить, что у него есть своя жизнь, и только его дело, как с ней обращаться.
Этим терапевт показывает образец. Конечно, показывать образец можно и на чисто техническом уровне. Тогда возникает некто вроде доброй мамаши, всегда готовой дать свою грудь. В худшем случае это рождает симбиоз, в лучшем — зависимость и психопатическую манипуляцию, стремление получить как можно больше молока. В сущности, это похоже на наркоманию, где наркотиком для семьи или пациента становится терапевт. Такой вседающий терапевт, добившийся зависимости пациента, сам становится скучающим автоматом, который живет в мире мета-общения и не общается. Кроме того, это огромное бремя для семьи: она должна играть в его игру, чтобы выжить.
Теоретический подход рождает эффективную технику, с помощью которой семья включается в терапию. А далее, если процесс не идет и семья остается зависимой, бунтует или прерывает терапию, страх перед неудачей превращает терапевта в холодного наблюдателя. Он теряет способность к подлинной близости и сотрудничает с пациентом, предавая самого себя. Терапевт становится кем-то вроде технической проститутки.
Нетехнический терапевт или терапевт, не полагающийся на теорию, действует гораздо гибче и свободнее19. Он разрушает мифы, созданные о нем в семье, показывая свою непредсказуемость. Он то присоединяется к семье, то отделяется от нее. Его забота в обоих случаях ясно прослеживается, но он также показывает, что заботится в большей мере о самом себе, чем о семье. Пациенты чувствуют, что он работает с ними для того, чтобы научиться лучше заботиться и раздвинуть границы своей личности. Показывает им ценность безумия, этой навязчивой ненавязчивости, и учит их быть самими собой, учит творчеству — и каждого по отдельности, и подгруппы семьи, и ее целое. Он превозносит безумие семьи, отправляющейся в путешествие на машине с намерением пересечь всю Америку, безумие одиночки, изучающего психиатрию, который раз в месяц одевается клоуном и слоняется по городу, делая глупости, как бы становясь кем-то другим; безумие нескольких подростков, которые вместе уходят заниматься своими делами, предоставляя родителям сражаться за свое супружеское единство. Показывая пример игры, терапевт с помощью своей собственной регрессии создает регрессию в семье во время встречи. Иногда встреча семьи с терапевтом проходит без какой-либо определенной цели.
Также терапевт своим поведением разрушает мифологию психотерапии. Когда правила терапии определились, он может пригласить ко-терапевта, консультанта или кого-то из своих детей. Он может превратиться в пациента и решать свои проблемы, может пригласить другого пациента или даже еще одну семью. Осколки психопатологии терапевта, кусочки его неуправляемого и нецелостного “Я”, истории из детства — все идет в дело на средней стадии семейной терапии, где должна царить полная свобода от теоретических рамок, где нарушается всякое привычное, укоренившееся и всосанное с молоком матери поведение.
При таком нетеоретическом подходе очень ценно, терапевт может не требовать от семьи прогресса, даже не стремиться к этому. Он просто участвует в бытии семьи, семья участвуют в бытии терапевта, и это разрушает их собственные теории изменения, теории надежды на будущее или теории последствий прошлого. Наконец, в процессе перемены ролей терапевт может выразить свое желание стать “козлом отпущения”, и семья может выбрать его на эту роль. Он может также показать, как надо уходить из семьи, о чем мечтают некоторые ее члены. На самом деле они не хотят уходить. Они хотят такой свободы, когда можно было бы уходить и возвращаться по своему желанию.
Нам надо представить себе цель психотерапии, чтобы говорить о ней. Мы полагаем, что семья приходит потому, что люди в ней не могут быть близкими и, следовательно, сами собой. Они приходят, чтобы научиться заботиться, чтобы увидеть, как можно быть друг с другом в тесном симбиозе, но не являться пленниками, страдальцами и жертвами. Они хотят справиться со своей злобой.
В результате семейной терапии создается группа людей с такой ролевой гибкостью, что каждый по обстоятельствам может принять на себя любую роль. Здоровая семья дает свободу любым своим подгруппам. Например, отец с дочерью или мать с сыном играют в супругов, и это не возбуждает ревности ни у взрослых, ни у детей. Мать или отец превращаются в ребенка, и семья остается единым целым. Папа приходит с работы с головной болью и предлагает своему сыну или дочке побыть его мамой, и мама может после трудного дня побыть маленьким ребенком для своих собственных детей.
Тем не менее, в семье должны установиться четкие границы между поколениями. Хотя родители — отдельная подгруппа внутри семьи, их роль определяется тем, что они относятся к старшему поколению. В хорошей семье треугольники не нарушают мира и являются подвижными, так что когда папа с дочкой объединяются против мамы или мама с дочкой — против папы, это временное живое образование, а не что-то застывшее и мучительное.
Нормальная семья большей частью живет в настоящем времени. Призраки прошлого и надежды будущего не отравляют настоящего. Каждый член семьи установил свою Я-позицию и является целостной личностью. Все в такой семье понимают, что центр жизни каждого лежит внутри него самого, хотя семья и включается в его открытое “Я”. Семью обогащают связи со старшим поколением: с семьей матери и с семьей отца. В нормальной семье есть подлинная взаимная любовь, семья способна принимать чью-то борьбу за индивидуацию или за отделение как часть жизни, без темного фона отчаяния. Члены семьи с удивительной свободой регрессируют, когда это нужно, и проводят время вместе, как дети, открытые, свободные от интеллектуальной тяжести мета-общения.
Мастерс и Джонсон свели все сексуальные проблемы к двум основным типам поведения: человек или боится выступления на сцене, или удаляется, чувствуя себя наблюдателем. Эта прекрасная формулировка может послужить отправной точкой для того, чтобы выскочить за пределы бесконечных теорий, появившихся за последние пятьдесят лет (причем каждая из них приводила к очередному терапевтическому успеху). А может быть, наши теоретические конструкции — это просто самообман, позволяющий нам убежать от ощущения бессилия?
Объективная оценка патологии и сознательное усилие, направленное на коррекцию отклонения — все это не приложимо к семье. Теории происхождения психопатологии, выводящие ее из инфантильного характера и развития личности, — это абстракции, не объясняющие развитие семейной системы и ее патологии.
В рабочую теорию семейной патологии должны входить семейные и культурные мифы. А на деле у терапевта есть свои неосознанные теории, основанные на мифах семьи и культуры, в которых он вырос. Исследование происхождения невротических проблем отдельного человека зачастую приводит к освобождению от патологии, но в семейной терапии этого явно недостаточно. Главный изъян терапевтов — то, что им не хватает власти. Терапевт бессилен. Отчасти такое бессилие происходит из-за того, что терапевт привык думать в терминах линейной причинности, а изучение семейной системы ясно показывает, что причинность — вещь циркулярная. Никогда нельзя сказать, что патология семьи происходит оттуда-то, как нельзя указать на причину Первой мировой войны. Хотя теории помогают объяснить различные процессы и представляют определенную ценность в начале любой работы, хороший чертеж — это еще не то же самое, что хороший дом.
В хорошей терапии замешаны физиологические, психосоматические, психотические и эндокринные реакции терапевта, погруженного в глубокие взаимоотношения. Его свободу проживать подобно шаману первичный процесс должны охранять профессиональный ко-терапевт или поддерживающая группа коллег. Психотерапия противостоит культуре, и если терапевт не защищен, общество погубит его.
Преданность теории в семейной терапии — это, по сути дела, обман, маскирующий сам процесс терапии. Это бегство через запасной выход от чудовищного напряжения, возникающего между терапевтической командой и семьей. Многие считают, что интеллект создает структуру, с помощью которой можно вступить во взаимодействие с семьей, но не запутаться в ней. Я так не думаю. Теория — абстракция левого полушария, объясняющая действие всего мозга. Теория стремится к объективности, чтобы защитить терапевта от контрпереноса, а на самом деле — просто переноса, и это такие же пустые слова, как и концепция необусловленного принятия Роджерса, утверждающая, что любовь покрывает все.
Теория очень мало влияет на реальную практику психотерапии. Это прекрасно иллюстрирует история групповой терапии в армии во время Второй мировой войны. Под командованием одного группового терапевта находилось еще тридцать человек. Они старались предотвратить возникновение психозов у летчиков, которые каждый день отправлялись бомбить Германию. Особенно их беспокоили штурманы, поскольку в трудных ситуациях они могли лишь пассивно сидеть и ждать, и потому сходили с ума гораздо чаще, чем остальные члены экипажа. Терапевты представляли самые различные школы и направления: там были ортодоксальные фрейдисты, ученики Салливана, последователи Мелани Кляйн; среди них находились и педиатры, получившие трехмесячную ускоренную подготовку, и доктора, до того работавшие только преподавателями. Их шеф за два года такой работы в интенсивной групповой терапии заметил интересную вещь: успехи или неудачи в работе зависели только от личности терапевта. Иными словами, и тот, кто был прекрасно подготовлен, долгое время участвовал в групповой терапии, и тот, кто был совсем новичком, работали хорошо ровно в той мере, в какой являлись людьми в своих группах. Таким образом, эффективность оказалась величиной, не зависящей от технической подготовки. Шеф также пришел к выводу, что неопытных людей можно смело использовать при условии, что есть супервизор, который защитит их от постоянных проблем контрпереноса.
Вместо теории можно пользоваться своим накопленным опытом вместе со свободой, позволяющей устанавливаться взаимоотношениям, и тогда мы способны быть самими собой, имея минимум предубеждений и максимумом открытости ко всему настоящему и к нашим собственным импульсам роста. Мы также должны уважать целостность семьи: только она сама творит свою судьбу. Человек имеет право на самоубийство, так и семья имеет право разрушать себя. Терапевт не должен и не может подчинять семью своей воле. Он их тренер, а не игрок в их команде.
Тот факт, что пациент — и особенно семья — объявляет себя бессильным, когда просит о помощи, не значит, что они действительно слабы. Слабость, появляющаяся в начале терапии, представляет собой просто проявление переноса; никоим образом это не означает, что им нужен лишь нежный пассивный слушатель. Вместо этого заботливый терапевт может положиться на свою эмпатию и верить в силу семьи, тогда прямое столкновение людей друг с другом окажется эффективным и ценным.
Терапевту необходима сила, чтобы вмешаться в жизнь семьи, вступить с ними в сражение. И одновременно ему не следует бояться быть самим собой и делиться с другими своими безумными мыслями и ассоциациями. Он должен раздвигать границы своей личности, показывая семье, как они могут расти. Семейная терапия похожа на психотерапию психотика: при длинных размышлениях зажигается индикатор: “Это вранье”, одинаково чувствительный и у психотика, и у семьи. Чтобы пробить запрограммированный ум семьи, терапевт должен освободиться от своих программ и стремиться к пределу своего роста. На глубокое общение на уровне первичного процесса терапевт может лично ответить только одним образом — собственным первичным процессом, то есть своими свободными ассоциациями. Свободные ассоциации требуют немедленного отклика от собеседника, и это создает близость взаимоотношений, которую даже маниакальному пациенту или заумному параноидному шизофренику трудно отвергнуть или подавить. Когда терапевт делится глубинами своей психики, сначала создается симбиотическое “Мы”, союз человека нормального и больного, а вскоре они могут поменяться ролями. В результате обмена ролями оба движутся к индивидуации, и после этого наступает последний шаг, завершающий цикл выздоровления, когда оба независимы друг ото друга и одновременно — могут любить. Близости не бывает без ранимости, поэтому терапевт показывает свои ценности, свой стиль жизни и даже осколки собственной психопатологии. Барбара Бетс много лет тому назад сказала: “Динамика психотерапии лежит в личности терапевта”. Почему семья должна подставлять под удары свой незащищенный нежный живот, когда терапевт играет с ними, отойдя на безопасное расстояние и надев специальный костюм?
Медики считают, что фанатичная преданность врача науке и человечеству имеют право на существование. Только почему-то те, кто выбирают профессию врача, часто становятся одержимыми работой жертвами инфарктов, а психотерапевты нередко решают свои проблемы путем самоубийства. По моему личному мнению, и инфаркт, и самоубийство лучше, чем полная омертвелость при жизни. Но есть еще одна альтернатива, и вот набор правил, которые помогут терапевту оставаться живым.
1. Поставь любого из твоих значимых других на второе место.
2. Научись любить. Флиртуй с каждым встречающимся тебе малышом. Необусловленное приятие, возможно, не встретится тебе у ребенка старше трех лет.
3. Проникнись уважением к своим импульсам и подозрением — к поведенческим стереотипам.
4. Радуйся своей жене или мужу больше, чем детям, и веди себя с ней (или с ним) по-детски.
5. Ломай ролевые структуры — сознательно и почаще.
6. Научись уходить или двигаться вперед с любой позиции, которую ты занимаешь.
7. Береги свое бессилие как один из самых мощных видов оружия.
8. Строй продолжительные взаимоотношения, тогда ты сможешь ненавидеть без опасений.
9. Прими тот факт, что ты будешь расти до момента смерти. Развивай в себе ощущение блаженного абсурда жизни — твоей собственной и окружающих тебя людей, — и тогда ты научишься выходить за пределы мира переживаний. Если нам удается отбросить миссионерский пыл, тогда менее вероятно, что нас в конце концов съедят людоеды.
10. Культивируй жизнь на уровне первичного процесса. Побудь безумным вместе с кем-нибудь, с кем ты в безопасности. Создай “теплую профессиональную группу”, чтобы дома не разбрасывать мусор, который ты принес с работы.
11. По словам Платона, “учись умирать”.
Семейная терапия:
символический подход,
основанный на личностном опыте
Написано совместно с Дэвидом В. Кейтом
Этот довольно объемистый текст дает наиболее полную картину техник и процесса семейной терапии в понимании Витакера. Но, читая его, терапевт должен помнить слова предостережения, написанные выше, слова об опасности теорий и техник. Как всегда, на мета-уровне Витакер дает понять, что не достаточно ни техники, ни искусства по отдельности; на деле и то, и другое может навредить пациенту. По словам Витакера: “Гляди, дело хуже, чем ты думаешь, а если думаешь, то совсем плохо”.
Помня обо всех этих опасностях, мы, тем не менее, найдем перечень техник, которые кажутся Витакеру и Кейту ценными, а кроме того, — указания на обыкновенные технические ошибки в терапии. Витакер и Кейт подробно описывают терапевтические факторы своего подхода. Они делят терапевтические факторы в семейной терапии на символические и реальные. И первые, и вторые важны, хотя их значимость на разных стадиях терапии меняется. Этот текст подводит итоги развитию идей Витакера за его долгую профессиональную жизнь.
Показания и противопоказания
Главное противопоказание для семейной терапии — отсутствие семейного терапевта. Есть и другое, относительное, противопоказание — отсутствие семьи, то есть родных. Наш подход — семейная терапия. Мы не просто занимаемся семейной терапией — мы являемся семейными терапевтами. Любое психотерапевтическое действие должно начинаться со встречи с семьей. Если семья недоступна, стоит пригласить каких-то значимых людей из мира пациента, хотя бы на первую встречу. Вовсе не тип проблемы, с которой к нам приходят, определяет, стоит ли в данном случае заниматься семейной терапией. Это зависит от того, в какой мере члены семьи могут разделить наши невысказанные убеждения о мироустройстве. Если они верят в семьи — с ними проще работать. Семейная терапия меньше поможет тому, кто не верит в семью.
Семьи, для которых такой подход
с большей вероятностью окажется терапевтичным
1. Безумные семьи, обратившиеся к нам для своего удовольствия и столкнувшиеся с многогранной проблемой, в которой замешано много участников.
2. Терапевты, которые хотят испытать на себе семейную терапию, или психологически мыслящие семьи.
3. Семьи с психологическими проблемами. Дело не в интеллектуальном понимании, а скорее во взаимодействии, в их способности пользоваться метафорами, в личной включенности каждого.
4. Семьи, пребывающие в кризисе.
5. Семьи с “козлом отпущения”, представляющим серьезную проблему, например, с шизофреником (и до начала психоза, и в остром состоянии, и в хроническом).
6. Семьи с маленькими детьми, по нашему опыту, больше получают от терапии. Мы превращаемся в родителей таких новых семей.
7. Семьи с многоуровневыми проблемами.
8. Семьи высокопоставленных или очень важных людей.
9. Семьи, подпорченные культурой (например, семья, в жизни которой слишком большую роль играет связанный с ними социальный работник или консультант по проблемам алкогольной зависимости). Мы пытаемся усилить ощущение единства семьи, чтобы избавиться от постороннего вмешательства.
Семьи, не поддающиеся семейной терапии
Семьи, ничего не получающие от символической семейной терапии, основанной на личностном опыте, обладают как бы врожденным иммунитетом к нашей заразе. Мы не умеем предсказывать заранее, будет ли терапия с данной семьей удачной, или нет. Наш подход сначала применялся к биологически целостным семьям. Он эффективнее в тех случаях, когда можно собрать три поколения семьи. Он менее эффективен, когда кто-то из членов семьи не может прийти по причине смерти, географической удаленности или просто потому, что этого не желает. Мы относимся к последнему случаю как к проявлению семейной хитрости. Мы стараемся приспособиться ко всяким ситуациям, но в данном случае возможность что-то получить для семьи снижается. Мы работаем с расширенным составом семьи, куда включаются бабушки и дедушки, с социальным окружением семьи, с разводящимися супругами, оба из которых изменяют, с разведенными родителями, которые приходят вместе в связи с кризисом ребенка, с парами лесбиянок или гомосексуалистов. Кроме того, назовем семьи, невосприимчивые к нашей терапии:
1. Те, кто панически боятся спонтанно выражать свои чувства. Например, супруги вскоре после развода, когда раны только еще заживают и прикосновение к ним слишком болезненно.
2. Семьи с застарелой патологией и слабой мотивацией меняться.
3. Семьи, в которых “козлом отпущения” является приемный ребенок.
4. Мы часто работаем не применяя лекарства с шизофрениками, находящимися в состоянии острого психоза, но это не всегда получается в терапии с пациентами, пребывающими в остром маниакальном состоянии.
Вопрос о направлении к другим специалистам
Мы, как правило, не направляем кого-то к другим специалистам, коль скоро уже начали семейную терапию. Если члены семьи решат, что не нуждаются в нашей помощи, тогда мы советуем им самим выбрать, к кому обратиться. У нас есть заместители — ко-терапевты и консультанты, благодаря которым эти проблемы отчасти устраняются.
Примеры
Богатая и благополучная семья воевала против помолвки их дочери с чернокожим преподавателем. Терапевт пригласил себе в помощь черного ко-терапевта.
Педиатр направил к нам семью с ребенком, который, по его мнению, был аутистом. Терапевт пригласил на терапию своего коллегу, детского психиатра. Когда с этой семьей уже установился рабочий альянс, пациентов направили на обследование для того, чтобы лучше понять стратегию образования этого сложного ребенка. Семья продолжала терапию и после консультации.
Двое мужчин-терапевтов работали с семьей, где воспитывался подросток с шизофренией. Мать была недовольна тем, что в кабинете находится слишком много мужчин и лишь одна женщина. Тогда на три встречи была приглашена женщина-консультант.
Мы направляем на индивидуальную терапию в том случае, когда завершена терапия семейная. Если мы подозреваем неврологические проблемы, то посылаем к невропатологу. В случае острого маниакального состояния мы назначаем препараты лития. Мы не стремимся заменять семейную терапию чем-то иным. Так, однажды к нам на терапию попала супружеская пара, оба шизофреники. Жена жаловалась на непереносимую тревогу. Она требовала назначить ей лекарства. Терапевт сказал, что не верит в лекарства и не будет их назначать. Тем не менее, ему казалось неправильным произносить свое окончательное решение по этому вопросу, и он сказал, что если она желает пить лекарства, то готов рекомендовать психиатра, к которому можно обратиться. Семейная терапия продолжалась, хотя и потеряла для терапевта некоторую живость.
Ситуации, в которых не рекомендуется
семейная терапия
Семейная терапия не рекомендуется в следующих случаях:
1. Когда семья уже прошла терапию и успешно ее завершила. Когда появляются новые или прошлые проблемы, мы приглашаем семью на одну консультацию. Если вся семья оживляется в этой ситуации и решает свою проблему, значит, нет нужды снова заниматься терапией. Такая ситуация похожа на тренировочную пожарную тревогу: семья проверяет свою способность справиться с кризисом, а также нашу готовность прийти на помощь.
2. Семьям, перенасытившимся терапией (профессиональные пациенты), мы советуем прекратить поиск помощников. Им предлагают приходить в случае кризиса.
3. Семьи, которые ищут “хорошего терапевта” и пришли к нам вследствие негативного переноса. Мы отсылаем их назад, говоря, что будем рады служить консультантами предыдущего терапевта, если он того пожелает.
Есть ситуации, в которых мы прерываем или не начинаем терапию, хотя она в данном случае и показана. Если семья посылает к нам лишь некоторую свою часть, например, мужа с ребенком, мужа и жену или жену с одним из детей, мы предлагаем им обратиться к кому-нибудь еще. Когда отец является противником психотерапии, мы также предпочитаем не вмешиваться. Члены семьи могут относиться к нашему отказу так, как они того хотят. Мы, например, говорим, что семья может вернуться на семейную терапию, как только отец на это согласится. То же самое касается и ситуации, когда семья испытывает слишком мало тревоги, чтобы действительно чего-то пожелать. Тогда мы тоже предпочитаем отложить терапию: это лучше, чем пытаться тревожиться за них.
Структура процесса терапии
Очень важно начать терапию сразу со всеми членами семьи. Таким образом терапевтическая команда получает от всей системы разрешение на изменение ее частей. Если в самом начале нам не удается собрать всю семейную группу, мы организуем процесс так, чтобы как можно скорее пригласить на встречу расширенную семью, бабушек и дедушек. Когда они приходят, проекции друг на друга у членов различных поколений семьи пересекаются, меняются и в конечном итоге теряют силу. После этого присутствие третьего поколения на терапии перестает быть необходимостью, хотя мы приглашаем приходить всех членов семьи, когда они могут. Но хорошо, чтобы люди, живущие вместе под одной крышей, приходили на каждую встречу.
Наше настойчивое требование прийти всей семьей есть начало “битвы за структуру”. Она начинается с первого телефонного звонка, с обсуждения вопросов, когда и с кем мы встречаемся. Мы никогда не общаемся с одним из супругов отдельно на первой встрече, но иногда допускаем встречу с ними без представителей других поколений. Когда родители в панике из-за возможного развода или в связи с открывшейся изменой мужа и не хотят приводить на терапию детей, мы говорим, что для первого раза это возможно, но на вторую встречу следует прийти вместе с детьми. Врач направил к нам полицейского, у которого возникали тяжелые приступы тревоги на работе. Он сказал, что не сможет говорить о некоторых вещах в присутствии жены. В данном случае Кейт для соблюдения равновесия организовал первую встречу следующим образом: он 20 минут говорил наедине с мужем, 20 минут — с женой, а потом —20 минут с обоими вместе. Такая структура продолжалась в течение трех встреч, а потом можно было работать только с парой.
Второй пример, непохожий на первый, касается местной знаменитости из Лос-Анджелеса. Он хотел переехать в наши места со своей дочерью. Он был разведен, и бывшая жена жила неподалеку от нашего центра. Он беспокоился за свою дочь, которая прошла подробнейшее психологическое и медицинское обследование в Лос-Анджелесе. Заключение специалистов было неопределенным: нечто среднее между шизофренической реакцией и истероидной личностью. Он с дочерью обратился к семейному терапевту, и по его мнению, терапия оказалась неудачной. Он решил переехать поближе к своей бывшей жене. Его направили к нам. “Вы посмотрите мою дочь?” Кейт ответил: “С удовольствием, если вместе с ней придете вы со своей бывшей женой”. “Да, но я бы хотел, чтобы с ней работали индивидуально, помимо семейной терапии”, — заявила знаменитость. “Извините, так я не работаю”, — возразил я. “Вы согласитесь встретиться только со мной и с дочерью?” — вновь спросил он. “Нет, мне нужны и вы, и ее мать. И, кроме того, пускай на первую встречу придут обе бабушки”, — я продолжал настаивать на своем. Больше эта семья к нам не обращалась. Кейт установил жесткую структуру терапии по той причине, что отец пытался сам назначить себе терапию. Он отнюдь не был девственным в смысле психотерапии и уже прошел через неудачный опыт семейной терапии. Поэтому Кейту надо было изначала действовать со всей доступной ему силой. Лучше совсем не начинать, чем начинать неудачно.
В ходе терапии мы настаиваем на присутствии всех членов семьи на каждой встрече. Мы также предлагаем “консультацию” с участием трех или четырех поколений семьи и других значимых для семьи людей, включая девушку сына или ухажера дочери, любовника или любовницу, соседей, предыдущих психотерапевтов. Это позволяет резко повысить уровень тревоги в большой системе. Иногда мы назначаем также игровую терапию для детей или работу с какими-то подгруппами.
Мы открыли — и все больше и больше в этом убеждаемся, — что для любого изменения семьи, будь ее проблемой шизофрения, развод или постоянные драки, необходимо повысить эмоциональное напряжение в большой системе. Индивидуальная терапия или работа с подгруппами приводят к развитию параноидальной подозрительности между теми, кто участвует, и теми, кто не участвует в терапии, поэтому она малоэффективна по сравнению хотя бы с и небольшим изменением всей огромной системы. Мы стремимся внедриться в наибольшую доступную нам систему и получить от нее разрешение на изменение. Иногда это разрешение выдается открытым текстом, хотя чаще оно косвенно предполагается самим фактом встречи большой группы. Мы стремимся избегать всяких фаворитов семьи, поэтому, например, не встречаемся индивидуально с “козлом отпущения” семьи, будь он черной овцой или белым рыцарем.
Комбинации различных терапий — не слишком хороший подход, но опять-таки здесь нет жестких правил. Вероятность неудачи повышается, когда с семьей работают несколько не взаимодействующих между собою терапевтов. Чтобы терапия была эффективной, надо дать возможность пациентам сосредоточить всю свою эмоциональную энергию в одной точке. Иногда мы сознательно разделяем функции. При работе с анорексией педиатр измеряет вес и оценивает физическое здоровье, а терапевты занимаются семейной терапией. Иногда при обращении к нам кто-то уже принимает психотропные средства. Тогда мы поручаем другому психиатру следить за лекарственной терапией, чтобы не казаться семье волшебниками. В нашей практике мы очень мало пользуемся лекарствами, редко их назначаем, но и не отменяем препаратов, назначенных другими врачами.
Семейная терапия хороша как начало любой формы психотерапии. Необходимо, чтобы члены семьи осознали, насколько их жизни взаимно переплетаются. Индивидуализм без индивидуации (то есть отсутствующее присутствие кого-то в семье) — распространенная психическая болезнь нашей культуры. Терапевтические переживания особенно ценны тогда, когда они происходят в кругу значимых других. Через это они воплощаются в жизни, а не остаются просто внутренними озарениями.
Если причинность циркулярна, то и изменение тоже. Каждый в семье меняется, если где-то что-нибудь изменилось. Группа из нескольких поколений обладает большей способностью к изменению. Дедушки и бабушки обладают неимоверной символической силой, и эта сила мощнее действует тогда, когда они отстранены от процесса терапии. Если их приглашают на встречу с семьей, сила гомеостаза меняется, можно использовать ее для изменения семейной системы.
Трудно заниматься терапией, ориентированной на процесс без детей. Они гибче, более честны и эмоционально более отзывчивы, чем их родители. Терапевт может воспользоваться ими для того, чтобы проникнуть на территорию семьи. С детьми терапевт может показать родителям образец свободы, позволяющей отделяться и снова присоединяться. Дети учатся у терапевта совершать такие движения, нападая на стремление родителей сохранить жесткое постоянство. Когда дети отсутствуют, их священная роль в семье превращается в ритуал, и семья не меняется.
Поэтому наша ориентированность на переживание требует присутствия детей на терапии. Иногда изменение рождается в тот момент, когда терапевт играет с детьми, наслаждаясь ролью родителя. Это позволяет родителям превратиться в детей, оставив свои гордые взрослые роли. Особенно важно это для отца, поскольку культура предписывает ему жизнь в изоляции. Мать может почувствовать, что пора отложить утомительные сражения за порядок и вступить в борьбу за свою индивидуацию. Играя с детьми, мы можем обнимать их, посадить к себе на колени, гладить по плечам и спине или бороться с ними. Родители радуются такому телесному контакту. Когда массируют плечи одиннадцатилетнему сыну, мать тоже начинает двигать в такт плечами. Дети обычно растут в процессе семейной терапии. Вряд ли им это хоть чем-нибудь вредит. Как правило, их тревоги за семью уменьшаются. Детские фантазии и кошмары намного сильнее, чем любые реальные события.
Ко-терапия
Как правило, мы работаем вдвоем с коллегой. Обычно два терапевта на время работы с данной семьей вступают как бы в профессиональный брак, но бывают и другие варианты. Терапевт может работать в одиночку, используя время от времени своего коллегу в качестве консультанта. Консультант приходит, когда его вызывают. Терапевты могут собраться, чтобы обсудить какие-то конкретные случаи или проблемы.
Существует много причин, почему мы предпочитаем работать командой. (1) Работа вдвоем способствует проявлениям творчества и увеличивает разнообразие наших ролей. А это придает бульшую силу команде. (2) Психотерапия противостоит культуре, и важно иметь рядом с собою коллегу, чтобы не чувствовать деперсонализации. Когда двое терапевтов собираются вместе ради терапевтического изменения, они приобретают невероятную духовную силу. Когда два человека делятся с семьей своими субъективными впечатлениями, от них не так легко отмахнуться. (3) Патология терапевта меньше нарушает ход терапии. При структурированном методе работы эта проблема не так важна. В терапевтической команде каждый терапевт может использовать самого себя и свою субъективность, потому что коллега служит как бы его противовесом. (4) Присутствие ко-терапевта помогает мыслить. Пока один из терапевтов активно работает, другой может несколько отрешиться от происходящего и наблюдать развитие ситуации со стороны, размышлять, открывать что-то новое. (5) Ко-терапия позволяет терапевту не отнимать от семьи ее члена для того, чтобы превратить его в своего помощника. Семейное единство нарушается, и “козел отпущения” становится еще более одиноким в семье. (6) По нашему мнению, ко-терапия снижает вероятность того, что терапевты будут выносить свои эмоции за пределы встречи с семьей. Менее вероятно, что терапевты станут сдерживать себя во время работы с семьей, а потом разряжаться с помощью супервизора, в случайных разговорах с коллегами, со своей женой или с кем-либо еще. (7) Ко-терапия снижает остроту чувства потери при уходе семьи. Снижаются до минимума защитный уход в себя при встрече со следующим пациентом и тоска, нарушающая процесс завершения терапии. Расставаясь с семьей, терапевты остаются друг с другом. Таким образом, работа с коллегой способствует профессиональному развитию и росту компетентности, а также позволяет терапевту с большим удовольствием заниматься семейной терапией. Проще говоря, вдвоем терапевтам гораздо легче сохранить свою целостность и верность поставленным задачам перед лицом угрозы ухода семьи. (8) Наконец, ко-терапия позволяет одному из терапевтов устанавливать личные взаимоотношения с одним из членов семьи в присутствии остальных, и семья не чувствует, что ее покинули. Это может продолжаться в течение одной или нескольких встреч. Такие особые теплые взаимоотношения между одним членом из терапевтической команды и одним человеком из семьи не разрушают процесс терапии, как это произошло бы с одним-единственным терапевтом, пытающимся поймать двух зайцев.
Такая форма работы имеет и явные недостатки. Семье приходится платить больше денег, сложнее становится назначать время встреч, у каждого терапевта уменьшается ощущение собственного величия, между ними могут возникнуть межличностные проблемы. Брак — ценная метафора для нашего понимания работы ко-терапевтов. Сутью брака является борьба каждого из супругов за то, чтобы оставаться самим собой, быть независимым, и одновременно — соединиться во взаимозависимости общего “Мы”. Такая борьба — важная тема как для семьи, так и для терапевтической команды.
Как правило, мы работаем в наших кабинетах, хотя бывают и исключения. Пространственное расположение при семейной терапии — простая, но достаточно значимая вещь. Семья, приходящая с просьбой о помощи, находится в зависимом положении и является для терапевта как бы ребенком. И хорошо, когда двое терапевтов сидят рядом, не смешиваясь с семьей. Благодаря двустороннему переносу между командой и семьей появляется сверхсемья — что-то вроде расширенной семьи. Последующая конференция с расширенной семьей происходит на основе данного переноса и позволяет самой семье быть более гибкой в своей структуре. Чередование движений близости и отделения между терапевтической командой и семьей происходит с большей ясностью, когда между ними существуют пространственные границы. В середине комнаты у нас остается место для игры — для детей или взрослых, поскольку в процесс терапии входит физическое взаимодействие (борьба рук, перемена позы, игровая терапия на полу).
Обычно мы не ставим перед собой временных рамок. Это приходится делать лишь под давлением реальности: когда семья должна переехать в другой штат, когда у членов семьи нет страховки или они озабочены финансовой стороной терапии. Временные рамки полезны также людям, которые сами не могут понять, нужна ли им психотерапия или они просто хотят пережить что-то интересное. Например, стажер по психиатрии и его жена могут просить о терапии по поводу проблем своего ребенка или чтобы самим пережить опыт роста, но они не мотивированы двигаться дальше.
Мы стараемся уловить все те моменты, когда семья выражает желание взять в свои руки ответственность за собственную жизнь и за терапию. Если терапия проходит успешно, мы говорим: “Лучше остановиться сейчас, пока все идет хорошо”. А если терапия топчется на месте, мы спрашиваем: “А может быть, стоит прекратить это занятие? Стоит ли оно того напряжения, которым вам приходится расплачиваться?”
Отсутствие временных рамок позволяет семье менять свои цели, подобно тому, как меняются цели ученика музыкальной школы, который начал заниматься на фортепьяно без особого энтузиазма, но потом увлекся и через пять лет исполняет Бетховена. Если в семье зарождается желание стать более гибкой и более творческой, мы не видим причины завершать терапию по достижении первоначальных целей. Может пройти год, пока творчество расцветет и интерес к Бетховену принесет плоды. На практике в вопросе длительности терапии у нас существует большое разнообразие. Многие семьи приходят десять-пятнадцать раз и заканчивают терапию, добившись положительного результата. Некоторые значительно позже просят нас об одной-двух консультациях. Большой процент семей приходит только на консультацию или в связи с состоянием кризиса. Такие семьи появляются у нас один, два или три раза и больше не возвращаются.
Чаще всего мы встречаемся раз в неделю, хотя в тех случаях, когда уровень тревоги слишком низок или семья чрезвычайно ригидна и плохо переносит тревогу, мы можем встречаться раз в две недели. И напротив, при высоком уровне тревоги мы назначаем ежедневные встречи.
На ранних этапах терапии все решения относительно времени и структуры принимает терапевтическая команда. Так начинается любая форма психотерапии. Семья похожа на маленького ребенка, лишь в очень малой степени отвечающего за себя. Семье нужна структура. Мы часто говорим участникам семинаров и ученикам, что терапевт всегда имеет право принимать односторонние решения. Природа таких решений зависит от каждой конкретной семьи. Свобода принимать односторонние решения снижается по мере того, как появляются взаимоотношения близости с семьей. В начале терапии это свободные решения, а на более поздних стадиях их принимают, как правило, под давлением фрустрации.
Некоторые критики полагают, что мы отталкиваем людей, слишком сильно структурируя ситуацию и предъявляя слишком много требований. Нам так не кажется. Мы не хотим завлекать людей в терапию ценою нашего согласия на все, чего они пожелают. Фактически, мы ставим под вопрос их мотивации, чтобы пациенты либо вошли в процесс терапии, либо отказались от нее, если сомневаются. Но выиграв битву за контроль, мы становимся намного мягче. Это похоже на воспитание детей. Постоянный контроль сильно замораживает любовь между детьми и родителями. Так что в конце концов от этого проигрывают и родители, и ребенок.
В середине терапии решения принимаются с обоюдного согласия. А в конце их принимает одна семья. По мере создания надсистемы терапии семья все больше и больше берет ответственность в свои руки, предоставляя терапевту возможность отдохнуть от роли родителя, воспитывающего ребенка. В конечном итоге, семья в своей целостности обретает способность изменять сама себя, так что им уже не требуется помощь постороннего. И опять, прообразом такого процесса являются взаимоотношения родителя и ребенка. Это переход от состояния младенчества к завершению подросткового возраста, когда дети берут в свои руки инициативу и сами отвечают за свою жизнь.
Роль терапевта
Терапевт действует как тренер семейной команды или как бабушка. Для обеих ролей необходимы структура, дисциплина и творчество, а также и забота и отзывчивость. Баланс между всеми этими качествами можно установить на основе опыта работы. Наша способность отзываться на нужды пациента отличает нас от биологических родителей тем, что не требует всей личности терапевта.
Как терапевты мы очень активны. Мы бываем директивными и можем использовать такое необычное действие, как молчание, чтобы повысить уровень тревоги. Терапевт открыто контролирует первые несколько встреч. Он ведет себя весьма активно, нападая на семью и исследуя темы, которые вызывают сильную тревогу, но при этом он обычно недирективен. Мы стремимся взаимодействовать с семьей. Не запрещая членам семьи разговаривать друг с другом, мы считаем, что главный процесс происходит в отношениях между семьей и терапевтической командой.
Мы предпочитаем работать с ко-терапевтом. Терапевтическая команда похожа на супружескую пару с детьми. Семья — это младенец, который (если ему повезет) станет ребенком, подростком и, наконец, покинет дом. Двое “родителей” распределяют между собой функцию “делового или педагогического управления” и функцию “поддержки и питания”, как их называют в литературе о распределении ролей в малых группах. Эти роли во взаимоотношениях с семьей могут оставаться постоянными, но обычно терапевты меняются ими в течение одной встречи или при переходе от ранней стадии терапии на следующую ступень. Третий терапевт в терапевтической команде, в ее Мы, (или — с другого конца — в параноидальном Они) функционирует как центр обсуждения и принятия решения.
Роль терапевтической команды меняется по ходу терапии. На ранних стадиях терапии она всемогуща, но вскоре после этого терапевт признает свое бессилие, свою неспособность сдвинуть семью с мертвой точки. Терапевтам нужна семья, чтобы управлять большой надсистемой. Терапевтическая команда отражает все попытки навязать ей роль волшебников или мудрецов, знающих, как надо жить. У каждой семейной культуры свой неповторимый стиль, и наша задача — помочь семье его усовершенствовать и открыто продвигаться в своем собственном направлении — все равно что обучать игре в теннис опытного игрока. Нельзя изменить стиль его игры в целом, можно лишь помочь ему использовать свои сильные стороны и исправлять слабые.
На второй встрече семья спрашивает: “О чем будем сегодня говорить?” Терапевт отвечает: “Не знаю. Что вы хотите изменить?” — “Мы уже говорили об этом в прошлый раз”, — заявляют они. “Знаю, но все могло измениться. Мяч в ваших руках, а мы будем рады вам помочь”, — вот мой обычный ответ.
На средней стадии терапии команда терапевтов-родителей усиливает напряжение, расширяет границы роста и стимулирует творчество. На этой стадии, если семья чувствует себя достаточно защищенной, терапевт может сказать матери: “Знаете, когда вы так говорите со своим мужем, то как будто разговариваете с вашими собственными матерью или отцом. Может быть, вы хотите, чтобы он поиграл с вами в эту игру?” — это косвенные слова о том, что супруги играют свои роли с общего согласия. Жена инфантильна не только потому, что так ей хочется, но и потому, что это нужно мужу. Разница между начальной и средней стадиями хорошо, когда на встречу приходят родители мужа и жены. Обычно происходит одно из двух. Первый вариант: вся семья начинает вести себя так, как если бы это первая встреча с терапевтом. Общение превращается в социальную семейную беседу. И второй вариант: подсистема семьи, уже имевшая опыт терапии, делает скачок вперед, так что бабушки с дедушкой сразу оказываются в средней стадии терапии. После этого мы часто слышим мнение старшего поколения: им кажется, на встрече ничего особенно важного не происходило и вряд ли она чем-то помогла. Произошло слишком много всего или слишком мало — вот частые комментарии по поводу такой встречи.
На подростковой или поздней стадии терапевтам ничего не надо делать, лишь присутствовать и наблюдать. Ко-терапевты обеспечивают время и место для семейного собрания. Конечно, они готовы прийти на помощь. Терапевты переложили всю инициативу на плечи семьи и не должны вмешиваться, даже если видят, что могли бы внести свой ценный вклад. Терапевты похожи на родителя, с гордостью смотрящего на успехи семьи и отпускающего бразды правления. Это родитель взрослеющего подростка, собирающегося покинуть дом. Родители, пытающиеся в этот период воспитывать своих детей, совершают серьезную ошибку. К независимости подростка мало относиться просто с уважением, перед нею надо благоговеть. Так должна относиться терапевтическая команда к семье на поздних стадиях терапии. Например, когда мать говорит отцу: “Я думаю, что все же надо нам развестись”, терапевту хочется сказать что-нибудь вроде: “Вы восемнадцать лет не собирались этого делать. Не понимаю, почему вам хочется так поступить сегодня”. Или, напротив: “Мне кажется, вы больше научились любить друг друга. Не знаю, почему вы говорите о разводе”. Такие слова адекватны на ранней и средней стадиях терапии, но совершенно неуместны на поздней.
Мы часто используем самораскрытие, рассказывая о мелочах нашей жизни языком метафор, показывая ограниченность нашей собственной роли. Мы делаем это особым образом, обычно делясь с пациентами какими-то кусочками или гранями нашей жизни, которые уже проработали и преодолели с нашими психотерапевтами, (Fellner, 1976). Выход за рамки ролей мы совершаем осторожно, чтобы не получилось обмена ролями, когда терапевт становится организатором воспитания, а семье не предоставлена полная возможность проявлять свою инициативу. Самораскрытие, как и юмор, используется для усиления межличностного фокуса, для того, чтобы расшатать слишком стабильный гештальт, и никогда — для снижения тревоги.
Терапевт может включаться в ситуацию полнее после прохождения начальной стадии, используя свои фантазии, пришедшие на ум во время работы с семьей, или фрагменты собственной жизни. Когда семья привыкает к такому поведению терапевта, он с большей свободой может вести себя иррационально, отдаваясь свободным ассоциациям, двигаясь за фантазиями, нападая, используя парадоксальное поведение во всем его многообразии. Например: “Папа, не беспокойтесь из-за того, что всем стало так хорошо в вашей семье. Это ненадолго. Они снова запрут вас в вашем одиночестве и нападут на вашу жену на следующей неделе или, самое позднее, через две недели”. Или: “Мама, я просто счастлив, что не женат на вас, глядя, как вы обращаетесь с вашим мужем. Я бы, наверное, сбежал от такой жены”. Или обращаясь к одному из детей: “Знаешь, как отец смотрит на тебя, когда говорит: уберись в своей комнате, а не то получишь по заднице? Мне бы в ответ на такие слова захотелось удрать в Сан-Франциско и накачаться там наркотиками”. Ценная вещь — обращать внимание на свои телесные реакции в процессе общения: “Вы так на меня взглянули, что у меня закололо в шее”.
Другая форма самораскрытия используется нами в разговорах между ко-терапевтами. Это может быть сделано в форме шутки, понятной только нам, или в виде разговора о нашей внетерапевтической жизни. Можно вместе с коллегой предаваться детским воспоминаниям. Или ко-терапевт спрашивает, как, на мой взгляд: не слишком ли сильно мы осуждаем мать. Терапевт делится частицами себя, но не просит при этом помощи. Необходимо заметить, что он не задает вопросов семье, на которые надо отвечать, но делает утверждения о самом себе, о том, что его касается. Он не заставляет их что-то принимать, отвергать, не вынуждает бунтовать или быть зависимыми.
Терапевт не может отказаться от присоединения к семье. Если семья продолжает приходить к нам, это потому, что терапевту отведена в ней своя роль. Мы активно входим в семью, полагая, что наш перенос по отношению к ее членам является анестезией, необходимой для того, чтобы вытерпеть тревогу на средней стадии. По ходу терапии от нас требуется и присоединяться, и отделяться. То есть терапевт должен уметь оставить роль по своей инициативе и снова вернуться к ней. Терапевт как бы перепрыгивает к семье через “резиновый барьер” (Wyne, Ryckoff, Day, & Hirsch, 1958), обменивается рукопожатиями, а потом прыгает за барьер. Терапевт то “внутри”, то “вне”. И таким способом он представляет основную проблему роста в семье. Процессы присоединения и индивидуации — это и постоянный источник напряжения всей семьи, и колеблющееся переживание каждого отдельного в ней человека и семейных подгрупп. Терапевтическая команда соединяется с семьей и тогда превращается в подгруппу терапевтической надсистемы.
Последовательные движения то внутрь, то вовне очень важны. Это похоже на общение с детьми. Отец может разъяриться на детей, а вскоре после того испытать по отношению к ним любовь. То же самое у нас происходит и с семьей. Если Кейт сердит, он не будет этого скрывать. Когда он шутит с сыном по поводу его романа с мамой, он одновременно может сочувствовать отцу, покинутому в печальном одиночестве. Хороший образец подобного поведения дает Дон Хуан, учитель Карлоса Кастанеды (1975). Он изображает серию полуреальных полуметафорических ситуаций, в которых учитель то приближается, то отдаляется, исчезает и внезапно снова возникает. Прекрасная модель для семейного терапевта. Сложная техника, которой должен овладеть опытный терапевт. Менее опытный терапевт часто не замечает, когда он находится внутри или когда можно позволить себе удалиться. Мы делаем это каждый в своем стиле. Витакер нередко позволяет себе стать равнодушным, внезапно вступить в глубоко личное общение с кем-то, а потом также внезапно заговорить о постороннем или отключиться. Кейт действует более осторожно. Он неспешно подходит к столкновению, вовлекается во взаимодействие, а затем еще медленнее отходит в сторону.
Роль терапевта также меняется по ходу терапии. Вначале это учитель и нянька для малышей. С этой позиции доминирующего и все отдающего младенцу родителя он движется к роли приятеля “понарошку” для дошкольника, затем становится советчиком и помощником для ребенка постарше и, наконец, превращается в родителя в отставке, вырастившего взрослого человека. По мере того как семья обретает все большую независимость, терапевтическая команда становится более личной, более похожей на учителя и обитающей вне семьи. Когда в семье созревает желание завершить терапию, мы относимся к этому с уважением, как к реальной, а не символической инициативе. Мы всегда готовы закончить терапию вместе с ними, не разбирая причины, по которой семья хочет нас покинуть, и начинаем планировать окончание терапии, как только эта тема была затронута.
Техники семейной и супружеской терапии
Ранее мы упоминали о том, что устанавливаем структуру встречи косвенным образом. Впервые встречаясь с новой семьей мы стремимся получить представление о ее системной истории. И активно исследуем эмоциональную систему семьи: что вызывает напряжения, у кого появляются симптомы, каковы структуры характера отдельных людей, какие тяжелые моменты переживала семья в прошлом? Мы пытаемся увидеть личный стиль каждого человека и лицо всей семьи, а также лицо каждой из ее подгрупп; спрашиваем о родителях мужа и жены. Где они? Как они живут? Что думают о теперешней ситуации? Мы предлагаем пригласить их на встречу расширенной семьи. Когда они смогут прийти?
Мы следуем определенным правилам на первой встрече с семьей, говорим, что дадим каждому слово, чтобы увидеть разные стороны жизни семьи. Начинаем обычно с самого психологически далекого от семьи человека, чаще всего это отец. После отца мы обращаемся к детям, оставляя последнее слово матери. В большинстве случаев мать знает, что происходит в семье, и ей свойственно быть носителем симптома. Такой стиль общения может показаться неестественным, идущим вразрез с инстинктом многих терапевтов, но он задает семье нужный тон взаимодействия и потому очень ценен для терапии.
Когда кто-нибудь из членов семьи прерывает говорящего, мы вежливо просим его подождать своей очереди и повторяем, что каждый сможет высказаться. Когда возникает привычный для семьи спор, мы просим сдержать себя, потому что не хотим создавать лишние проблемы — только пытаемся узнать, что происходит в семье. Собирая семейную историю, мы постоянно меняем структуру их разговоров, решая, кому предоставить слово, придавая небольшое значение одной сфере и проявляя пристальный интерес к другой.
Присоединение к семье
У семейного терапевта должна появиться эмпатия к семье. Хорошо, когда в проявления его переноса входят чувство идентификации, сопереживание их боли и отчаянного усилия семьи исцелить себя.
Мы изо всех сил стараемся завоевать семью на первой встрече. Если терапевту удалось установить связь с отцом, то семья скорее всего не бросит терапию. Если нет — они уйдут. Вероятность потерять семью увеличивается также и в том случае, когда у терапевта возникают слишком сильные взаимоотношения с матерью на ранних этапах терапии. Такая чрезмерная вовлеченность происходит по нескольким причинам: (1) в результате сексуальной привлекательности; (2) терапевт относится к матери как к идентифицированному пациенту, тем самым отнимая ее у семьи; (3) терапевт провоцирует в ней злобу.
Другим способом, с помощью которого терапевт становится членом семьи, является двусторонний перенос. Мы начинаем говорить на их языке, усваиваем их произношение, ритм. Поза терапевта может отражать позу одного из членов семьи. Мы слушаем их метафоры и пытаемся ими пользоваться.
Игра с детьми — еще один важный способ присоединения к семье. Необязательно эта игра должна быть какой-то значимой, но часто, к нашему удивлению, она действительно очень значима. Мы уже описали эту технику выше.
Особые техники
Наша обычная техника, применяемая на ранних этапах терапии, состоит в том, чтобы запретить в семье заниматься взаимной псевдотерапией, что свойственно каждому браку. Мы признаем все успехи родителей, которых они достигли за то время, когда пытались исправить друг друга. Мы объявляем конец такой терапии, ее провал и просим передать терапевтические функции в наши руки. Мы запрещаем членам семьи плакаться друг перед другом, обсуждать болезни, симптомы или свои взаимоотношения где угодно, кроме терапевтического кабинета. Когда мета-общение удалено из жизни, домашние разговоры приобретают сильный привкус реальности. Это разрушает типичное для брака превращение супруга в родителя. Для супругов становится труднее по очереди изображать из себя маленьких детей, чтобы другой стал родителем (терапевтом). Эту технику можно начать применять в середине первой встречи, когда отец говорит: “Видишь, Мэри, я то же самое тебе говорил”. Терапевт отвечает: “Помолчите! Это моя работа. Мне не нужна ваша помощь. Вы все лишь испортите. Кроме того, подумайте, как приятно вам будет больше не слушать, как она ноет”. Этот специфический запрет описывает то, что скорее всего произойдет вне терапии.
Изменения семейной структуры часто происходят, когда терапевтам удается вмешаться во взаимодействие внутри семьи. Особое значение мы придаем не обучению и не пониманию, а таким вещам, как парадоксальная интенция, предложение диссонантных моделей, провокация, насмешка над семейными концепциями и их разрушение, введение эго-синтонных идей. Например, мать говорит: “Я несчастлива с моим мужем”. Терапевт предлагает ей найти мужчину помоложе, поскольку она энергичная женщина. Может быть, стоит выбрать профессионального атлета, который любит физические упражнения? Или ей стоит подумать, не забрать ли все деньги мужа и не двинуть ли в Сан-Франциско, где жизнь более яркая и где легче найти свое счастье?
Мы любим пользоваться конфронтацией, в том числе и разговорами о том, как нам скучно: “Миссис Цилх, когда я увидел, как вы, разговариваете с мужем, я обрадовался, что не женат на вас. Не знаю, сдался бы я и сбежал бы из дома или стал бы с вами сражаться, но даже меня, человека постороннего, сильно расстроило то, что я видел”. Подобным образом, когда мать жалуется на то, как она слаба в семье, мы говорим о ее силе, которую могли заметить. Она воспитала пятерых детей, которые рождались каждый год, а ее мужа в то время не было рядом, и это просто чудо, что она от усталости не валяется в бесчувственном состоянии и не сошла с ума.
Цель этих техник — вызвать трансцендентные переживания, помочь семье выйти за пределы боли и напряжения, чтобы наслаждаться смешными сторонами ситуации, о которых говорит терапевт, или получать удовольствие от того, что смотришь на вещи с совершенно непривычной точки зрения. Мы стремимся помочь членам семьи совершить “экзистенциальный прыжок” (Ehrenwald, 1966), обращаем внимание на действия пациентов, которые те совершают для того, чтобы соответствовать проекциям. Например, жене нужна мать, и она строит из себя ребенка, а муж послушно соглашается играть в эту игру, хотя оба прекрасно понимают, что она в результате не получает подлинной заботы.
Мы делаем ставку на переживания, которые люди испытывают во время самой терапии, потому неудивительно, что мы редко даем домашние задания, за исключением запретов нарушать границы поколений. Мы пытаемся положить конец их занятиям псевдотерапией друг с другом. И советуем привести к нам расширенную семью и давим на них, пока этого не произойдет. Мы иногда советуем каждому супругу по отдельности посетить дом своих родителей, чтобы вызвать регрессию на службе у семейного Эго. Если бабушки и дедушки не могут прийти и невозможно посетить их дома, мы предлагаем супругам послать своим родителям чистые аудиокассеты, чтобы записать разговор об их жизни до рождения детей.
Эти техники мы мягко используем в самом начале терапии, чтобы проверить, на что способна семья, как она переносит боль. Позже мы становимся настойчивее. Вот техники, которые кажутся нам особенно важными.
1. Переопределение смысла симптома и нахождение в симптоме стремления к росту. Затем мы расширяем картину психопатологии и приписываем ее всей семье. Создается абсурдный образ семьи. Мы стремимся снять клеймо психопатологии с человеческих переживаний. Жена жалуется, что муж хочет от нее избавиться: “Знаете, он никогда не любил меня. Он обещал разрезать меня на части. А однажды угрожал мне пистолетом”. Терапевт отвечает: “Вы говорите, что он вас не любит. Почему же тогда он хотел вас убить?” Психоз члена семьи можно определить как попытку стать спасителем семьи, подобным Христу: “Я стану никем, чтобы вы с отцом спаслись”. Раздражение кого-либо из членов семьи можно переопределить как знак того, что семья достаточно заботлива. Легкая степень несерьезности речи при данной технике помогает снизить боль такой конфронтации.
2. Предложение фантастических альтернатив реальным житейским сложностям. Женщине, которая пыталась покончить с собой, можно предложить пофантазировать на тему: “А если бы вы захотели убить мужа, как бы вы это сделали?” Или: “Предположим, решив покончить с собой, вы сперва захотели убить меня. Как вы это сделаете? Возьмете пистолет, нож или отравите меня цианистым калием?” В семье с сыном-шизофреником отец беседовал с дочерью, и терапевт углядел в их разговоре эротическую игру. Семья была возмущена и сконфужена таким предположением. В конце встречи, тем не менее, отец нежно обнял свою дочь и покачал ее на своих руках. Так, использование фантазии может обогатить эмоциональную жизнь без опасности реального насилия или сексуального отыгрывания.
3. Отделение межличностного напряжения от внутренней фантазии. Например, пациентке после суицидальной попытки предлагают поговорить вслух о том, на ком бы женился муж, если бы она убила себя, как быстро это произойдет, как долго он будет оплакивать ее, будут ли горевать дети, кто получит ее страховку, как переживет это ее свекровь, что они сделают с ее личными вещами и так далее. Подобное перенесение фантазии в межличностные рамки очень ценно, поскольку фантазия бледнеет от соприкосновения с реальностью. Оно также открывает новые возможности общения для семьи, поскольку пациенты видят, что можно произносить вслух все эти страшные слова и мир из-за этого не разваливается.
4. С технической точки зрения, как только установились взаимоотношения и начинает действовать надсистема, состоящая из семьи и терапевтов, можно добавить множество разных конкретных техник, немыслимых в индивидуальной терапии, но совершенно безвредных в контексте семьи, поскольку семья берет то, что хочет, и прекрасно умеет защищаться от всего остального. Так, мужу, чья жена страдает головными болями, можно смело посоветовать нашлепать ее, чтобы избавить от болей. Или жене, которая лезет на стенку из-за нытья детей или холодности мужа, можно предложить на недельку смыться к своей матери и предоставить остальным самим готовить себе еду.
Это ставит вопрос о домашних заданиях. Мы мало пользуемся ими, поскольку хотим, чтобы семья несла все свои переживания на терапию. Кейт любит абсурдные предписания типа положительной обратной связи, он может предложить супругам командовать по очереди, меняясь ролями, или сказать, чтобы мать, у которой возникли проблемы с дочерью-подростком, поменялась с ней спальнями. Наше самое главное домашнее задание — не обсуждать дома то, что происходит у нас в кабинете.
5. Мы усиливаем отчаяния члена семьи до такой степени, что семья соединяется вокруг него. Это особенно хорошо получается по отношению к “козлу отпущения”. Например, мы говорим сыну-шизофренику: “Неужели ты думаешь, что если отдашь всего себя, станешь никем и проведешь остаток своей жизни в психушке, то родители будут счастливы? Или же они будут продолжать набрасываться друг на друга, как сейчас? Ведь тогда окажется, что ты совершенно напрасно жертвовал собой”.
6. Аффективное столкновение. Оно обычно происходит между нами и родителями, чаще всего, когда мы защищаем детей. Это как перемена тона, которая происходит в игровой терапии, когда ребенок, до того игравший кубиками, вдруг берет кубик и швыряет его в оконное стекло. Восьмилетний ребенок и терапевт шутя дрались во время семейной терапии. Родителям это казалось излишним, и они все время пытались остановить ребенка, как если бы он был инициатором игры, хотя на самом деле им являлся терапевт. Через несколько минут, наслушавшись родительских замечаний в адрес мальчика, терапевт почувствовал злость и попросил их заткнуться. Он сказал, что играет с их сыном и не хочет, чтобы ему мешали.
7. Дети для нас есть дети, а не ровесники. Маленькие дети иногда любят подразнить нас или побороться с нами физически. Мы наслаждаемся этой игрой и всегда побеждаем их. Мы хотим быть теплыми с подростками и понимать их, но также ставим им жесткие рамки. Вопреки нашей открытости и способности принимать других, мы можем стать строгими моралистами, когда говорим с грубым по отношению к нам подростком.
Выбор техники
Решение применить определенную технику в определенный момент основывается на клиническом опыте. Каждый терапевт находит подходящие по стилю дебютные ходы для начала терапии. Именно в своем начале любая терапия наиболее структурирована и представляет собой профессиональную работу, а не личную встречу. Тем не менее, на средней и завершающей стадиях терапевт должен полагаться на свое живое творчество, спонтанно проявляющееся в данный момент, а не на заранее запланированные и продуманные разумом ходы. На этих стадиях чудесной техникой является использование свободных ассоциаций или фантазий. Парадоксальное поведение, часто используемое нами, обычно рождается из неудовлетворенности простой терапией взаимоотношений или же возникает в ответ на абсурд жизни данной семьи. Мечта о волшебном исцелении, уверенность в том, что вся патология заключена в одном человеке, неспособность понять или хотя бы принять тот факт, что существуют иные точки зрения, — все это выражает абсурд, суженное восприятие реальности. Спорить с абсурдностью — абсурдно. В ответ мы сами начинаем вести себя абсурдно, чтобы уравновесить узость этой семьи. Часто мы выражаем сомнение относительно всей ситуации, стараемся выбить почву из-под ног семьи или какого-то ее члена, чтобы разрушить заранее созданные представления о нас. Мы настойчиво непоследовательны, чтобы пустить под откос поезд рационализаций и избежать бесконечных пустых споров. Сознательно пользуемся молчанием, чтобы прервать болтовню, эту болезнь разума, и порой уходим из ситуации физически, чтобы выразить нашу неспособность принять в ней участие. Одним из наших ответов на фрустрацию является уловка бессилия, заключающаяся в прямом признании, что мы, как терапевты, ничего не можем поделать: “Я ничем не могу помочь вам, господа. Сражаться друг с другом для вас столь важно. Вы так чудесно научились обвинять друг друга, что я не способен избавить вас от этого, и, может быть, вам так и надо жить дальше. Предлагаем вам продолжать в том же духе, пока не случится что-нибудь еще или пока такая жизнь не станет для вас более радостной”.
По отношению к семье в целом наша главная задача — вызвать регрессию посредством замешательства. Можно простимулировать развитие регрессии с помощью сообщения на двух, а то и на трех уровнях (символическое утверждение на вербальном уровне, противоречащее невербальному сообщению). Терапевт говорит с теплом в голосе: “А вы не задумывались над тем, что если убьете себя, семья будет счастлива?” Такие двойные сообщения несут в себе ненастоящее игнорирование пациента: “Если бы вы были моей женой, я бы, чтобы привлечь вас к себе, наверное, удвоил бы денежные расходы на вас”. Подобным образом можно вызвать регрессию непоследовательными высказываниями, словами, которые лишь “по касательной” или метафорически относятся к тому, что сейчас происходит с семьей. Это могут быть фантазии или случайные мысли, забредшие в голову терапевта, это может быть ответ на какие-то события в семье, противоречащие теме разговора или не имеющие к ней отношения. Такую же регрессию может вызвать неразумное поведение или даже совсем иррациональные сцены, когда терапевт щекочется, играет или шутит. Мы не обязаны делать лишь нечто осмысленное и можем наслаждаться нашей непоследовательностью. Можно слушать, что говорит мама, и одновременно тереть папину шею или качать ребенка. Подобным образом, терапевт сознательно пропускает мимо ушей непристойную брань, как если бы ему предлагали этими словами поиграть с ребенком или бы выражали ими любовь к матери. “... твою мать” он переводит как “Я тебя люблю”. Таким же образом в требовании матери, чтобы молодой человек прекратил непрерывное сидение у телевизора, терапевт может услышать: “Я ревную из-за твоей близости с нашим телевизором”.
Сопротивление
Нам трудно принять обычную концепцию сопротивления. Она предполагает, что терапевт должен как-то бороться с сопротивлением. Может быть, лучше говорить о нечеткой мотивации к изменению или о недостаточно критическом положении семьи. В семейной терапии сопротивление, нечеткая мотивация и амбивалентность относительно терапии представляют проблему всей системы. Один человек выражает такое сопротивление за всех остальных, но мы предполагаем, что это воля всей семьи. Через несколько встреч подросток, “козел отпущения” семьи, говорит, что семейная терапия — пустая трата времени и лучше ее закончить. Обычно он выражает семейную амбивалентность. Семья наблюдает, как терапевт отреагирует на такое заявление подростка, а потом отдельные фракции семьи начинают говорить о своей амбивалентности.
Мы не рассматриваем сопротивление как чью-то личную проблему: для нас это всегда заявление семьи о том, что теперешнее положение вещей их устраивает. Можно усилить остроту ситуации, согласившись с негативной стороной амбивалентности и предложив семье закончить терапию: тогда семью соединяет победа над терапевтом, от которого удалось отвязаться. Другой ход — усилить семейные разногласия по этому поводу и сказать, что семья не может быть единым целым, пока ее члены сражаются друг с другом. Можно драматизировать это событие, предложив семье голосовать, чтобы узнать, кто из них желает убить Большого Брата. Матери, желающей закончить терапию из-за того, что муж ей неверен, мы предлагаем иные возможности. Она может развестись, может оставаться дома и пилить его, может завести себе любовника или пожаловаться его матери и всем соседям в их городке на то, что ее муж — гомосексуалист.
Когда происходит заметное терапевтическое изменение большой системы, оно неизбежно касается каждого. Такие изменения чаще всего непроизвольны и касаются поведения — в широком смысле этого слова. С другой стороны, не каждый член семьи должен принять решение об изменении своего поведения. Мы хотим, чтобы все присутствовали на встречах, но не каждый обязан быть пациентом. На деле, когда на смену пациенту, выбранному семьей, приходит другой, это хороший знак. Каждый член семьи имеет возможность измениться по его собственной инициативе. Если кто-то стремится к индивидуальной терапии, он ее получает — в присутствии остальных членов семьи. Мы защищаем право каждого не меняться, оставить все по-прежнему. Каждый имеет право быть собой: меняться просто потому, что кому-то еще этого хочется, нелепо. Мы в самом начале терапии требуем от членов семьи, чтобы они оставили попытки что-то получить от семьи. Если против нас борется вся семья, мы обычно сдаемся и отпускаем ее, предполагая, что победа над нами может оказаться не менее ценным терапевтическим достижением, чем наши вмешательства.
Технические ошибки
Каковы же самые распространенные и наиболее серьезные ошибки терапевта при таком подходе? Важная часть работы — использование наших собственных эмоций и нашей интуиции. Некоторым кажется, что наш подход опасен и ему нельзя научиться. Возможно, он и правда опасен, но научиться ему можно. Учиться ему трудно, поскольку потребуется какое-то время побыть подмастерьем, и, кроме того, необходимо желание меняться самому и расти во взаимоотношениях со своей собственной семьей. Психотерапия — мощное средство, и потому она опасна. Тем не менее, нам кажется, что надо учить людей, как эффективно помогать другим, а не только тому, как избежать опасностей. Хирургия — тоже опасное занятие, но это не повод отказываться от ее применения.
Обычные технические ошибки относятся к одному из двух уровней. Первый, мета-уровень, имеет отношение к позиции терапевта. Ошибки второго уровня более специальны, они имеют отношение к тому, как терапевт действует. Начнем с мета-ошибок.
1. Ошибочное стремление, чтобы тебя приняли в семью. Терапевт наслаждается общением с семьей, он теплый и дружелюбный. И в результате он в такой мере становится членом семьи, что не способен помочь им измениться.
2. Другая серьезная ошибка — быть слишком профессионалом, настолько чужеродным для семьи, что существует опасность всегда оставаться на дистанции, пользуясь только техническими навыками тренинга общения, применяя интерпретации, а все это слишком слабые средства для того, чтобы совершить изменение, к которому мы стремимся. Терапевт предлагает семье наркоз перед операцией по изменению: свою эмпатию, сочувствие их боли и неприятные чувства, рождающиеся в ответ на семью, — но в любом случае терапевт эмоционально погружен в ситуацию, и это дает ему возможность включиться в подлинном смысле данного слова. Именно его чувства являются наркозом для семьи, позволяющим делать с ними то, что ему кажется правильным в данный момент. Игра в заботу или игра в изменение семьи нередко оказывается полезной на группах встреч или в гештальт-группах, занимающихся ранними переживаниями семьи или отдельного человека, но эти игры создают такую дистанцию, такой холод, что чувства терапевта теряют свою остроту. И тогда семья устанавливает вокруг себя “резиновый барьер”; терапевт может подойти к ним настолько близко, насколько они захотят, а потом его отбросит назад. Тогда семья возьмет в свои руки контроль за своим изменением, а они не захотят подойти к терапевту ближе, чем он — к ним.
3. Другую ошибку совершает терапевт, делающий вид, что не испытывает затруднений и всегда дееспособен. Например, белый терапевт, работающий с черной семьей, обманывает сам себя. Ему трудно быть чутким по отношению к этой семье. Чтобы стать к ней ближе, нужно пригласить черного ко-терапевта. Подобные проблемы возникают при сильном отличии вероисповеданий или при других несовпадениях культуры терапевта и семьи. Терапевт будет работать с уроженцами другой страны менее успешно, поскольку у каждой культуры свой невербальный язык и терапевт более эффективно работает с людьми своей культуры.
4. Семейные терапевты стараются увести семью с их привычных путей, к которым их привязывает тревога. Так мы работаем всегда. Мы сознательно манипулируем семьей, чтобы “козел отпущения” не мог продолжать играть свою роль или чтобы семья была вынуждена попробовать какое-то новое для себя поведение. Эти вмешательства могут взорвать привычное положение вещей и вызвать сильную тревогу в семье или вне ее. Так, в одной семье у отца, врача по профессии, бывали вспышки маниакального психоза. Мы начали семейную терапию, моментально появился острый параноидальный психоз у матери. Семья благоразумно отказалась от продолжения терапии, благодаря чему удалось избежать серьезной неудачи.
5. Еще одна проблема появляется в том случае, когда терапевт играет в инсайты. Он думает, что семья способна использовать его интеллектуальное понимание для того, чтобы превратить его в изменение. Мы не верим, что так бывает.
6. Терапевт ошибочно предполагает, что семья живет в его системе ценностей, и обращается с ними так, как если бы это была семья, в которой его самого растили. Например, терапевт путает психологическое исследование с психотерапией или терапевт протестантского происхождения предполагает, что у католической семьи такая же культура, как и у него.
Далее мы приводим ошибочное применение метода. Эти ошибки не могут повредить семье, скорее, они просто приведут к неэффективности попытки вмешательства.
1. Терапевт движется слишком быстро, не замечая реакции семьи. Это похоже на преждевременные интерпретации в индивидуальной терапии.
2. Терапевт забывает, что интуиция — это только интуиция. Ему в голову приходит идея, порожденная свободными ассоциациями, а семья не воспринимает ее или отвергает. Терапевт должен помнить, что интуиция — всего-навсего его субъективное восприятие. Она может не соответствовать точке зрения семьи. Если семья сопротивляется, лучше сразу же бросить эту идею.
3. Терапевт не может оценить свою степень близости к семье. Тогда терапия походит на слишком затянувшуюся первую встречу. Терапевт не осмеливается эмоционально погрузиться во взаимоотношения и боится покинуть семью, чтобы пациенты не восприняли это как отвержение.
4. Отношение к кому-либо из членов семьи как к “козлу отпущения”. Терапевт может идентифицироваться с семейным “козлом отпущения”, а потом превратить в “козла отпущения” мать, отца или их брак. “Козлом отпущения” может быть вся семья, включая три ее поколения.
5. Другой ошибкой терапевта является следующее: он находит один определенный эмоциональный тон, одно состояние Эго, и стабильно пребывает в нем. Необходимо при работе с семьей пользоваться большим разнообразием состояний при работе с семьей. Например, семья пришла, терапевт ведет социальную беседу о погоде и дороге, а затем постепенно переключается на символическое общение, или замолкая, или произнося какие-то слова с символическим смыслом.
6. Последняя проблема возникает из-за того, что терапевт не понимает, что он может отказаться кого-то лечить.
Завершение терапии
Обычно терапия кончается, когда спадает напряженность. Члены семьи постепенно ослабляют давление друг на друга, их совместная жизнь приносит больше удовольствия, а разговаривать о жизни кажется им пустой тратой времени. Они выражают желание пореже ходить к терапевту или ведут переговоры о встречах с подгруппами семьи. Терапевт находит символический симптом, говорящий о снижении его собственной эмоциональной включенности в терапию данной семьи, и поднимает вопрос о том, сколько еще встреч им нужно предоставить. Семью всегда приглашают вернуться, если они того захотят. Терапевт может согласиться поработать с кем-то индивидуально, когда его об этом попросят. Встреча с расширенной семьей также может стимулировать завершение терапии.
Отделение терапевта от семьи происходит довольно просто в том случае, когда он работает с коллегой: поскольку “родители” остаются вдвоем, они не нуждаются в детях. Дети же понимают, что для них важнее отношения с реальными родителями, чем с терапевтами. Терапевт начал отделяться от семьи еще на первой встрече и в течение всей терапии мог свободно двигаться в семью и из нее. Первый контакт возникает на основе заботы терапевта о семье, но терапевт отражает всякие попытки вторжения в собственную личную жизнь или в сферы его ответственности. Терапевт поддерживает границы своей функциональной роли таким же образом, как это делают родители. Когда он ощущает свободу присоединяться и отделяться, завершение терапии становится простым процессом. Терапевт говорит о том, что ему скучно, пациенты все в меньшей мере зависимы от него, им стало легче, все больше их интерес привлекает реальная жизнь.
Обычно терапевт старается уловить символические сообщения от семьи, намекающие на то, что пора заканчивать терапию. Молодые люди говорят, что скоро начнется футбол. Мать может признаться, что чуть не позабыла о встрече с терапевтом, потому что играла в бридж. Отец жалуется, что ему из-за визитов сюда трудно зарабатывать деньги. Или кто-то еще начинает рассказывать о проблемах чужой семьи. Все это на символическом языке говорит о том, что семья теряет интерес к работе над своими проблемами; если семье удалось что-то изменить в процессе терапии, тогда это признаки близкого окончания.
Бывают и другие признаки. Кто-то не приходит на встречу или опаздывает. Бывает и так, что символическую готовность окончить терапию показывает поведение терапевта. Он может забыть о времени встречи с семьей и пригласить по ошибке на это время кого-то еще, может заснуть посередине встречи, обнаружить в себе потерю творчества и преподавательский тон при общении с семьей, все это говорит о том, что семья находится в позднем подростковом возрасте и готова покинуть дом.
Желание семьи завершить терапию никогда не рассматривается на символическом уровне. Если семья хочет прекратить терапию, мы соглашаемся. Если мы попросим объяснить нам, почему это так и превратим метасообщение своих пациентов в материал для терапии, то окажемся в тупике псевдотерапевтических отношений. Похожая ситуация возникает, когда подросток намерен оставить родителей, но откладывает выполнение своего решения. Родитель может понять, что уже сделал все, что мог, и, хотя дети никогда не бывают полностью подготовлены, ребенка следует отпустить на свободу, чтобы он продолжал расти самостоятельно.
Терапевтические факторы
в символической семейной терапии,
основанной на личностном опыте
Прежде чем произойдет исцеление, семья должна почувствовать себя единым целым. “Мы все играем вместе, и что-то у нас не ладится: нападающий не на высоте, мы стали проигрывать игру за игрой, защитник дерется с вратарем”. Мы предлагаем идею изменения, происходящее незаметно, косвенным образом, причем симптом нас почти не интересует. Семьи, которые не могут почувствовать себя единым целым, чаще всего уходят от нас.
Мы не думаем, что инсайт необходим для изменения, хотя он часто бывает побочным продуктом изменения. Понимание истории и происхождения проблемы иногда помогает измениться. Но не стоит преувеличивать значение инсайта, поскольку понимания недостаточно для того, чтобы чему-то научиться. Настоящее обучение основывается на опыте и на его оценке. Чаще всего обучение происходит после того, как достигнуто изменение. Мы пользуемся инсайтом для того, чтобы поменять у семьи ее представление о себе и чтобы изменить Я-образ отдельных людей. Когда нам попадаются интеллектуальные семьи, нелегко пробиться в их систему представлений с помощью простой интерпретации или прямого обучения. Бульшей ценностью обладают интерпретации метафорического характера.
Самый важный инсайт относится к пониманию взаимодействия между людьми. Хорошо, когда он связан с опытом взаимодействия во время терапии. Самый распространенный вид такого понимания касается совместного участия людей в одной проблеме. Например, муж жалуется на сексуальную холодность жены. Мы предполагаем, что женщина холодна по той причине, что он становится импотентным именно в тот момент, когда она горит желанием. Такой инсайт в сфере взаимодействия разрывает паутину взаимоотношений в семье, так что каждый становится свободнее от гнета системы.
Интерпретации не кажутся нам чем-то важным. Иногда нам помогает знание истории проблемы. Но все же интерпретация, инсайт или история нередко становятся препятствиями для терапевтичных переживаний. Мы обычно оставляем эти технические средства для поздней стадии терапии. Так, работая с аутичными детьми, Кейт на ранних стадиях не направляет их на обследование. Его главная цель — установить терапевтический альянс с семьей как с единым целым. Это дает семье символическое переживание, не превращая источник их тревоги в мертвый предмет. На более поздних стадиях он может направить их к специалистам на обследование и для определения подходов к обучению ребенка. Это пример того, как мы перемещаем фокус стремлений семьи на то, что кажется существенным нам, и при этом не следует обращать внимания на проблему, с которой пришли наши пациенты.
Мы не учим их новым видам поведения. Мы предлагаем исследовать свои возможности и расширить их репертуар. Например, жена говорит: “Я хочу развестись”. Терапевт отвечает: “И где вы тогда будете жить? Вернетесь к маме? Вы думаете, она предоставит вам вашу бывшую комнату? А как Фред, снова женится, или ему помешает горечь первого брака?” На поздних этапах терапии семья иногда просит научить ее чему-то конкретному, и тогда терапевт предлагает им информацию, небрежно, говоря как бы уже о совершившемся в прошлом. Когда семья, например, просит объяснить психодинамику, которая привела их к терапевту, когда пытаются разобраться во взаимоотношениях с предшествующими поколениями, обсудить свои отношению к окружающим людям или выражают желание изменить внутрисемейные границы, терапевт может ответить им прямо, опираясь на сильные чувства, которые уже пропитали взаимоотношения с семьей на прежних стадиях терапии. Он может свободно выражать свои мнения, не пытаясь управлять семьей, не навязывая им чужеродной точки зрения. К этому моменту семья способна сама обучаться тому, чему хочет, и включает понимание терапевта в рамки своего восприятия реальности. Члены семьи могут видоизменить совет терапевта, пропустить его мимо ушей или использовать — в зависимости от того, кажется ли он им ценным. А на ранних этапах эта же самая информация воспринималась бы на символическом уровне, поэтому было бы опасно ее предлагать.
Терапевт получает награду в процессе терапии — свое психическое здоровье. Его личностный рост и место, которое он занимает в жизненном цикле, имеют прямое отношение к его профессиональной эффективности. Если терапевт не получает от своей работы терапии для себя, значит, мало что получат и его пациенты. Разница между пациентом и терапевтом в данном контексте заключается в том, что пациент, погружаясь в терапию, приносит всего себя, а терапевт себя ограничивает, чтобы выполнить свою функцию. Другими словами, в конечном итоге динамика терапии заключена в личности терапевта (Betz & Whitehorn, 1975).
Присутствие двух терапевтов не только обеспечивает разнообразие способностей, но и показывает семье особые взаимоотношения. Мы думаем, что ко-терапия представляет семье очень важный метаопыт. Близость, которую достигают между собой члены семьи во время терапии, может казаться даже меньше той близости, что существует между терапевтами. В терапевте мы ценим личностную зрелость, способность заботиться, умение сочетать любовь и жесткость, безумие и порядок, готовность отпустить пациента, способность быть непоследовательным.
Две часто используемые нами концепции иногда вызывают возмущение у других терапевтов. Первая — безумие; вторая — ценность непоследовательности терапевта. Безумие или сумасшествие иногда означают незрелость и симбиотическую привязанность к другому. Безумие, которым пользуется терапевт, свободно от любой симбиотической привязанности, он добровольно пользуется им как частью своей личности. Необязательно быть незрелым, чтобы мыслить иррационально. Необязательно быть незрелым, чтобы пользоваться несвязными свободными ассоциациями и фантазиями. Необязательно быть незрелым, чтобы говорить на шизофреническом языке. Все это может делать свободный здоровый человек, не связанный культурными запретами, избавившийся от уз переноса и и умеющий быть инфантильным. Известный психоаналитик Райох (1944) сказал много лет назад: “Зрелость — это способность быть незрелым”. Другими словами, зрелость есть способность действовать на уровне регрессии на службе терапевтического процесса, подобно тому как многие наши пациенты регрессируют на службе у Эго семьи или невротики — на службе своего личного Эго. Сознательная регрессия в терапевтических целях — вот что часто происходит с нами на терапии. Тогда наш пациент, семья, вынужден принять на себя роль “нормального” в этом большом Мы, в надсемье, состоящей из семьи и терапевтической команды. Терапевты, получающие удовольствие от безумной части этого Мы, одновременно дают пациенту (семье) позволение быть безумным в нужное время, в нужных обстоятельствах, с соответствующими людьми и освобождают его от симбиотической связи с фобией матери, страшащейся психоза (Whitaker, 1978).
Разумеется, мы в то же время бываем более зрелыми в наших функциональных взаимоотношениях с пациентами, чем во внешнем мире с нашими собственными семьями или с коллегами. Когда мы работаем вдвоем, рациональная и иррациональная части личности становятся доступнее благодаря безопасности, которую создает присутствие коллеги. В ко-терапии у нас появляется надежная субкультура: принадлежность к Мы, сопротивляющемуся внешней культуре, принадлежность, которая требует, чтобы мы были нормальными, рациональными, разумными и альтруистичными людьми.
Чтобы эффективно помогать другим меняться, терапевт, по нашему мнению, должен научиться быть непоследовательным и жить в мире со своей непоследовательностью. Наш образец — родитель, решившийся принять свою непоследовательность при воспитании ребенка. Последовательный, по его собственному мнению, родитель либо бредит, либо ведет себя последовательно с детьми вместо того, чтобы быть с ними самим собой. Непоследовательность терапевта помогает разрушить стремление семьи жестко установить узкие рамки своей жизни.
Техники важны для неопытного терапевта и на ранних стадиях семейной терапии любого рода. Тем не менее, техники, которым ты уже научился, становятся автоматическими, и их надо оставить. Важно включить техники в общий план игры. Допустим, молодой защитник в футбольной команде научился хорошо посылать мяч на дальнее расстояние. Он менее ценен, чем защитник, у которого в голове имеется план поведения в ситуации игры и который может использовать разные приемы, чтобы в конце концов забить гол. Более важными, чем простые техники, являются метатехники, например, умение выбрать правильное время, расставить акценты, понять, когда надавить, а когда отступить или когда надо быть осторожным.
Техники, которым терапевт научился, становятся автоматизмами и бледнеют. Конечной целью всех техник является устранение техники, выход за ее пределы, подобно тому, как любовь превосходит изученные техники полового акта.
С нашей точки зрения, психотерапия не может совершаться без переноса, но перенос становится действенным только в том случае, когда происходит с обеих сторон. Феномен переноса в семейной терапии усложняется, поскольку в кабинете терапевта присутствуют много людей и подгрупп при постоянно меняющихся состояниях Эго. Мы не стремимся охранить их от нашего переноса, хотя бывают особые ситуации высокого напряжения, где это надо делать ради достижения терапевтического выигрыша. Мы предполагаем, что и перенос между двумя терапевтами — это очевидная реальность, ценная часть взаимодействия надсемьи.
Контрперенос опасен в семейной терапии тем, что блокирует взаимоотношения переноса, то есть действует против переноса. Можно рассматривать контрперенос как систему действий, не предполагающую альтернатив. Так, например, первые годы своей работы Кейт вовлекался в схватку с матерью на ранних этапах терапии. Это не вредило семье, но часто вело к их уходу. Теперь он научился откладывать такие сражения на более поздние этапы терапии. Он стал работать эффективнее и получать больше удовлетворения от терапии. Контрперенос не представляет большую опасность в том случае, когда о нем открыто говорят и превращают его в часть процесса работы. Почти все чувства, переживаемые в терапии, связаны с переносом в его разных проявлениях. Мать переносит на старшего сына чувства, которые испытывала к мужу, подобным образом она перенесла на мужа отношение к своему отцу, а ее дочка переносит чувства к матери на ко-терапевта. Все это важная часть семейной терапии.
Когда Кейт начал работать с семьями, каждая терапия казалась ему неудачей, пока он не убедился в том, что люди меняются. Через несколько лет он понял, что не все меняются явно. Ценность терапии для семьи представляется более сомнительной в тех случаях, когда кто-то из семьи отказывается меняться. Надо вовлечь каждого члена семьи достаточно глубоко, чтобы в процесс терапии вошла его тревога за самого себя, за подгруппы семьи и за всю семью в целом. Мы думаем, что мужчины — безнадежный народ: они в такой мере ориентированы на факты и на время, что почти потеряли способность к близости и не чувствуют красоту. Часто отцы как будто не меняются, но остальные члены семьи перестают относиться к ним с ужасом. Они любят отца и относятся к его отчужденности как к его частному безумию.
Часто мы не замечаем изменений у “козла отпущения”. К тому моменту, когда семья приходит к нам, структура его характера уже прочно установилась. Кажется, что “козел отпущения” не поменялся, но стал занимать меньше места в семейном бессознательном. Тем не менее, нередко к моменту завершения терапии, изменившей семью, у него остаются старые симптомы.
Так называемый здоровый член семьи часто страдает той же формой психопатологии, что и психотерапевты. Он стремится делать добро, помогать другим, и в результате может потерять свое “Я”.
Маловероятно, что мы добились разрешения семейной проблемы в тех случаях, когда никто не изменился. Мы настаиваем на том, чтобы даже и те члены семьи, которые не желают быть пациентами, посещали терапию. Семейные проблемы отражают не только положение вещей в системе, на них накладываются, усиливая их, и проблемы каждого отдельного человека.
Одним из самых сильных факторов, определяющих успех или неуспех терапии, является давление всей семьи на ее членов. Когда расширенная семья единодушна в своем ощущении, что “нам надо что-то сделать”, это обнадеживает. Усложняют работу ситуации, когда к нам приходят чужие по крови люди: приемный ребенок, повторный брак, небрачный союз, треугольник, включающий любовника или любовницу одного из супругов.
Далее. Если люди, с которыми мы работаем, не живут вместе, уровень их тревоги больше, а стремление измениться — меньше, чем у обычной семьи. Возможность успеха заметно снижается и в тех случаях, когда пациенты имели дело с терапевтами раньше, в индивидуальной терапии, или, что еще хуже, в семейной, — и этот опыт был неудачным. Развиваются цинизм и ощущение безнадежности. Такие люди легко используют психологический язык — все это мешает терапии.
Ригидные и социально приспособленные пациенты с параноидными чертами характера трудно поддаются семейной терапии: они слишком сильно верят в отдельного человека и в индивидуализм, и в этом их часто поддерживают окружающие. Хроническая устоявшаяся форма патологии ограничивает возможности изменения. Представляет трудности и работа с психосоматическими семьями. В такой работе можно выделить две составные части. Первое: надо помочь семье переключиться в своих поисках исцеления с соматической медицины на психотерапию; и второе: терапевт должен научить их перейти с языка телесных симптомов на психологический язык. Важно не форсировать изменение, имея дело с такими семьями и работать с ними с помощью административных структур или метафорического влияния.
Трудными являются и те ситуации, когда семья не очень беспокоится о положении вещей или несколько человек озабочены, а остальные, которым кажется, что все в порядке, противодействуют им. Как уже упоминалось, симптомы, существующие в семье постоянно на протяжении многих лет, стали привычными для семьи, и их стремление измениться оказывается ложным. Возможности успеха в терапии сильно снижаются в тех случаях, когда кто-то из членов семьи перестает посещать терапевта. Чем меньше людей приходит, тем меньше надежды на удачу. Это вынуждает терапевта отказываться от продолжения терапии в ситуации, когда один или несколько членов семьи говорят, что не будут ходить на встречи. Это верно даже и в том случае, когда терапию покидают здоровые люди и терапевту кажется, что их можно отпустить, поскольку у них все в порядке. Оставшимся сложнее изменяться после того, как они потеряли своего героя или героиню. Семья без инициативы — это, в сущности, семья, не способная меняться. Терапевту остается признать тот факт, что он не может им помочь совершить значимое изменение. Когда члены семьи хотят изменения, терапевт может их к этому стимулировать своими усилиями, но если нет инициативы, мало что можно сделать.
Наконец, самый главный фактор изменения или неудачи при работе с семьей — уровень их тревоги и отчаяния. Когда члены семьи чувствуют, что так жить больше нельзя, они меняются, когда этого нет — ничего не происходит. Помогают двигаться к изменению личная заинтересованность членов семьи и их способность переносить парадоксальную двойственность (любовь-ненависть, тело-психика и другие неоднозначные гештальты).
Удачное завершение терапии похоже на взросление подростка. Иногда оно происходит постепенно и спокойно, а иногда подросток уходит, хлопнув дверью. Большинство окончаний терапии происходит у нас резко. На очередной встрече мы замечаем, что семья пребывает в “здесь и теперь”, и предлагаем им уйти в самостоятельную жизнь. Некоторые семьи соглашаются и уходят, другие сопротивляются, и тогда завершение происходит постепенно, мы ждем, когда они сами примут решение уйти. Подобно подросткам, некоторые семьи уходят, обещая на Рождество посетить своих родителей, а затем не могут выполнить свое обещание или попросту забывают о нем в самостоятельной жизни.
Можно заметить следующие признаки успешного завершения терапии: семья живет в “здесь и теперь”, усиливается терапевтический процесс в пространстве “здесь и теперь” во время встречи, они могут принимать решения без помощи терапевта, могут поправлять ошибки терапевта и даже терапевтами по отношению к нему, семье легко быть неразумной, мирной, члены семьи могут свободно отделяться и быть вместе, им несложно вступать в телесный контакт с терапевтами.
Другого рода успех происходит в ситуации, когда семья покидает нас на ранних стадиях терапии. Мы думаем, что такой шаг к самостоятельности всегда ценен. Он означает, что семья, под влиянием своей злости или переживания успеха, решила переделать свой стиль жизни. Терапия, даже если это была одна-единственная встреча, помогла им принять такое решение, и, возможно, это даже лучше, чем длительная работа. Научиться вовремя ощущать признаки того, что семья хочет уйти или взять ответственность в свои руки, — важное умение для любого терапевта.
Плохое или неудачное завершение происходит в том случае, когда семья прерывает терапию в результате одностороннего решения и обращается к другому терапевту, который начинает с ними работать в течение ближайшего месяца. Подобная ситуация напоминает повторный брак вскоре после развода. В таком союзе человеку трудно участвовать целиком и полностью.
Динамика завершения в семейной терапии все еще не очень понятна. Процесс терапии отличается от поездки на автобусе до конечной остановки. Мы не ставим себе задачу достичь полной нирваны. Мы стараемся сделать жизнь семьи на десять процентов полнее. Как пример приведем историю работы с семьей, в которой было четверо детей, а родители должны собирались окончательно развестись через два месяца. К нам эту семью направил педиатр, потому что у их четырнадцатилетнего сына появились признаки депрессии. Мы встречались с семьей всего три раза, и по нашему впечатлению это было бесполезной рутиной. Через две недели после окончания терапии отец позвонил педиатру, чтобы извиниться за то, что слишком мало ему помогал. Он был доволен результатами нашей работы, поскольку перестал чувствовать отчуждение между собой и детьми. Теперь он обрел с ними контакт и признался, что даже и не подозревал, насколько их будет недоставать ему после развода.
Семьи заканчивают терапию по-разному. Как правило, происходит типичное отвержение родителей в том или ином виде. Иногда они забывают о назначенной с терапевтами встрече, могут отвергать систему ценностей терапевта или, как это делают дети на игровой терапии, направить к нам новую семью как бы вместо себя.
Часть VI
коллекция
Всегда надо начинать не с той ноги.
Тело есть храм Бога; телесные ощущения, возможно, ближе к Богу, к бессознательному, чем любые другие переживания, ближе, чем переживания, возникающие при общении с людьми, возможно, ближе, чем фантазии, поскольку более непосредственны. Поэтому усилия соревнующегося ребенка — это работа рук; его телесные ощущения — связаны ли они с мастурбацией или c болезнью тела — кажется, больше говорят ему о возможностях и силах его собственного бессознательного существа, его собственного Бога.
Ваш развод — это на самом деле попытка найти человека в себе.
Вопрос: хочу ли я детей? Единственный ответ: радовалась ли моя мама своим детям, особенно мне?
Мир между супругами, уже перевалившими за свой климакс, свидетельствует о том, что у них не осталось никакой ревности по поводу близости матери и младенца.
Вопрос: хороший ли я отец? Единственный ответ: хорошие ли отцы мои сыновья, судя по их детям?
Как оставаться мертвым: надо каждому, кто тебя слушает, постоянно рассказывать про доброе старое время.
Если бы несение бремени других людей действительно делало нас взрослыми, многие из нас были бы настоящими людьми.
Величайшее испытание в жизни человека — это брак, средоточие всех озарений, естественный терапевтический процесс в нашей культуре.
Красота женщины — это длинные накрашенные ногти, способные выцарапать тебе глаза. Наивно представлять себе брак, накладывая на него картинку брака своих родителей.
Анатомия брака — это приспособление к привычкам другого, равенство, когда равна терапевтическая ценность обеих супругов, когда легко пользоваться фактами своего прошлого с обеих сторон. Но в браке нет единства, каждый одинок и использует другого, чтобы достичь полноты своего биологического бытия, — ни один мужчина не полон без женщины, ни одна женщина не полна без мужчины. Взаимное использование друг друга приносит полноту и целостность, ведет к обоюдному росту.
Инсайт — побочный продукт роста и изменения, а не предшественник и не причина роста и изменения.
Как быть совсем одиноким: обращаться со всеми друзьями с ангельским терпением или посвятить себя другим (“Не гневайся на меня, я не собираюсь помогать тебе”).
Я пришел сюда в 2:30 только по одной причине: я думал, что встреча начинается в 2:00.
Профессионализм может являться серьезной проблемой.
Секрет хорошего родителя: уметь получать удовольствие от того, что тебя ненавидят.
Мать Природа всегда добивается своего.
Я стыжусь своей радости или удовольствия, но преодолеваю это в себе.
Внезапно прерванная психотерапия: если терапевт удивляется, что это пациент не приходит, он должен донести свои сомнения до пациента. Он может сказать: “Я удивлен и расстроен, что вы не возвращаетесь. Вы имеете на это право, но меня заботит, не обманул ли я вас, или, быть может, вам показалось, что я недостаточно компетентен, чтобы вместе с вами продолжать сражение за личность. Если вы решили, что я вам больше не нужен, это ваше право, но если вы чувствуете, что я вас как-то унизил, надеюсь, что вы вернетесь и будете драться со мной, несмотря на то, что мы расстаемся. Я бы предпочел лучше встретиться с вами и узнать о своей неадекватности, чем созерцать повисший в воздухе после вашего ухода вопрос: что-то не удалось, только неизвестно что”. Когда терапевт пишет пациенту, он предлагает ему прикоснуться к реальности. Нехорошо позволять пациенту исчезать, не попытавшись вместе с ним пережить фантазию отделения, хотя бы в форме письма.
Моя теория заключается в том, что все теории дурны, они годятся разве что в качестве предварительной игры с самим собой, пока не хватает смелости оставить теории и просто жить.
Знаете историю про пугало? Путешественник шел на юг, и дорога вела мимо поля. На поле он увидел пугало и остановился побеседовать с ним. “Тебе, наверное, так одиноко стоять тут всю жизнь?” “Это не так, — ответило пугало. — Мне нравится отпугивать ворон”. Они поговорили, и путешественник отправился дальше. Весною на обратном пути он опять остановился у того поля. На этот раз вороны свили себе гнездо в волосах пугала, а оно стало философом: “Я убежден: то, что я делаю, у меня хорошо получается потому, что я умею наслаждаться собственным садизмом”1.
Ко-терапия: один психопат сказал мне: “Ну, я понимаю, что вы тут сидите, но два человека сразу — это слишком. Как будто толпа народу”. И это кое-что значит. Когда появляются два терапевта, терапия становится как бы частью культуры. Она соединяет в себе близость с глазу на глаз и социальную напряженность ситуации2.
Ты не можешь знать человека как следует, если незнаком с его родителями3.
Любовь освобождает: пациент думает, что детская зависимость в психотерапии, которую мы называем переносом, для него опасна. Он прав в том случае, когда терапевту эта зависимость требуется в качестве поддержки. Но если терапевт действительно любит свою жену или своего коллегу, тогда ребенок свободен.
Зрелый терапевт всегда похож на родителя.
Мы отправляем людей в психушки, если у них появляется бред. А когда бред появляется у меня, это называют теорией.
Можно в-любиться, но невозможно от-любиться.
Я не верю и в брак... Это просто два “козла отпущения”, посланные двумя семьями в стремлении воспроизвести самих себя... И борьба за то, какая семья получится в результате.
Появление консультанта в ходе терапии легче понять, если предположить, что консультант — это мачеха пациента.
Существует один важнейший фактор терапии, которым часто пренебрегают и никогда не понимают. Не будет в терапии райского сада, если терапевт не станет вынашивать фантазии о том, что пациент на самом деле — его ребенок. Именно эта фантазия и ведет к исцелению.
Сплетня есть клиническая конференция с разбором историй болезни, проводимая терапевтами-любителями.
Психотерапия похожа на обучение игре на фортепьяно. В каком объеме ее изучать, как долго, насколько глубоко, — зависит от конечной цели: хотите ли вы играть гимны Баха и Бетховена.
О неверности обманутая сторона — супруг и дети — всегда знает. Обычно один из супругов хочет, чтобы измена продолжалась, а другой это чувствует и реагирует негативно.
Тоска по родному дому есть признак здоровья; это период интеграции, период одиночества, рубеж между бывшей семьей и будущей.
Психотерапия идет в своем собственном темпе, любая попытка ускорить ее или замедлить становится разрушительной.
Да сохранит меня Бог от человека, который старается притвориться невульгарным.
Идентификация человека со своими сверстниками — вещь всегда амбивалентная. В каждом человеке живет и желание подражать, и желание разрушить другого ради ощущения своего всемогущества4.
Терапевт получает возможность расти, когда спускается со своего трона5.
Любой триумф наследует саморазрушение.
Психотерапия — это время, когда надо ничего не делать; но попытка не делать ничего — тоже дело, и никуда не приходить — то же самое, что не делать ничего, поскольку не исключена возможность преднамеренного уклонения от достижения конечной цели.
Ужасная правда: Санта Клауса не существует; самая соблазнительная девушка — самая бесчувственная; тому, кого ты любишь больше всех, ты меньше всего можешь помочь. Одиночество рождается из бредовой надежды, что единство с другими людьми — возможно.
Любое количество изнасилований все еще оставляет жертву девственницей. Любое количество обольщений оставляет мужчину мальчиком (никого никогда не “сделали” мужчиной). Человек расстается со своей девственностью только сам, никто не может лишить его девственности. Нельзя поднять себя в воздух за шнурки своих ботинок.
Сражение между мужем и женой — естественная часть их брака. А вот когда супруги начинают разговаривать о взаимоотношениях, они сразу превращаются в психотерапевтов или в родителей друг для друга.
Брак — это кошмарное состояние, есть только один еще более ужасный кошмар — оставаться одиноким.
Преступник — это человек, который испытывает слишком сильные чувства в ситуациях низкого напряжения, например, в социальных ситуациях, а не у себя дома.
Тот, кто прикасается ко многим людям, может таким способом защищаться от близости с отдельным человеком.
Мать после своей смерти становится более требовательной, чем была при жизни.
Страсти в семье (эрос и гнев) должны распределяться между мужем и женой, а не между одним из супругов и детьми.
Секрет роста в браке — глупый и вульгарный секс.
Плохие отцы облегчают детям задачу оторваться от дома и покинуть семью.
Когда ты можешь ненавидеть, тогда способен и любить.
Всякое поведение пациента, даже когда оно выражает сложнейшую психопатологию, есть проявление его стремления к росту6.
Стоит учиться быть безумным, и в то же время стоит учиться мудрости7.
Если он не чувствует ее любви, это происходит оттого, что она не чувствует его ненависти.
Вопрос: кому можно доверять? Ответ: тому, кто открыто любит в большей мере себя, чем тебя.
Нет ничего лучше, чем обманывать самого себя, поскольку в результате выигрывают обе стороны.
Терапевт, подобно Христу, говорит каждому пациенту: “Оставь все то, что ты больше всего любишь (гордость, надежду, проекции), и следуй за мной”. Если ты хочешь родиться снова, я буду акушером, но не твоей матерью.
Чтобы найти себя, стоит остерегаться фразы: “Я ведь всегда говорил...”
Как трехлетний ребенок играет с куклами в маму, так четырехлетний играет в сексуальные игры со своим папой. Если папа способен ответить на это игрой, вместо того, чтобы быть по-взрослому сексуальным, ребенок может понять, что такое любовь, и никогда не спутает ее с сексуальностью.
Ты есть то, чему ты поклоняешься, ты сам — твой идол.
Социопат отнюдь не пребывает в блаженной бессовестности, а напротив — слишком обременен своей совестью.
Вытеснение не является тяжким грехом.
Тайна истины заключается в том, что она парадоксальна.
Эгоизм, доведенный до предела, становится бескорыстием.
Жизнь не есть господство психики над материей, это господство настоящего над прошлым и настоящего над будущим.
Я ненавижу психиатра моего мужа даже сильнее, чем свою свекровь.
Любовь растет лишь вместе с ненавистью, чуткость — вместе с жесткостью, единство — вместе с отделенностью, а глубина — вместе со смирением.
Чтобы взаимоотношения время от времени были горячими, супруги должны научиться быть иногда холодными. Можно сказать “да” лишь после того, как человек хорошо усвоил, что он имеет право и действительно может сказать “нет”.
Я — единственный человек, который никогда меня не покинет, буду ли я прятаться от себя, отворачиваться от себя самого, ранить себя. Любой другой вид любви ограничен рамками времени и рамками личностей: рамками его, меня и нашего “мы”.
Когда функция матери берет верх над личностью матери, личность исчезает, она становится няней-любителем, ожидающей за свою работу платы монетой любви. Если же она понимает, что ее роль вторична по отношению к личности и ограничивается определенным отрезком времени, тогда она может оставаться живым растущим человеком.
Совет молодой женщине: никогда не покидай гнезда одного мужчины ради гнезда другого; можно учиться летать только при наличии крыльев.
Брак бывает столь разрушительным потому, что его используют для разрушения себя (для бегства от себя).
Мать и отец создавали того идола, которому ты поклоняешься. Мать создавала его облик по образу своего отца. Неважно, ненавидела она отца или любила, важно, что, когда ты этот образ в себе воплощаешь, она ненавидит или любит тебя или любит и ненавидит одновременно, так же, как ненавидела или любила своего отца, но это не ты, это лишь игра ее воображения.
Самый простой способ избежать психотерапии: регулярные встречи с терапевтом.
Обычно родители обнаруживают, что их дети тоже люди, в тот момент, когда уже поздно радоваться общению с ними.
То, что ты говоришь, — прежде всего сообщение самому себе и лишь во-вторых — попытка что-то сообщить другому.
Лучшее средство от бессонницы — бессонница.
Депрессия на психопатической ее стадии есть наслаждение ненавистью к самому себе и действием этой ненависти.
Настоящая ненависть, наверное, никогда не разрушает: мы не хотим потерять объект нашей ненависти, так что ненависть порождает соединение.
Чем больше в человеке благонравия, тем сильнее в нем подводное течение вульгарности.
Бред современной культуры: полагать, что “сексуально привлекательная” и сексуальная — это одно и то же. На самом деле соблазняющая одновременно кастрирует, и чем она “привлекательнее”, тем сильнее фригидность.
Бред культуры: человек должен исполнять свой долг ради других, не ради себя. Если человек все время трудится, это увеличивает его ценность в собственных глазах. В сущности, это то же самое, что сказать: жена должна спать со своим мужем ради того, чтобы сделать его добрым христианином.
Каждый из нас похож на миссионера, который пытается найти язычника и обратить его, чтобы купить себе место в раю.
Человек, по определению, тот, кто одинок.
“Я не знаю, что мне делать с мужем” означает “Я не знаю, что делать с нашим браком”. Когда кто-нибудь говорит о своих взаимоотношениях с помощью такого грамматического сочетания первого лица и третьего, происходит отрицание еще одной формы — “мы”. Для изолированного человека чувство одиночества есть шаг в сторону выздоровления. Самым последним симптомом остается импульс к росту, стремление сохранить движение жизни.
Каждый родитель воспитывает детей неудачно. Ни один ребенок не становится таким, каким его хотели бы видеть родители. Если родитель признает свою неудачу, ребенок может расти согласно своей природе. Чему бы родители ни пытались его научить, когда он вырастет, его образ жизни будет похож на жизнь родителей.
Манипулятор — это человек, который убежден, что не может обратиться к своему бессознательному, то есть к лицу Бога, поэтому он все ответы хочет получить от других, не от себя.
Возможно, фригидность, которую мы можем назвать и вытеснением, скорее связана со страхом перед безумием оргазма, чем со страхом перед сексуальностью. Пугает не сама сексуальность, но потеря контроля, которая воспринимается как сумасшествие, а не как расслабление.
Я полагаю: где есть жизнь, там есть и безумие8.
Не могу себе представить тренера футбольной команды, который скажет своим ребятам: “Если вы устали, то закончим тренировку. Это будет вредно для вас”. То же относится и к психотерапии9.
Раньше меня пугали опасности нашей профессии: не сойду ли я с ума, не захочу ли покончить с собой в отчаянии? А потом это прошло, сменилось другими страхами. Не окостенею ли я? Не стану ли все глубже погружаться в спячку и тогда на вопрос “Как жизнь?” привычно буду отвечать: “Все спокойно”?10
Заключение
Старость — это радость. За последние полгода меня трижды приглашали побыть основным экспонатом для стажеров-психиатров, изучающих эмоциональное состояние пожилых людей и рассматривающих дилеммы, сопровождающие выход на пенсию. Пять лет тому назад я позвонил своей гуру и сказал, что планирую уход на пенсию. Она ответила: “Ты не можешь уйти”. Не знаю, был это парадокс или табу переноса?
Юность — это кошмар сомнений; средний возраст — утомительный, тяжелый марафон; пожилой возраст — наслаждение хорошим танцем. Быть может, коленки хуже сгибаются, зато темп и элегантность становятся естественными, невымученными. Этот возраст знает больше, чем говорит, что еще лучше — ему говорить и не нужно. Жизнь просто для того, чтобы жить. Мы с женой вполне знаем друг друга. Жизнь с ней похожа на удовольствие ходить по своему дому при погашенном свете: с каждым шагом ощущаешь безопасность родного. Шестеро наших детей — наши закадычные друзья, одиннадцать внуков — сад, где можно бродить и нюхать ромашки.
Когда я вижу одаренных и целеустремленных молодых терапевтов, которые пытаются подняться на новый уровень, я думаю, что поможет им избежать “перегорания”? Меня спрашивают: “Что делать? Я уже выдохся?” Как это мне удавалось? Благодаря удачному скачку из гинекологии в психиатрию по неясным мотивам? Из-за годичного обучения игровой терапии и трехлетней работы с правонарушителями, похожими на кадиллак с испорченным управлением? Благодаря возможности преподавать психиатрию студентам, когда я сам про нее почти ничего не знал? Или оттого, что я не сталкивался с тяжелой психиатрией? Все, кто должны были преподавать психиатрию в 1941 году, оказались в Европе. А если ты не посещаешь собрания Анонимных Алкоголиков — ты не алкоголик, а просто обычный пьяница. Потом, благодаря очередной насмешке судьбы, мы очутились в Окридже. То секретное место, связанное с атомной бомбой, где мы занимались спасением мира, помогало поддерживать высокий уровень адреналина — перегореть было невозможно.
Следующий поворот событий, и мы оказались создателями обреченной на провал четырехгодичной программы обучения психотерапии для студентов. Я тогда не понимал, что нельзя заставлять каждого студента-медика участвовать в двухгодичном курсе групповой терапии. Декан был новичком и не понимал, что надо заставлять их изучать психодинамику, а не человечность хорошего слушателя. Это работало десять лет, пока “они” (и кто эти они?) не догадались, что психотерапия — не наука. Они словно думали моими мозгами! Была кровавая сцена, которая в то же время многому меня научила. Неужели ошибка — единственный хороший учитель, а изменение — единственное противоядие перегоранию?
Ко-терапия для шизофреников была успешной — пока они не возвращались в свои семьи. Эта ошибка сурово нас наказала, но она же открыла другое измерение моей жизни — семейную терапию. Может быть, я наконец “перегорю”? Нет, в этой жизни такого не случится!
Карл Витакер
Примечания
К части I
1. Chapman, A. H. Harry Stack Sullivan, the man and his work. New York: Putnam’s, 1976.
2. Работа в измененном виде была опубликована под названием Whitaker C.A., & Davidoff, E. Without psychosis — Chronic alcoholism. Psychiatric Quarterly, 1942, 16, 373—392.
3. Rank, O. Will therapy, truth and reality. New York: Knopf, 1947, p.21.
4. Ibid., p.98.
5. Ibid., p.206.
6. Ibid., p.28.
7. Federn,E. “The therapeutic personality, as illustrated by Paul Federn and August Aichorn”. Psychiatric Quarterly, 1962, 36, 29—43.
8. Whitaker, C. A. Ormsby Village: “An experiment with forced psychotherapy in the rehabilitation of the delinquent adolescent”. Psychiatry 1946, 9, 242.
9. Ibid.
10. Сlarke, E. K. Psychiatric problems at Oak Ridge. American Journal of Psychiaty, 1945, 102, 437—444.
11. Whitaker, C. A., & Malone, T. The Roots of Psychotherapy. New York: Blakiston, 1953.
12. Whitaker, C. A. (Ed.). Psychotherapy of Chronic Schizophrenic Patients. New York: Little, Brown, 1958.
13. См. статью Schwartz, E. K., & Wolf, A. Irrational trends in contemporary psychotherapy. Psychoanalitic review, 1958—1959, 45, 65—82.
14. Rosen, J. A method of resolving acute catatonic excitement. Psychiatric Quarterly, 1946, 20, 183—189.
15. См. Brodey, M. W. Observations on direct analysis: The therapeutic techniques of John Rosen. New York: Vantage Press, 1959.
16. Segal, H. Melanie Klein’s technique. In B.B. Wolman (Ed.), Psychoanalytic techniques. New York: Basic Books, 1967, pp. 168—190.
17. Whitaker, C. A., & Malone, T. Op. cit., p. 58.
18. Интересно сравнить такую практику добровольного выслушивания критики в свой адрес с подобными явлениями в жизни утопических общин. См., например, Noyes, J.H. Mutual criticism (M. Levine & B. B. Bunker, Eds.). Syracuse: Syracuse University Press, 1975.
19. Whitaker, C. A., & Malone, T. Op. cit., p. 66.
20. См., например, Whitaker, C., & Olsen, E. The staff team and the family square off. In G. Abroms & N. S. Greenfield (Eds.) The new hospital psychiaty. New York: Academic Press, 1971.
21. Витакер К. Семья в трех поколениях.
22. Whitaker, C. A. Out of Janet’s magic into limbo. Voices, 1973, 9, 50.
К части II
1. Whitaker, C. A., & Malone, T. The roots of psychotherapy. Philadelphia: Blakiston, 1953, p. 105.
2. Из устной беседы с Витакером.
3. Whitaker, C. A., & Malone, T. Op. cit., pp. 188—189.
4. Harper, R. A. Psychoanalisis and psychotherapy: 36 systems. Englewood Clifs, N.J.: Prentice-Hall, 1959, p. 103.
5. Читатель найдет обсуждение теории объектных отношений в книге: Guntrip, H. Psychoanalytic theory, therapy and the self. New York: Basic Books, 1979.
6. Подробнее о влиянии Ранка на Витакера написано в части I настоящего издания.
7. Этот и другие парадоксы подобного рода рассматриваются в книге Haley, J. Strategies in psychotherapy. New York: Grune & Stratton, 1963, pp. 179—191.
8. Детский психиатр, чьи работы оказали влияние на Витакера.
9. См. статью Витакера “Группа: встреча с моим сегодняшним Я”.
10. Jennifers, источник неизвестен.
11. Барбара Дж. Бетс. Устное сообщение. Барбара Бетс была одним из первых исследователей личности терапевта и создателем “А-В” типологии терапевтов.
12. Ruesh, J. Therapeutic communication. New York: Norton, 1961.
13. Мартин Гротьян (Martin Grotjahn), психоаналитик. Очевидно, устное сообщение.
14. Обратите внимание на то, что терапевт здесь — полноправный участник происходящего, не “участвующий наблюдатель” Салливана. Он не похож и на гештальт-терапевта, который направляет своего пациента.
15. Это еще один пример “расширенной” или “совместной” фантазии. См. статью Витакера “Приглашение в мир нереальных переживаний”.
16. Витакер имеет в виду Психиатрическую клинику Атланты и своих коллег Мелона, Воркентина и Филдера.
17. Все перечисленные терапевты в большей мере, чем Витакер, делают ударение на интепретации тем первичного процесса при работе с шизофрениками. См. Rosen, J. Direct Analysis. New York: Grune & Stratton, 1953.
18. Чарльз Кеттеринг, промышленник.
К части III
1. См. Eliade,M. Shamanism. New York: Bollinger Press, 1964.
2. Идеи Витакера о призвании психотерапевта находят подтверждение в исследовании биографий выдающихся терапевтов. См. Burton, A. Twelve therapists: How they live and actualize themselves. San Francisco: Jossey-Bass, 1972.
3. Whitaker, C. A. Comment: Live supervision in psychotherapy. Voices, 1976, 12, 26.
4. Ibid., pp. 24—25.
5. Whitaker, C. A., & Abroms, G. New approaches to residency training in psychiatry. In G. Farwell, N. Gamsky, & P. Mathieu-Coughlan (Eds.), The counselors handbook. New York: Intext-International, 1974.
6. Whitaker, C. A. Неопубликованная рукопись.
7. Ferber, A., Mendelsohn, M., & Napier, A. The book of family therapy. New York: Science House, 1973.
8. Карл Витакер. Неопубликованная рукопись.
9. Доктор Эйкерли возглавлял кафедру психиатрии в Луисвилле в то время, когда там учился Витакер.
10. Дрейкурс был учеником Альфреда Адлера. Смотри Dreikurs, R. Techniques and dynamics of multiple therapy. Psychiatric Quarterly, 1950, 24, 788—799.
11. Таким образом Витакер учил студентов-медиков в Эмори, когда возглавлял там кафедру психиатрии.
12. Эл Шефлен возглавлял группу исследователей в Темпльском Университете в Филадельфии, которые изучали невербальное общение в процессе терапии. Изучение работы Витакера и Мелона в 1956 году послужило основой книги: Scheflen, A. Communicational structure: Analysis of a psychotherapy transaction. Bloomington: Indiana University Press, 1973.
13. Терапевты дают модель взрослых взаимоотношений. См., например, Whitaker, C. A. & Warkentin, J. The therapist as prototype. В книге J. F. T. Bugental (Ed.), The challenges of humanistic psychology. New York: McGraw-Hill, 1967. Первоначальная идея принадлежит Альфреду Адлеру.
14. Speck, R., & Attneave, C. Family networks. New York: Pantheon Books, 1973.
15. См.: Ferber, A., Mendelsohn, M., & Napier, A. Op. cit., pp.496—498.
16. В других статьях Витакер говорит о том, что для ко-терапии достаточно взаимного уважения двух терапевтов.
17. Витакер много работал вместе с такими ко-терапевтами как Джон Воркентин, Огуст Непье (в Висконсине) и Дэвид Кейт (там же). Работа вместе с Витакером глазами ко-терапевта описана в книге Napier, A., & Whitaker, C. A. Family crucible. New York: Harper & Row, 1978. Изучение процесса ко-терапии с описанием конкретных случаев можно найти в статье: Whitaker, C. A., Warkentin, J. & Malone, T. The involvement of professional therapist. В книге A. Burton (Ed.), Case studies in counseling and psychotherapy. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1959, pp. 218—256.
18. Это отличает профессионального терапевта от социального терапевта. См. введение к части III.
19. Решение стать близким необратимо, нельзя быть “немножко беременной”.
20. “Битва за структуру” есть самая первая задача терапии. См. введение к части V.
21. То есть социальный терапевт или тот, кто организует структуру терапии.
22. То есть в этом случае терапевт становится пациентом.
23. Важен сам факт выражения своих чувств, а не объяснение, почему терапевт так себя чувствует. Очевидно, что пациент не должен стараться успокоить терапевта.
К части IV
1. В этом разделе книги мы соприкасаемся с мыслями Витакера о взаимосвязи жизни и безумия, сумасшествия и близости. Для Витакера разумный вежливый брак — вещь мертвая.
2. В этом описании можно обнаружить зародыш мысли, позднее развивавшейся Витакером: супруги в браке так выбирают друг друга, что у них оказывается одинаковая способность переносить тревогу близости.
3. Bierce, A. The devil’s dictionary. New York: Sagamore Press, 1957. (Первое издание в 1911).
4. Eisenstein, V. W. Neurotic Interaction in Marriage. New York: Basic Books, 1956.
5. Данное исследование представляет собой одну из первых попыток оценить эффективность терапии супругов. Методологически эта работа крайне несовершенна, но она вдохновила других на проведение более разработанных исследований.
6. Фокус на матери и невнимание к отцу — черта тогдашнего времени, пятидесятых-шестидесятых годов. Позже Витакер придет к убеждению, что поведение ребенка выражает патологию скорее всей семьи, чем просто матери.
7. Витакер, проводя параллель между ко-терапией и браком, мог бы добавить, что сила команды из двух терапевтов не сводится к сумме их способностей.
8. Эти замечания парадоксальны. Пара приходит к терапевту в момент нестабильности, то есть в тот момент, когда супруги находятся в состоянии более здоровом, чем в момент стабильного гомеостаза. И тогда задача терапевта — научить их переносить эту нестабильность, а отнюдь не снизить остроту их переживаний. “Помочь выйти из кризиса” — такова антитеза задачам психотерапии.
9. Витакер ясно показывает отличие своего подхода, основанного на личностном опыте, от подходов, направленных на улучшение общения. Витакер занимает место между супругами во время терапии и старается прервать или ограничить их непосредственное общение друг с другом.
10. В то время данное утверждение противоречило общепринятому мнению о том, что супружеская терапия разрешает только лишь межличностные проблемы.
11. Недавние исследования подтверждают эту гипотезу, выдвинутую на основе наблюдений. Гурман и Книскерн в своем обзоре современной исследовательской литературы о семейной терапии пишут, что индивидуальная терапия при супружеских проблемах менее успешна и чаще приводит к нежелательным последствиям, чем работа с обоими супругами. См. обзор: Gurman, A. S., & Kniskern D. P. Research on marital and family therapy: progress, perspective and prospect, в книге S. Garfield & A. Bergin (Eds.), Handbook of psychotherapy and behavioral change (2nd ed.). New York: Wiley, 1978.
К части V
1. Group for the Advancement of Psychiatry. Treatment of families in conflict. New York: Science House, 1970.
2. Whitaker, C. A., & Keith, D. V. Symbolic-experiential family therapy. In A. Gurman & D. Kniskern (Eds.), The Handbook of Family Therapy. New York: Brunner/Mazel, p. 200.
3. Рассказанная история может привести читателя в замешательство. И это типично для многих случаев из терапевтической практики, о которых рассказывает Витакер: они двусмысленны и в них есть что-то непонятное. Нам кажется, эта история, говорит о том, что терапевт должен верить в единое целое семьи, невзирая на то, что чувствуют ее члены. Витакер часто говорит: “Факты сильнее чувств”.
4. “Правила”, о которых говорит Витакер, касаются участия семьи в терапии: все эти кто, что, когда, как, задающие структуру терапии. Он не имеет в виду правила для жизни семьи вне терапии.
5. Убеждение Витакера, что семья способна перемениться к лучшему, если старые паттерны разрушены, прямо следует из его мыслей о биологическом стремлении личности к росту.
6. Это определение отражает переходный этап в развитии у Витакера представлений о семье. Сначала он обращал внимание главным образом на супружескую пару, а к настоящему времени считает, что семья — это три поколения.
7. Идея о том, что хаос в семье также может служить защитой, рассматривается гораздо меньше, чем вопрос о защитной ригидности. Тем не менее, предполагается, что здоровье семьи находится где-то посередине между этими двумя полюсами.
8. Как нередко напоминает нам Витакер, миссионеров в конце концов съедают дикари.
9. В своих поздних работах Витакер добавляет, что справляться с контрпереносом помогают консультации с ругим терапевтом и расширение числа участников терапевтической встречи.
10. См. отчет об этой работе в статье Whitaker, C. A. Ormsby Village: An experiment with forced psychotherapy in the rehabilitation of the delinquent adolescent. Psychiatry 1946, 9, 239—250.
11. Удивительно, что сегодня, через семнадцать лет после написания этой статьи, можно сказать то же самое.
12. Чаще всего неопытным терапевтам кажется, что в семье у каждого неимоверное количество индивидуальных проблем. И им трудно понять, как говорит Витакер, что это просто защита семьи от изменения.
13. Необходимо помнить утверждение Витакера о том, что семья, лишенная сексуальности, есть извращение.
14. Watzlawick, P., Beavin, J.H., & Jackson, D. The pragmatics of human communication. New York: Norton, 1967.
15. Стоит подчеркнуть, что для Витакера неудача или тупиковая ситуация в семейной терапии — показание к тому, чтобы в нее включить побольше людей. “Успех” позволяет уменьшить количество людей, которые приходят в кабинет терапевта.
16. Интуицию Витакера поддерживают исследования, подтверждающие особую роль отца в раннем прекращении терапии. Об этом можно прочитать статью Gurman, A. S.,& Kniskern D.P. Research on marital and family therapy: Progress, perspective and prospect. в книге S. Garfield & A. Bergin (Eds.), Handbook of psychotherapy and behavioral change (2nd ed.). New York: Wiley, 1978.
17. Терапевты и пациенты часто используют конспирацию для того, чтобы оградить себя от других членов семьи под тем предлогом, что другие не должны знать о каких-то тайнах, хотя на самом деле о них совершенно не обязательно рассказывать при встрече с расширенной семьей.
18. Kaiser, H. Effective psychotherapy. London: Free Press, 1965.
19. Витакер все время подчеркивает связь теории и техники. Терапевт, полагающийся на теорию, — это терапевт, полагающийся на технику.
К части VI
1. Ferber, A., Mendelsohn, M., & Napier, A. The book of family therapy. New York: Science House, 1972, pp. 483—484.
2. Ibid., pp. 491—492.
3. Ibid., p. 490.
4. Cм. статью Витакера “Непрекращающееся обучение профессионального терапевта”.
5. Там же.
6. Whitaker, C. A., & Malone, T. The Roots of Psychotherapy. New York: Blakiston, 1953, p. 56.
7. Cм. статью Витакера “Техника семейной терапии”.
8. Cм. статью Витакера “Моя философия психотерапии”.
9. Там же.
10. Там же.
СОДЕРЖАНИЕ
Ода войлочным тапочкам. Предисловие Е.Л. Михайловой...................... 5
Введение......................................................................................................................... 8
Предисловие Дж. Р. Нейла и Д. П. Книскерна..................................................... 12
Часть I. Биография. Введение в терапию Карла Витакера.......................... 14
Часть II. Психотерапия..........................................................................................
Моя философия психотерапии...................................................................................
Три типа безумия....................................................................................................... 51
Тупик............................................................................................................................ 53
Тупик в психотерапии............................................................................................... 60
Окончание терапии путем административного решения................................ 64
Использование агрессии в психотерапии............................................................ 67
Приглашение в мир нереальных переживаний.................................................. 85
Роль молчания в короткой терапии....................................................................... 89
Общение с пациентом без психотических нарушений
во время короткой психотерапии.......................................................................... 94
Техники первой стадии психотерапии,
основанной на личностном опыте,
при работе с хроническими шизофрениками.................................................. 104
Превербальные аспекты психотерапии шизофреников................................. 119
Индивидуальная и семейная терапия
в психотерапии шизофрении................................................................................ 125
Часть III. Подготовка и рост терапевта............................................. 131
Непрекращающееся обучение профессионального терапевта................... 136
Ко-терапия и ее разновидности............................................................................ 153
Движение к близости.............................................................................................. 165
Когда не стоит быть откровенным со своим пациентом................................ 167
Группа: встреча с моим сегодняшним “Я”....................................................... 169
Письмо: сауна и купание в снегу......................................................................... 174
Часть IV. Брак и терапия для пар............................................................. 176
Функции брака......................................................................................................... 179
Психотерапия взаимоотношений пары.............................................................. 188
Психотерапия супружеских пар.......................................................................... 194
Психотерапия супружеского конфликта............................................................ 200
Опасности “психотерапевтической помощи” в ситуации
угрожающего развода............................................................................................ 208
Часть V. Семейная терапия......................................................................... 220
Цели семейной терапии......................................................................................... 221
Техника семейной терапии.................................................................................... 225
Контрперенос в семейной терапии шизофрении............................................ 240
Отыгрывание в поведении в семейной терапии............................................... 260
Проблемный подросток: член семьи, исключенный
за неуспеваемость................................................................................................... 270
Политика власти в семейной терапии................................................................. 283
Символическая сексуальность в семейной терапии....................................... 289
Техники и процесс семейной терапии................................................................ 294
Семья в трех поколениях........................................................................................ 316
Теория — помеха в клинической работе........................................................... 329
Семейная терапия: символический подход, основанный
на личностном опыте.............................................................................................. 342
Часть VI. Коллекция.......................................................................................... 380
Заключение............................................................................................................... 392
Примечания.............................................................................................................. 394..
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПСИХИКИ
Терапевтическое путешествие Карла Витакера
Перевод с английского
М.И. Завалова
Редактор
А.Н. печерская
Ответственный за выпуск
И.В. Тепикина
Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев
Главный редактор и издатель серии
Л.М. Кроль
Научный консультант серии
Е.Л. Михайлова
Изд. лиц. № 061747
Гигиенический сертификат
№ 77.99.6.953.П.169.1.99. от 19.01.1999 г.
Подписано в печать 30.09.1999 г.
Формат 60Ѕ88/16
Усл. печ. л. 25. Уч.-изд. л. 20,9
ISBN 0-898562-050-3 (USA)
ISBN 5-86375-119-3 (РФ)
М.: Независимая фирма “Класс”, 1999
103062, Москва, ул. Покровка, д. 31, под. 6.
www.igisp.ru E-mail: igisp@igisp.ru
www.kroll.igisp.ru
Купи книгу “У КРОЛЯ”
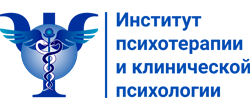

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству




 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
