Библиотека » Зависимости » Даулинга ред. Психология и лечение зависимого поведения
Автор книги: Даулинга
Книга: Даулинга ред. Психология и лечение зависимого поведения
Даулинга - Даулинга ред. Психология и лечение зависимого поведения читать книгу онлайн
ПСИХОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
Под редакцией Скотта Даулинга
Перевод с английского Р.Р. Муртазина
под редакцией А.Ф. Ускова
THE PSYCHOLOGYAND TREATMENT
OF ADDICTIVE BEHAVIOR
Edited by Scott Dowling
Москва
Независимая фирма “Класс”
2000
УДК 615.851
ББК 53.57
П 84
П 84 Психология и лечение зависимого поведения/Под ред. С. Даулинга/Пер. с англ. Р.Р. Муртазина. — М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. — 240 с. — (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 85).
ISBN 5-86375-028-6 (РФ)
Эта книга посвящена одной из самых “больных” тем — аддиктивному, или зависимому, поведению. Алкоголь и наркотики, деньги и власть, сексуальные партнеры, азартные игры и пища часто становятся непреодолимой силой, требующей от человека тотального повиновения. Авторы, американские психоаналитики, имеют дело с наркоманами, алкоголиками, людьми, страдающими другими видами зависимостей, и доказывают, что с аддиктивными пациентами можно работать даже в рамках психоанализа. Они предлагают интересные теории и иллюстрируют их примерами из клинической практики.
Книга будет интересна и полезна специалистам в области психотерапии зависимостей — независимо от теоретических предпочтений, — а также всем, кого волнует (и не может не волновать) эта проблема.
Главный редактор и издатель серии Л.М. Кроль
Научный консультант серии Е.Л. Михайлова
ISBN 0-8236-5562-8 (USA)
ISBN 5-86375-028-6 (РФ)
© 1995, The American Psychoanalytic Associacion
© 2000, Независимая фирма “Класс”, издание, оформление
© 2000, Р.Р. Муртазин, перевод на русский язык
© 2000, А.Ф. Усков, предисловие
© 2000, В.Э. Королев, обложка
www.kroll.igisp.ru
Купи книгу “У КРОЛЯ”
Исключительное право публикации на русском языке принадлежит издательству “Независимая фирма “Класс”. Выпуск произведения или его фрагментов без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.
неистребимая аддикция к жизни
Психоанализ — дисциплина, по преимуществу идеографическая и понимающая. Его прежде всего интересует судьба конкретного человека — пациента, — увиденная, услышанная и преобразованная субъективным и пристрастным участием другого — аналитика. Этим, кстати, объясняется и такое обилие разнообразных конкурирующе-дополняющих теорий в психоанализе. Однако психоанализ не чужд и номотетического, объясняющего, подхода, и такие термины, как невроз, тревога, пограничная личностная организация, нарциссическое расстройство и т.п., имеют более или менее общепринятые значения для всех психоаналитиков. Один из таких терминов, пусть и не самый распространенный, — аддиктивное поведение. Авторы приведенных ниже статей рассказывают о своем опыте психоаналитической работы с разнообразными аддиктами — от алкоголиков и наркоманов до сексуальных и даже любовных аддиктов — и пытаются психоаналитически осмыслить понятие аддикции. Насколько им это удалось, судить вам. Лично мне наиболее интересными показались работы Кристала и Ханзяна (в этом порядке). Но мне бы не хотелось анализировать всю книгу, я выскажу лишь некоторые соображения, возникшие во время ее прочтения.
В далекой юности я несколько лет работал с аддиктивными пациентами — в основном с алкоголиками; реже — с наркоманами и курильщиками. Лично у меня эти пациенты вызывали очень мало сочувствия: как можно поместить в центр своей жизни какое-то химическое вещество и считать его средоточием всех своих проблем? Наверное, мой контрперенос отражал отвержение и отсутствие сочувственного понимания, от которого страдали эти пациенты в детстве. Именно поэтому они могли идентифицироваться с такими частичными, неодушевленными объектами, как алкоголь или наркотики, и выбирать эти, скажу снова, частичные, неодушевленные объекты в качестве своих основных объектов.
Алкоголизм и наркомания, в отличие, скажем, от сексуальной аддикции (читай: промискуитета), являются не только психологическими, но и социальными проблемами. Их обычно воспринимают (и совершенно справедливо) как вызов обществу и во многих случаях готовы лечить принудительно. Принудительное лечение психоанализом — это абсурд, contraditio in adjectio. Напротив, добровольное прохождение психоанализа пациентами с аддиктивной симптоматикой — это частный случай психоанализа, который управляется, в первую очередь, общими закономерностями психоаналитического лечения, затем — закономерностями лечения психотических, пограничных, нарциссических, невротических и т.п. личностей и лишь в последнюю очередь — закономерностями лечения аддиктивной симптоматики.
Любовная, сексуальная аддикция, в основе которой лежат отношения с другим человеком, замешанные на самом живом, что у нас есть, — любви и сексе, — как мне кажется, все же отличается от наркомании и алкоголизма, основанных на отношениях с мертвым химическим веществом и замешанных на саморазрушении. Любовная, сексуальная — аддикция? По-моему, эти слова притянуты друг к другу за уши. Следующим термином в этом ряду должна стать аддикция к жизни*. Большинство из нас, увы, страдает этим в той или иной степени тяжести. Кстати, существует и аддикция к смерти**. В этой книге американские авторы почти не упоминают о ней. Еще бы, ведь это, по выражению “аннофрейдиста” Меерса, развитие “кляйнианских ересей”. Впрочем, один из авторов, Дэвид Херст, много ссылается на Мелани Кляйн. Он даже удачно применяет понятие “аутистический объект”, характеризуя объект аддикции. Это, однако, не мешает ему проявлять удивительную наивность в собственной клинической практике. Принудительно госпитализировав свою психоаналитическую пациентку и насильно удерживая ее в клинике так долго, как это возможно, он потом невинно изумляется: почему это она после выписки не хочет вернуться к нему в терапию?
Развивая тему аддикции в целом, я бы даже рискнул сказать, что алкоголизм и наркомания — это, прежде всего, социальные проблемы (так же как преступность и — в меньшей степени — безумие). Поэтому существуют специальные институты насильственной “нормализации” таких людей и защиты общества от них. Однако наркомания и алкоголизм — это и социальная язва, и стихийный социальный протест против омертвляющей, скучной жизни, и диагноз нашему обществу. Психоаналитически мы можем помочь в основном “богатым и здоровым”. “Бедным и больным” уготован иной удел. Но вспомним, что во времена Фрейда психоанализ был привилегией немногих. Теперь в развитых странах он доступен большинству людей (кое-где, например в Германии, — практически всем). Другой вопрос, пользуются ли они им. Может быть, со временем большинство аддиктов также смогут выбирать, проходить им психоанализ или нет. Впрочем, сначала психоанализ должен стать “лечением выбора” хотя бы для большинства невротиков. Во всяком случае, тонкие и глубокие идеи многих авторов книги (особенно, повторю, Кристала и Ханзяна) в сочетании с понимающим, чутким отношением к пациентам, позволяют надеяться на продвижение в этой области.
Хотелось бы особо остановиться на статье Анны Орнштейн. Она вызвала у меня много вопросов. Доктор Орнштейн рассказывает об эротическом аддиктивном поведении своей пациентки как о проявлении ее психопатологии. Однако реальность отношений пациентки с отстраненным, эмоционально индифферентным и “приземленным” мужем в, по-видимому, несчастливом браке при отсутствии у нее сексуального и эмоционального удовлетворения, является гораздо менее привлекательной и выносимой, чем ее эротические эскапады. В процессе анализа, как пишет доктор Орнштейн, пациентка отказывается от своих романтических адюльтеров, но непонятно, что же она получает взамен? Только реальность жизни со скучным мужем? Но стоило ли тогда лечиться? Или муж не такой уж скучный — просто пациентка раньше обесценивала его? Может быть, она решила уйти от него и завести нового мужчину? Может быть, наконец, — и это кажется наиболее вероятным — сама доктор Орнштейн стала этим привлекательным новым объектом, отношения с которым носят скрытый, но напряженный эротический характер и являются бегством от реальности?
Хочу добавить еще несколько слов по поводу объединения таких разных проблем под общим ярлыком аддиктивного поведения. Возможно, это правомерно с точки зрения концепции болезни. Но с психоаналитической, даже просто с психологической точки зрения героиновая наркомания подростка, алкоголизм мужчины среднего возраста и “сексуальная аддикция” (читай: частые внебрачные связи) женщины, несчастливой в браке, — это разные вещи. А если еще вспомнить пристрастие к азартным играм, к просмотру телевизора... Если рассуждать дальше: страстная увлеченность чем-то, сильная зависимость от чего-то — это аддикция? Аддикция — это страсти, влечения, а, значит, и жизнь. Человек, свободный от аддикции, — это человек мертвый, вялый, у которого “вместо души пар”. Это человек, свободный от привязанностей. Это, по словам Розанова, человек добродетельный, потому что мало хотелось. Об этом жизненном, исходящем от влечения к жизни аспекте аддикции говорят мало — больше о мертвящем и разрушительном. Но идеал психически и физически здорового, полнокровно живущего человека далек от нарциссичного и аутичного вялого индивида, который ни от кого и ни от чего не зависит, ни к кому и ни к чему по-настоящему не привязан, никем и ничем не увлекается. Трудоголик Королев — аддикт? А алкоголик и наркоман Высоцкий? А патологический игрок Достоевский? А “сексуальный аддикт” — плейбой Бродский? Аддикция — это не всегда признак патологической слабости, это и проявление фонтанирующей жизненной силы. Очевидно, это компромиссное образование того и другого, как и многое в психике и — шире — в жизни.
От всей этой сферы лечения аддикций веет какой-то несвободой, насилием. В конце концов, это право человека — жить и умереть, как он хочет. Но он может относительно “свободно” умереть от рака или инсульта (впрочем, в Америке уже, кажется, нет и этой свободы), но должен подвергнуться принудительному лечению при наркомании или алкоголизме. Жизнь в “новом бравом мире”, который складывается свободно и стихийно (как бы мы ни пытались вместе с доктором Меерсом параноидно обвинять в этом “гуру”, “рекламу”, “масс медиа”, “фармацевтические компании”),— такая свободная и стихийная жизнь гораздо больше похожа на жизнь, чем любые попытки построения идеального общества всеобщего благоденствия, которые заканчиваются пытками, казнями, концлагерями, всеобщими нехватками и дефицитом, в том числе психологическим (дефицитом психологии как науки и дефицитом психических структур). Попытки отделить “хорошую” голову от “плохой” задницы приводят к тому, что мы все начинаем жить в этой заднице, пока, наконец, наша голова не возвращается к нам пониманием этого печального факта. То, что она все же возвращается, внушает мне оптимизм. Слава Богу, аддикция к жизни неистребима и психоаналитическому (как и любому другому) лечению не поддается.
Александр Усков
Введение
Название этой книги и двух конференций, на материалах которых она создавалась, вызвали удивление как внутри психоаналитического сообщества, так и вне его. Природа аддиктивного поведения и его лечение — для психоаналитического исследования объекты далеко не обычные. На протяжении последних лет лишь редкие аналитики проявляли постоянный интерес к этой области, и до недавнего времени психоаналитическое сообщество не предпринимало единых попыток исследовать психологию и методы лечения аддиктивного поведения. В базе данных психоаналитической периодики JourLook можно найти только 21 ссылку на термины “аддикция” или “аддиктивное поведение”. Однако сегодня группа психоаналитически ориентированных исследователей и терапевтов объединила усилия, чтобы вновь пересмотреть наши знания и подходы к лечению аддиктивных расстройств. Были исследованы развитие и модуляция аффектов, самооценки, межличностных отношений, а также нарушения функции заботы о себе в ситуации аддиктивного поведения. Значимость полученных результатов не ограничивается одной лишь сферой теоретического понимания и лечения аддикции; эти результаты вполне применимы и для работы с другими нарушениями в развитии и проявлении Эго. Недавние исследования расширили наше понимание этой группы феноменов и создали модель участия психоанализа в разнообразных лечебных программах. Нам посчастливилось представить в этой книге несколько таких работ известных современных исследователей и теоретиков.
В книге исследуется психология аддиктивного поведения — как в случае химической зависимости, так и при других формах поведения, характеризующихся компульсивностью и непреодолимостью влечения. Включенные в нее работы представляют собой весомый вклад психоаналитиков в понимание внутренних психологических процессов и психических событий, происходящих с аддиктивной личностью; в то же время здесь признается и обсуждается, хотя и в гораздо меньшей степени, вклад в эту работу других психологических течений.
Авторы этой книги использовали термин психоанализ для обозначения специфической формы психологического исследования, при которой основная часть знаний собиралась посредством психоаналитического исследования, а также для обозначения основанного на этих исследованиях метода психоаналитического лечения. При этом психоаналитическое лечение вовсе не претендует на то, чтобы считаться лучшим выбором, когда речь идет о работе с химической зависимостью. Суть в том, что мы считаем психоанализ базовой наукой, исследующей психологию человека. Он является источником информации о психической деятельности, недоступной при ином методе исследования. Внимание психоаналитика обращено к мотивам, аффектам, формам самообмана и саморегуляции; его также интересует формирование человеческих отношений и их характеристики, проблемы совести и самооценки, поскольку все они проявляются во взаимоотношениях с окружающими, в работе, игре и других формах человеческого поведения. Психоаналитическая психология является эволюционной, эпигенетической и трансформационной в том плане, что она придает особое значение основополагающей, психологической преемственности человека с младенческих лет до старости, которая выражается через постоянные психологические трансформации. При этом психоаналитическая точка зрения особо подчеркивает тот факт, что хотя психологические проблемы и стиль их решения на протяжении всей жизни человека характеризуются преемственностью, их форма в детстве и в последующие годы может претерпевать значительные перемены.
В первой части предлагается собранная шестью авторами информация — описания клинических случаев и теоретические заключения, полученные в результате повседневной психоаналитической работы с аддиктивными пациентами. Подходы авторов во многом различаются; это проявляется и в том, какие они приводят случаи из своей практики, и в том, как они понимают болезнь своих пациентов, и в проводимом лечении. О сходстве и различии данных подходов пойдет речь во второй части — еще четыре автора представят свой интегративный взгляд на обсуждаемую проблему. В этом и заключалась одна из наших целей — устроить дискуссию между людьми принципиально разных взглядов, для того чтобы взглянуть на поставленный вопрос с разных сторон и попытаться найти решение проблемы, разрушающей людей, страдающих аддиктивными расстройствами, — а также их семьи и все общество.
Скотт Даулинг,
доктор медицины
Часть I
случаи
из Клинической
практики
1. Психоаналитические
исследования аддиктивного
поведения: обзор
Эдит Сэбшин
Понятие аддиктивное поведение охватывает различные типы поведения: сюда входят наркотическая зависимость и алкоголизм, курение, пристрастие к азартным играм и обильной еде, а также гиперсексуальность. Все эти типы поведения питает мощная сила подсознания, и это придает им такие качества, как непреодолимость влечения, требовательность, ненасытность и импульсивная безусловность выполнения. Аддиктивное поведение характеризуется широким спектром патологии различной степени тяжести — от поведения, граничащего с нормальным, до тяжелой психологической и биологической зависимости. Существовавший поначалу эпизодический интерес психоаналитиков к этой области расстройств отражен в редких комментариях, сделанных основателями психоанализа. В то время казалось, что психопатология такой глубины требует столь сложного лечения, что выходит за пределы возможностей классического психоанализа.
За прошедшие двадцать лет психоаналитическое учение обогатилось значительным количеством данных и новых взглядов на природу возникновения и методы лечения зависимостей. Интерес к этой теме вспыхнул неслучайно: наркотики, способные вызвать тяжелую зависимость (например, крэк), с каждым годом становились все доступнее, и, как следствие, учащались случаи аддиктивных расстройств. Особое внимание общества привлекло распространение аддиктивного поведения среди подростков. Психоаналитическая теория показала себя открытой для новых взглядов в этой области: многочисленные исследования привели к новому пониманию проблемы, а также к разработке более эффективных терапевтических процедур.
Оценивая пациентов с тяжелыми формами аддиктивного поведения, мы задаем себе вопрос: до какой степени это поведение усложняет их способность переносить аналитический процесс? Будут ли грубые аддиктивные нарушения препятствовать развитию трансферентного невроза до такой степени, что проведение психоанализа или психоаналитической терапии станет невозможным? Менее серьезные формы аддиктивного поведения, часто обозначаемые как нерегулярные (casual) и “увеселительные” (recreational), встречаются гораздо чаще и обычно не учитываются нами при оценке пригодности лечения методами психоанализа или психоаналитической терапии. Остается неясным, усложняет ли нерегулярное использование наркотиков психоаналитическое лечение и — прежде всего — будет ли оно препятствовать развитию трансферентного невроза.
Развитие теории аддиктивного поведения и подходов к его лечению отражает всю историю психоаналитического мышления. Положения, используемые психоанализом при обсуждении аддиктивного поведения, параллельны генеральным линиям эволюции и развития психоаналитической теории и ее клинического применения. В современной психодинамической психотерапии представлены три основных направления психоаналитической теории: эго-психология, берущая свое начало из классической психоаналитической теории Фрейда и последующих работ таких авторов, как Гартманн и Якобсон; теория объектных отношений, возникшая из работ представителей Британской школы — Фэйрбейрна, Винникотта, Балинта и др.; наконец, Я-психология, принципы которой сформулировал и разработал Хайнц Кохут, исследуя нарциссические расстройства личности.
Эго-психология представляет интрапсихический мир как мир конфликтов. Как и остальные аналитические теории, эго-психология уделяет особое внимание вопросам развития. Ранняя теория Фрейда, связанная с либидинальными зонами и фазами — оральной, анальной и генитальной, — впоследствии была усовершенствована и доработана в эго-психологии. В некоторые работах, которые будут мною упомянуты, используются ранние концепции либидинальных зон и фаз с некоторым акцентом на оральной стадии. В соответствии с эго-психологией, влечения — либидинальные и агрессивные — первичны, объектные отношения возникают как вторичные. Иными словами, основной задачей, которой подчинен младенец, является разрядка напряжения, возникающего под давлением влечений. Напротив, теория объектных отношений утверждает, что влечения появляются в контексте отношений внутри диады “ребенок-мать” и, таким образом, не могут быть отделены от этих отношений. Британская школа теории объектных отношений утверждает, что для полного психоаналитического понимания личности необходимы и теория дефицита, и теория конфликта. Так, Винникотт и Балинт полагали, что развитию малыша вредит неудача или неспособность матери удовлетворить его базовые потребности. Точка зрения теории объектных отношений оказалась важна для многих исследований аддиктивного поведения, некоторые из них представлены в этой книге.
Основные положения теории объектных отношений, обозначившиеся в результате клинической работы, были подтверждены и усовершенствованы в исследованиях Маргарет Малер и ее сотрудников, изучавших поведение младенцев. Наблюдая нормальные и аномальные пары “мать-младенец”, Малер смогла установить фазы развития объектных отношений. Эти эмпирические исследования способствовали пониманию патогенеза развития пограничных состояний, при которых психологический дефицит становится причиной определенной модели поведения; в эту группу входят и некоторые пациенты с аддиктивными формами поведения.
В Я-психологии, разработанной Кохутом, пациент рассматривается как человек, нуждающийся в определенных реакциях со стороны других людей для поддержания самоуважения и целостности Я. Кохут изучал пациентов с нарциссическими личностными расстройствами. Эти пациенты жаловались на трудно поддающееся описанию чувство пустоты, депрессию и неудовлетворенность своими взаимоотношениями с окружающими. Их самооценка была крайне уязвимой к любым проявлениям неуважения. Будучи детьми, эти пациенты страдали от неспособности их родителей выполнять свои родительские функции, в частности поддерживать потребность детей в идеализации своих родителей. И будучи детьми, и в зрелом возрасте они испытывали трудности в поддержании чувства целостности и самоуважения. Упор на родительские неудачи в попытке поддержать самоуважение ребенка характерен для более поздних работ по аддиктивному поведению, в частности для работы д-ра Ханзяна (Khantzian: 1972, 1974, 1975, 1978, 1985ab, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990; Khantzian and Mack: 1983, 1989, 1994; Khantzian and Treece: 1985; Khantzian, Halliday and McAuliffe, 1990).
Во многих ранних статьях алкогольная и наркотическая зависимости рассматриваются не по отдельности, а “заодно”. Я же начну с алкоголизма, а затем обращусь к наркотической зависимости. Нередко психоаналитически ориентированные терапевты отказываются от всяких попыток лечить алкоголиков и наркоманов из-за фрустрации, возникающей в процессе лечения. Процесс лечения характеризуется частыми рецидивами, и интерпретация бессознательной мотивации сама по себе оказывает крайне слабое воздействие на поведение алкоголика. По одной из теорий, алкоголики — это гедонистические индивидуумы, интересующиеся только погоней за удовольствием и не обращающие внимания на чувства окружающих людей. Эта теория, вероятно, основана на церковном догмате или моральном убеждении в том, что алкоголизм — это греховная слабость воли. Из этого следует, что бороться с алкоголизмом надо правовым воздействием, а лечение алкоголизма сводится к преодолению собственной слабости или “вытягиванию пациента из бездны греха”.
Ошеломляющий успех Общества Анонимных Алкоголиков (ОАА) подтверждает иную распространенную точку зрения: алкоголизм — это болезнь. Больной диабетом не несет ответственности за свою болезнь, но всецело ответственен за заботу о себе самом. Алкоголик не несет ответственности за свой алкоголизм, но полностью отвечает за свои действия. В рамках этой модели алкоголики обладают врожденной предрасположенностью к алкоголизму; психологические факторы играют здесь небольшую роль. Такой взгляд на алкоголизм как на болезнь, возникший, вероятно, как реакция на давление моралистов и негуманное, “отечески-принудительное” лечение алкоголиков, в последнее время подтверждается результатами генетических исследований. Говоря об ОАА, важно понимать следующее: хотя Анонимные Алкоголики считают алкоголизм болезнью, их методы на самом деле соответствуют реальным психологическим потребностям членов общества и способствуют личностным изменениям. Воздержание достигается в контексте заботливого и внимательного отношения к больному со стороны собратьев по несчастью. Опыт отношений члена группы ОАА с заботящимися о нем фигурами может быть интернализован; подобным же образом забота о себе, самоконтроль и самоуважение могут быть интернализованы пациентом при общении с психотерапевтом. Это один из способов, которым терапевт может помочь алкоголику управлять своими аффектами и контролировать свою импульсивность. Психодинамический подход фокусирует или расширяет терапевтический процесс, облегчая пациенту понимание и концептуализацию изменений, вызванных методом Общества Анонимных Алкоголиков.
Большинство экспертов по алкоголизму согласились бы с тем, что алкоголизм представляет собой гетерогенное расстройство с мультифакторной этиологией. То, что помогает одному пациенту, может не подойти другому, и поэтому любой метод лечения является предметом непрекращающихся дискуссий. Не существует жесткой программы лечения; всех пациентов следует рассматривать индивидуально. К несчастью, модель “алкоголизм — болезнь” привела к некоторой депсихологизации алкоголизма. Те, кто подчеркивает важность психологических факторов, отмечают, что алкоголиков характеризуют не только сложности управления аффектами и контроля своих импульсов; у них нарушены и другие функции Эго, например, способность поддерживать самооценку и заботиться о себе. Алкоголизм далеко не так прост. Не существует единого типажа “алкоголика — человека, предрасположенного к алкоголизму”. Игнорирование личностных различий и индивидуальных психологических проблем затрудняет попытки понять, какие факторы становятся причиной рецидивов, возникающих в течение болезни.
Алкогольная зависимость, как и прочие аддикции, возникает у конкретного человека, у личности. Алкоголизм или иные зависимости могут развиться как результат длительных невротических конфликтов, структурного дефицита, генетической предрасположенности, семейных и культурных условий, а также влияния окружения. Как психоаналитики, мы более компетентны в описании невротических конфликтов и структурного дефицита.
Зависимость от уличных наркотиков (street drugs) также может быть результатом обычного развития комплексных взаимодействий между невротическими конфликтами, структурного дефицита и других условий. В значительной части литературы, посвященной соответствующим исследованиям, отмечается взаимосвязь личностных расстройств и депрессии с наркотической зависимостью. В этих работах также высказывается предположение, что, если возникновение пристрастия к марихуане может быть связано с давлением сверстников в подростковом возрасте, то возникновение тяжелой зависимости от сильных наркотиков происходит по другому сценарию.
Выдвинутое ранними исследователями-психоаналитиками предположение о том, что все случаи злоупотребления химическими веществами представляют собой регрессию на оральную стадию психосексуального развития, уступило место иной концепции, согласно которой большинство таких случаев имеют защитную и адаптивную функции. Использование химических веществ может временно (я подчеркиваю: временно) изменить регрессивные состояния, усиливая защиты Эго, направленные против мощных аффектов, таких как гнев, стыд и депрессия. В ранних психоаналитических положениях наркоманы часто представлялись гедонистическими искателями удовольствий, склонными к саморазрушению. Сегодня многие психоаналитики считают, что главным в аддиктивном поведении является не импульс к саморазрушению, а дефицит адекватной интернализации родительских фигур и, как следствие, нарушение способности к самозащите. По этой же причине наркоманы страдают от нарушения других функций: у них снижена способность рассуждать, нарушены саморегуляция аффективной сферы, контроль над импульсами; они не способны поддерживать высокую самооценку. Все эти проявления недостаточности создают соответствующие проблемы в объектных отношениях, подтверждением чему является неспособность многих аддиктов поддерживать близкие межличностные отношения и регулировать их. Дополнительные проблемы во взаимоотношениях с людьми создают нарциссическая уязвимость в межличностных отношениях, а также неспособность модулировать аффекты, связанные с близостью. Зависимость от наркотиков, таким образом, можно рассматривать как адаптивное поведение, направленное на то, чтобы облегчить боль, вызванную аффектами, и на некоторое время повысить способность владеть собой и функционировать. Аддиктивное поведение представляет собой отчаянную попытку вылечить себя столь небезопасным “лекарством”.
Блатт, Берман, Блум-Фешбек, Шугарман, Уилбер и Клебер (Blatt, Berman, Bloom-Feshback, Sugarman, Wilber, Kleber; 1984) провели углубленное исследование наркотической зависимости и обнаружили, что она определяется рядом факторов: (1) потребностью в контейнировании агрессии; (2) страстным желанием удовлетворить стремление к симбиотическим отношениям с материнской фигурой; (3) желанием ослабить депрессивное состояние. Аддикты ведут непрестанную борьбу с чувством стыда и вины, ощущением своей никчемности и с повышенной самокритичностью. В работах Вёрмсера (Wurmser; 1974, 1987a) подчеркивается, что Супер-Эго становится для аддиктивной личности невыносимым, суровым мучителем, от которого они спасаются бегством в мир наркотиков. Поэтому карающее Супер-Эго аддикта должно привлекать наше внимание не меньше, чем Супер-Эго тяжелых невротических пациентов.
Многие, хотя и не все, клиницисты полагают, что воздержание от химических веществ является необходимым условием, предшествующим психоаналитической психотерапии. Вскоре и пациент, и терапевт начинают понимать, что воздержание само по себе не приводит к автоматическому изменению всех сторон жизни. Для этого необходимо обратиться к лежащим в основе проблемы трудностям модуляции аффекта, регулирования самооценки и выстраивания отношений с другими людьми. Нередко терапевту приходится столкнуться с алекситимией (Krystal; 1982b, 1982—1983). Многие аддиктивные пациенты не способны распознавать и идентифицировать переживаемые ими внутренние чувства; во время сеанса психотерапии терапевт должен помочь таким людям идентифицировать эти чувства.
Каждое новое открытие в психоаналитической теории, обычно берущее начало в изучении неврозов (реже — психозов), помогало развитию теории аддиктивного поведения. До 1926 г., когда появилась первая статья Радо (Rado, 1926) “Психические эффекты интоксикации, или Попытка развить психоаналитическую теорию патологических желаний”, в литературе можно было найти описание специфических, отдельных аспектов и форм аддикции, таких как алкоголизм, алкогольный галлюциноз, состояние делирия или кокаиновая зависимость. Теоретические статьи сосредоточивали свое внимание на либидинальных элементах, в основном орально-эротических. Клинические статьи часто отмечали и иные аспекты проблемы, особенно садизм и мазохизм, однако основное значение, как и во всей аналитической теории вообще, придавалось именно либидинальным элементам. В своих “Трех очерках по теории сексуальности” Фрейд (Freud; 1905) установил, что мальчики, у которых в детском возрасте обнаруживался и потом сохранялся конституциональный эротизм губ, во взрослом возрасте проявляли ярко выраженное желание пить и курить. В 1908 г. Абрахам (Abraham, 1908) представил детальный отчет о психологической связи сексуальности и алкоголизма. Алкоголизм разрушает способность к сублимации. В результате появляются ранее вытесненные или защищенные проявления детской сексуальности, такие как эксгибиционизм, садизм, мазохизм, инцест и гомосексуализм. Абрахам предположил, что употребление спиртного есть сексуальная активность алкоголика. В конечном счете, алкоголизм приводит к половой импотенции, на основе которой возникают иллюзии ревности. Абрахам сделал вывод, что сексуальность, алкоголизм и невроз взаимосвязаны, и для лучшего понимания взаимосвязи следует изучать индивидуальные факторы.
Анализируя случай паранойи (случай Шребера), Фрейд (Freud; 1911) объясняет алкогольные галлюцинации ревности бессознательной гомосексуальностью. В 1916 г. в своей статье “Метапсихологическое дополнение к теории сновидений” Фрейд рассматривал галлюцинации и алкогольный бред как реакцию на чувство невыносимой потери, вызванное отказом от спиртного. После приема алкоголя галлюцинации прекращались. Бранящиеся голоса и галлюцинации Фрейд приписывал Эго-идеалу. Бриль (Brill, 1922) полагал, что либидинальные элементы этиологически присутствуют в пристрастии к табаку. Он считал его выражением аутоэротической активности и проявлением эксгибиционизма.
В 1925 г. в психоаналитическом журнале (The International Journal of Psycho-Analysis) впервые появилась статья о действии морфия. Леви описал трех пациентов, страдающих тяжелым органическим заболеванием, которым кололи морфий, и рассмотрел результаты его воздействия. А в 1926 г. Радо, которого часто цитируют современные исследователи, опубликовал свою работу “Психические эффекты интоксикации, или Попытка развить психоаналитическую теорию патологических желаний”.
Радо начинает с базовой концепции боли, успокоения, снотворного и стимулирующего воздействия наркотических веществ. Он описывает состояние эйфории, в том числе эйфорические ощущения при приеме морфия. Радо ссылается на дискуссию Абрахама об эротической природе морфиевой эйфории и сам оценивает фармакогенный оргазм, отличающийся от оргазма полового, как одну из целей употребления наркотиков. Он отмечает, что эйфория ведет к потере чувства реальности, уходу от нее и появлению примитивной либидинальной организации. Подобная ситуация считалась конечной стадией аддикции, во многом напоминая конечные стадии шизофрении, как их рассматривали в то время. Появление примитивной либидинальной организации характеризуется наличием агрессивных инстинктов, направленных как внутрь, так и наружу. В своей следующей работе, “Психоанализ фармакотимии”, вышедшей в 1933 г., Радо вводит понятие психотимия (psychothymis) и обозначает им болезнь, характеризующуюся сильной тягой к химическим веществам. Он отмечает, что алкогольная и морфиевая зависимости объясняются нарушениями функции либидо, о чем говорили Фрейд и Абрахам. Радо боролся за цельную концепцию аддиктивного поведения в рамках модели “одной болезни”. Он повторяет высказанную им же в 1926 г. точку зрения, что химические вещества, во-первых, облегчают и предотвращают боль и, во-вторых, вызывают чувство наслаждения. Удовольствие достигается дорогой ценой страдания, самоповреждения и саморазрушения. Радо отстаивает идею напряженной депрессии, которой он не дает ясного определения, говоря, что некоторые люди отвечают на фрустрацию напряженной депрессией и нетерпимостью к боли. Химические вещества могут вызывать бурную радость, но это ощущение временное, которое становится лишь частью цикла разрушения. В этом цикле режим фармакотимии становится реалистическим. Жизнь оказывается обедненной, и удовольствие от половых отношений замещается аффектом удовольствия, имеющим фармакогенную природу. В объектах любви больше нет никакой необходимости, и аддикт чувствует неуязвимость, поскольку с ним (или с ней) больше ничего не может случиться. Но затем режим коллапсирует и аддикт вступает в фармакотимический кризис. Из этого кризиса есть три пути: суицид, при котором пациент считает, что его радость будет вечной; бегство во временную ремиссию; наконец, пациент может войти в состояние психоза. Затем Радо обсуждает, как могут возникать мазохистические галлюцинации самоповреждения, такие как галлюцинации кастрации или гомосексуального контакта.
Следующая статья, которую я собираюсь рассмотреть, написана в 1927 г. Эрнстом Зиммелем (Ernst Simmel, 1927). В этой статье под названием “Психоаналитическое лечение в санатории” содержатся великолепное описание milieu-терапии и разъяснения того, как переносы действуют в больничных условиях. Аналитик провел специальный инструктаж всего штата врачей и сиделок санатория, чтобы гарантировать аналитическую ориентацию подходов к пациентам. Перечислю основные положения этой работы. Окружающая пациентов актуальная реальность может быть изменена для поддержки терапевтического процесса. Психическую реальность можно сдерживать в фазе сопротивления или расширять в других фазах. Попытки пациентов в одиночку выдерживать длительную борьбу со своей зависимостью, соблюдая полное воздержание, приносят мало пользы. Такое лечение может быть даже опасным, особенно при наличии наклонностей к самобичеванию, суициду или тенденции к садистическому удовлетворению. Больных кормили как обычно, два или три раза в день. В санатории пациентам позволялось убивать, пожирать и кастрировать изображения персонала. Им также позволялось обрывать ветви деревьев, прощалась любая деструктивная деятельность. Когда пациент был полностью лишен возможности принимать химические вещества, ему разрешали оставаться в постели столько, сколько он пожелает; при этом к нему приставлялась индивидуальная сестра-сиделка, которая ободряла пациента и следила за его состоянием. Таким образом, вместо того чтобы, сознательно отказавшись от объекта зависимости, переносить тяжелые мучения, пациент удовлетворял свое самое глубинное страстное желание, а именно — желание быть ребенком, лежать в колыбели, иметь ласковую маму, заботящуюся о нем и питающую его, — маму, которая всегда будет рядом и не покинет его в тяжелую минуту. Выход из этой фазы лечения рассматривался как период отнятия от груди; затем пациент возвращался к регулярному анализу. Лечение воздержанием могло быть использовано лишь после того, как пациент избавлялся от невроза повреждения (crippling neurosis), способного привести к суициду. Зиммель говорил, что аддиктивные больные, чье расстройство коренилось в неврозе, показывали хорошие результаты в процессе аналитического лечения, а у психотических пациентов наблюдались определенные улучшения.
Гловер (Glover; 1931) в статье “Предотвращение и лечение химической зависимости” установил, что непсихологическое лечение не приносит пользы, поскольку значимость химических веществ, вызывающих у пациента зависимость, обусловлена психологически. Пациент может отказывать себе в их употреблении, что называется, “до последней капли”. Но здесь начинается самое трудное, ибо последняя капля является неким символом. Гловер не был удовлетворен своими ранними попытками лечения химических зависимостей; он пришел к выводу, что необходимо глубже изучать оральный эротизм пациента и стараться больше узнать о первых двух годах его жизни.
В своем “Очерке клинического психоанализа” Фенихель (Fenichel; 1931) предположил, что химическая зависимость направлена как против болезненных внешних стимулов, так и против стимулов внутренних. Если внешние стимулы можно изменить простым изменением социальных условий, то не требуется никакой специальной терапии. Отмечу, что в то время предположение аналитика о наличии терапевтической пользы от социальных изменений в окружении пациента прозвучало весьма необычно. Фенихель также считал, что терапия будет менее успешной при наличии заметных догенитальных нарциссических отклонений. Чем меньше времени прошло с момента возникновения зависимости, тем больше шансов на успех лечения. Предварительное лечение помогает пациенту осознать, что он болен. Не следует ожидать от пациента абсолютного воздержания в начале лечения.
В своем сообщении о “Динамике и лечении хронической алкогольной зависимости” Найт (Knight; 1937) попытался найти специфическую этиологию в употреблении алкоголя. И хотя автор не пренебрегал интрапсихическими факторами, он подчеркнул роль истинной родительской заботы и описал типичную родительскую констелляцию (parential constellation), которая, по его мнению, приводит к хроническому алкоголизму у мужчин. Найт подразделял алкоголиков на две группы с различным прогнозом. У “собственно алкоголиков” преобладают черты орального характера — пассивность, острая потребность (demandingness), ярко выраженная зависимость. Все эти характеристики вполне подходят большинству людей, страдающих химической зависимостью. Найт подчеркнул наличие теплоты в желудке, которую чувствуют принадлежащие к этой группе алкоголики, а также эротизации ими еды и приема медикаментов. У второго типа — регрессивных алкоголиков — отличительными чертами были упорство и склонность к доминированию, происходящие от анальной стадии. Оральные черты у них менее выявлены, и провоцирующие факторы играют большую роль в изменении условий. Эти индивидуумы компульсивны, и их прогноз не отличается от прогноза других компульсивных невротиков, в то время как “собственно алкоголизм” является заболеванием гораздо более тяжелым и с худшим прогнозом.
Следует упомянуть еще две замечательные статьи. Одна из них — “Психоаналитическое исследование аддикции: структура Эго и наркотическая зависимость” Роберта Сэвитта (Robert Savitt, 1963). Сэвитт классифицирует наркотическую зависимость как злокачественное переходное состояние между психоневрозом и психозом. Он рассматривает наркотическую зависимость как симптомокомплекс, а не как отдельную болезнь. Этот симптомокомплекс может быть частью самых разнообразных психических расстройств. Характерной особенностью всех аддиктивных процессов является импульсивность. Сэвитт повторяет вывод Фенихеля о том, что аддикты действуют так, как если бы любое напряжение грозило им тяжелой травмой. Поэтому их основной целью становится избегание напряжения и боли, а не достижение удовольствия. Любое напряжение воспринимается как предвестник явной угрозы существованию, так же как младенцем воспринимается чувство голода. Сэвитт утверждал, что существующий взгляд на проблему придает чрезмерное значение простому поиску удовольствия, стремлению испытать восторг, подъем или эйфорию, в то время как отчаянная потребность спастись от невыносимого для аддиктивной личности напряжения не была выявлена в полной мере. Эйфория часто длится недолго; сонливость или ступор следуют вскоре после того, как у наркомана пробуждается страстное желание принять наркотики. Жизнь наркомана проходит в чередовании удовлетворения “наркотического голода” и наркотического ступора, как в жизни младенца чередуется чувство голода и сон. Пока напряжение не будет полностью снято, аддикт остается в ситуации, напоминающей недифференцированное состояние новорожденного, когда тот, еще не способный связывать напряжение, оказывается переполненным стимулами, от которых у него пока нет адекватного механизма защиты.
Сэвитт предлагает изящное описание четырех пациентов, которые проходили психоаналитическое лечение; один из них был способен развить классический трансферентный невроз. В начале лечения мы не знаем, насколько психотерапевтический процесс будет стимулировать созревание архаического Эго аддикта. Сэвитт делает упор на архаические объектные отношения, непереносимое напряжение и депрессию. Он предлагает исследовать следующие вопросы: почему у других людей, имеющих такое же чувство “голода”, не развивается наркотическая зависимость? Почему для того, чтобы справиться с напряжением, одни прибегают к помощи алкоголя или барбитуратов, другие — к еде, а у третьих развивается гиперсексуальность? Существует ли дополнительный фактор, определяющий форму зависимости, и можно ли его распознать? Создается впечатление, что, как и для многих других синдромов, здесь также решающее значение имеют отношения в диаде “мать — ребенок”. У каждого человека присутствует ядро аддиктивных процессов, которое проявляется в таких мягких формах, как пристрастие к еде, табаку, сладостям или кофе. Сэвитт предположил, что именно превратности на раннем этапе формирования Эго и на этапе его последующего созревания, способствующие фиксации и поддерживающие регрессию, в значительной мере определяют предрасположенность человека к возникновению разрушительной, патологической тяги к наркотикам и алкоголю.
Статья Вёрмсера “Психоаналитический взгляд на этиологию компульсивного использования наркотиков” (Wurmser, 1974) стала важной вехой в психоаналитическом понимании феномена зависимости; его размышления представлены в одной из глав этой книги (см. гл. 3).
Наконец, не углубляясь в подробности, хочу обратиться к нескольким штрихам из жизни Фрейда, которые будут своеобразным примечанием к данному обзору. Я имею в виду открытие Фрейдом и дальнейшее использование им кокаина и привычку Фрейда курить сигары (обо всем этом можно прочитать в биографии Фрейда; см.: Jones, 1953). Впервые Фрейд упоминает о кокаине в 1884 г. в своем письме, где ссылается на прочитанный рассказ об армейском враче, который использовал экстракт листьев коки, чтобы повысить энергию солдат. Фрейд получил образцы чистого вещества и сам начал употреблять его, принимая внутрь. Он обнаружил, что кокаин возвращает хорошее настроение и бодрость, вызывает такое ощущение, как будто человек только что хорошо пообедал, “кажется, что все прекрасно и беспокоиться не о чем”. При этом прием кокаина никак не мешает выполнению работы или физическим упражнениям. Фрейд также предложил вещество своему другу — врачу Эрнсту Флейшлю (Ernst Fleischl), который в то время пытался избавиться от морфиевой зависимости. (Незадолго до описываемых событий у Флейшля была частично ампутирована рука, и он, стремясь облегчить непереносимые боли большими дозами морфия, стал морфинистом.) Флейшль начал регулярно принимать кокаин и достаточно быстро освободился от морфиевой зависимости. Но еще до исцеления Флейшля Фрейд проявлял все больший и больший энтузиазм, считая кокаин чудесным лекарством и используя его при самых разнообразных заболеваниях. Он настойчиво рекомендовал его своим друзьям и коллегам, их пациентам и даже послал немного кокаина своей невесте. Джонс пишет: “Если судить об этом с точки зрения 1953 г., он быстро превращался в серьезную угрозу обществу”. Впрочем, в то время у Фрейда не было причин думать, что кокаин может представлять опасность, поскольку он не замечал у себя никаких признаков кокаиновой зависимости. В июне 1884 г. Фрейд публикует эссе о коке (cocoa), где описывает свои исследования о воздействии кокаина на чувство голода, сон и состояние утомления, сделанные на основе наблюдений за самим собой.
Он пришел к выводу, что данное вещество можно использовать для снятия функциональных состояний, характерных для неврастении, при лечении диспепсии, а также при лечении морфиевой зависимости. В последней части своего эссе он упоминает о том, что кокаин оказывает анестетическое воздействие на кожные покровы и слизистые мембраны, указывая на возможность дополнительного использования этих анестетических свойств. Коллер и Кёнигштейн (Koller and Kцnigstein), офтальмологи и друзья Фрейда, начали использовать кокаин в виде глазных капель и прославились как благодетели всего человечества. В это же время работа Фрейда с кокаином получила признание и снискала похвалы, равно как и написанная на эту тему монография.
Затем Фрейд узнал, что у Флейшля, который по указанию Фрейда лечил кокаином морфиевую зависимость, развилась тяжелая кокаиновая зависимость, сопровождающаяся тяжелыми физическими расстройствами. В 1886 г. сообщения о случаях кокаиновой зависимости стали появляться по всему миру. Фрейда обвинили в том, что он выпустил на свет “кокаинового дьявола”. Фрейд пытался защищаться, в то же время испытывая муки совести и чувство вины, в первую очередь по отношению к своему другу Флейшлю. В переписке с Флиссом (Fliess), которая длилась несколько лет, Фрейд писал, что употребляет кокаин; и в последующие годы он продолжал его употреблять время от времени. Однако ничто не подтверждает наличие у Фрейда аддиктивного поведения, “непреодолимого влечения, требовательности и безусловности выполнения”.
Иначе обстояло дело с его пристрастием к табаку, многолетней привычкой, от которой он не стал отказываться даже перед угрозой лейкоплакии и рекуррентной, по сути, фатальной карциномы нёба. По нормам того времени, постоянное курение сигар не считалось девиантным поведением. И все же это подтверждает, что Фрейд был человеком, и напоминает о его уязвимости для одной из форм аддиктивного поведения, которое в конце концов стало причиной его смерти. По словам Питера Гея, “воистину, существовали такие глубины его разума, которых его самоанализ никогда не мог достичь; конфликт, который никогда не был разрешен. Неспособность Фрейда бросить курить живо подчеркивает истинность его наблюдения одной черты, которая свойственна всему человечеству и которую сам Фрейд назвал знание-и-незнание — состояние рационального понимания, которое не ведет к соответствующим действиям” (Peter Gay, 1988).
2. Уязвимость сферы
саморегуляции
у аддиктивных больных:
возможные методы лечения
Эдвард Дж. Ханзян
Главная причина всех аддиктивных расстройств — это страдание, а вовсе не успешная работа наркодельцов, доступность наркотиков, давление социального окружения или поиск удовольствий и стремление к саморазрушению. Страдания, которые аддикты пытаются облегчить или продлить с помощью наркотиков, отражают базовые трудности в сфере саморегуляции, включающей четыре основных аспекта психологической жизни: чувства, самооценку, человеческие взаимоотношения и заботу о себе. Моя точка зрения основана на данных, собранных за тридцать лет клинической работы с пациентами, имеющими химическую зависимость. Пока не было сформировано современное понимание природы химической зависимости, наши рассуждения об аддиктивных личностях и реакция на них определялись ранними теориями влечения, которые ставили во главу угла стремление к удовольствию или деструктивные мотивы аддиктивного поведения. Двойственная теория инстинктов Фрейда указывала на то, что либидинальные и агрессивные влечения создают первичную мотивацию — как при аддиктивном поведении, так и в психологической жизни в целом. Наше общее неуважительное, если не уничижительное, отношение к алкоголикам и наркоманам частично развилось из этой ранней психоаналитической теории, предполагающей, что аддиктивными личностями движут удовольствие или деструктивные тенденции. И, как правило, наше мнение об этих людях меняется только в худшую сторону, поскольку мы судим о них, основываясь на их поведении и эгоцентризме, которые непосредственно связаны с сильной интоксикацией или психологической регрессией, характерными для хронических аддиктивных заболеваний.
Современные психодинамические подходы к проблеме химической зависимости на основе структурных, я-объектных теорий и теорий развития, позволили лучше понять факторы, препятствующие и способствующие возникновению зависимости. Человек не склонен к химической зависимости, если он находится в согласии с самим собой и своими чувствами и способен адекватно выражать эти чувства, если он поддерживает здоровые отношения с другими людьми и может позаботиться о себе. Неудивительно, что травмирующее, оскорбительное или пренебрежительное поведение родителей разрушает все эти четыре аспекта психологической жизни. Травмы и психические повреждения, которые переживают на протяжении своего развития аддиктивные индивиды, сочетаются с факторами биологической или генетической восприимчивости, определенными культурными нормами или угнетающими социальными условиями, что усиливает психологическую уязвимость. Иными словами, увеличивается вероятность того, что пережившие психические травмы люди будут экспериментировать с химическими веществами, вызывающими зависимость, стремясь использовать их кратковременные адаптивные и несущие облегчение эффекты.
В своем докладе я подробно остановлюсь на природе уязвимости системы саморегуляции у аддиктивных пациентов. Уязвимость влияет на их способность управлять своими эмоциями, воздействует на самооценку, отношения с окружающими и способность заботиться о себе. Я рассматриваю аддикцию в аспекте человеческого развития и адаптации. На мой взгляд, аддикция — это попытка решения жизненных проблем индивидами, обладающими различными уровнями уязвимости и способности к быстрому восстановлению сил. Я также остановлюсь на некоторых лечебных приемах, основанных на моем понимании уязвимости таких людей и их способности к восстановлению и самокомпенсации.
Что такое аддиктивная уязвимость
Существует ряд факторов, мешающих нам понять, что такое аддиктивный процесс и кто такие аддиктивные индивиды. Среди основных можно выделить, во-первых, чувство презрения, которое мы питаем к аддиктам, и, во-вторых, проблему конкурирующих идеологий. Как я уже указывал, первое происходит от нашей тенденции видеть в таких людях искателей удовольствия или носителей деструктивного поведения. Вторая проблема — конкурирующих идеологий — начинает серьезно мешать, когда мы пытаемся вникнуть в этиологическую основу аддиктивных проблем. Хотя у психологов-теоретиков (включая и психоаналитиков) всегда наблюдалась склонность к поляризации концепций при объяснении психической жизни и поведения человека, особенно жаркие дебаты разгорались по вопросам злоупотребления химическими веществами. Дискуссии все чаще напоминали религиозные диспуты, в которых почти не осталось места разумным доводам и здравым рассуждениям. Наиболее отчетливо это проявилось в спорах о том, является ли злоупотребление химическими веществами болезнью или симптомом, какие факторы наиболее значимы: биологические и генетические или психологические и факторы окружения; наконец, является ли злоупотребление химическими веществами причиной или следствием эмоциональных страданий, связанных с наркотической или алкогольной зависимостью. Расширенный обзор этих дискуссий выходит за рамки данного доклада. Скажу лишь, что клиническая работа и диагностические исследования аддиктов дают веские основания для следующего вывода: психологические факторы являются важными этиологическими детерминантами развития аддиктивных расстройств. Изложенные здесь взгляды основаны главным образом на психодинамических представлениях об уязвимости сферы саморегуляции у аддиктивных индивидов. Я не противопоставляю свой подход другим концепциям. К примеру, концепция “аддиктивные расстройства как заболевание” рассматривает биологическую природу аддикции и ее постепенное развитие. Психодинамический подход обеспечивает основания для вмешательства, простираясь дальше обычного контроля над ходом заболевания и сопутствующей симптоматикой; кроме того, он предлагает средства для уменьшения психологической уязвимости, которая вызывает предрасположенность к аддиктивным расстройствам и способствует их превращению в хронические.
Природа данных
Взаимоотношения, которые устанавливаются и развиваются в процессе лечения при индивидуальной и групповой работе с аддиктивными пациентами, обеспечивают нас обширными и разнообразными клиническими данными для понимания сущности психической уязвимости при аддикции. В отношениях, складывающихся во время лечения, повторяются многие особенности и характерные качества тех проблем и трудностей, с которыми пациенты сталкиваются на протяжении всей жизни, включая и те, что сделали их уязвимыми для алкогольной или наркотической зависимости.
Из этого следует, что мы можем использовать клинический контекст длительных лечебных отношений, чтобы понять проблемы людей, страдающих аддикцией. На протяжении тридцати лет клинической работы с такими людьми я не нашел практически никаких оснований считать, что этот контекст меньше подходит и менее полезен для понимания и лечения аддиктивных пациентов, чем в случае пациентов с иными симптоматическими и характерологическими проблемами. Хотя аддиктивные пациенты чаще испытывают особую потребность в безопасности, контейнировании и контроле, но если эта потребность удовлетворена, то клиническая работа с такими пациентами может продвигаться, приобретая неожиданно осмысленную и понятную форму.
Клиническая перспектива
Терапевтические отношения, как известно, вызывают у пациентов и терапевтов сильные эмоции и реакции, характерные для этих людей. Когда эти реакции наблюдаются у пациента, мы называем их переносом, когда у терапевта — контрпереносом. В изначальном, более строгом определении, реакциями переноса-контрпереноса называются эмоции и способы реагирования, которые происходят от ранних, нерешенных конфликтов в отношениях “ребенок-родитель”. В более общем смысле понятие “перенос” используется шире — для обозначения более или менее жестких паттернов реагирования на широкий спектр отношений и ситуаций; подобным же образом, понятие “контрперенос” относится к тем особенностям и паттернам реагирования, которые определенные пациенты и терапевтические ситуации вызывают у терапевта. В то время, когда Фрейд впервые представил эту концепцию, существовала тенденция рассматривать реакции переноса и контрпереноса как потенциальные барьеры для лечения. Однако если взглянуть на них по-иному, как только что сделали мы, становится ясным, что оба феномена дают нам серьезные, если не основные, сведения о том, что представляют собой психологические дилеммы пациента, а также о том, над чем следует работать, какие типичные реакции следует модифицировать или изменить.
За исключением некоторых заслуживающих внимания ранних попыток (Freud, 1905; Abraham, 1908; Rado, 1933; Glover, 1932) лишь в последние двадцать лет мы применяем мощную и полезную концепцию переноса и контрпереноса, а также психодинамическую теорию в целом, к пониманию аддикции и природы страданий людей с различными зависимостями. Главным образом, к этому подтолкнули рост случаев наркотической зависимости и то, что наркотики стали неотъемлемой частью жизни общества. Это предоставило практикам, получившим психоаналитическую подготовку, печальную возможность исследовать и лечить большое количество алкоголиков и наркоманов в самых разных ситуациях. Появившиеся в последнее время психодинамические отчеты о клинической работе с аддиктивными больными подчеркивают наличие у них серьезных проблем в развитии и структурный дефицит, что приводит к неспособности управлять своими аффектами, поддерживать здоровые отношения с окружающими, а также адаптивно изменять и контролировать свое поведение (Wieder & Kaplan, 1969; Krystal & Raskin, 1970; Milkman & Frosch, 1973; Wurmser, 1974; Khantzian, 1974, 1978).
Совсем недавно эти современные психодинамические открытия были применены в систематической индивидуальной и групповой терапии с людьми, страдающими химической зависимостью. Было показано (Luborsky, Woody, Hole and Velleco, 1977), что индивидуальные психотерапевтические отношения, а также развивающиеся переносы могут помочь терапевту и пациенту понять значение наркотической зависимости. Авторы разработали индивидуальный психодинамический психотерапевтический подход, используя руководство по лечению опиатных больных, что позволило сфокусироваться на “ядерных темах конфликтных отношений” (“core conflictual relationship themes” — CCRT) и на том, как эти темы тесно связаны с появлением и поддержанием наркотической зависимости. Таким же образом, но расширив цель исследований, Ханзян, Хэллидей и Мак’Олифф (Khantzian, Halliday and McAuliffe, 1990) в Кембриджском госпитале, Массачусетс, разработали модифицированный динамический групповой терапевтический подход к лечению кокаиновой зависимости. Подобный подход позволяет обнаруживать уязвимость функций саморегуляции, включая проблемы в аффективной сфере, в отношениях с людьми, в самооценке и проявлении заботы о себе. Групповой опыт дает возможность понять, каким образом уязвимость каждой из этих сфер и соответствующие защиты предрасполагают индивида к химической зависимости и рецидивам в ходе лечения. Пытаясь скрыть или компенсировать свою уязвимость, аддиктивные пациенты в то же время выдают себя характерными защитами и манерой поведения. Эти реакции отыгрываются с групповым лидером (лидерами) и другими членами группы, при этом появляется возможность распознать такие самопоражающие (self-defeating) паттерны у себя и у других и затем прервать бесконечную череду их повторения или модифицировать их, развивая более зрелые, менее стереотипные реакции, не требующие использования наркотиков и соответствующего стиля поведения.
Наш подход, на котором я остановлюсь подробно, уделяет особое внимание уязвимости личностной организации, связанной с трудностями в аффективной защите, самооценке, в межличностных отношениях и в способности позаботиться о себе. Я остановлюсь на всех четырех аспектах, однако хочу начать с рассмотрения эмоциональной стороны жизни аддикта и его способности заботиться о себе. В течение всей моей работы, начавшейся с исследования опиатной зависимости и затронувшей впоследствии другие химические зависимости, меня неизменно поражало, насколько значима уязвимость этих двух сфер личностной организации. Наблюдая за пациентами, я понял, что их попытки избавиться от своих невыносимых страданий с помощью лекарств и их неспособность позаботиться о себе сильно взаимосвязаны и чаще всего являются необходимым и достаточным условием для возникновения зависимости. По моему мнению, существует дефицит в Эго-Я организации (ego-self organization), который отражается прежде всего на аффективной стороне жизни и способности заботиться о себе; именно он нуждается в терапевтическом понимании и овладении.
Диагностические и эмпирические сведения
Хотя мой подход фокусируется на различных сторонах психо-
логической уязвимости, мне хотелось бы отметить диагностические и эмпирические исследования, дополняющие психодинамиче-
ское видение вопроса, начатые в середине 1970-х и завершенные в 1980-х годах. Ряд диагностических работ показал сосуществование большого диапазона психопатологий у опиатных пациентов. Некоторые сообщения (Woody, O’Brien and Rickels, 1975; Dorus and Senay, 1980; Rounsaville, Weisman, Crits-Christoph, Wilber and Kleber, 1982a, 1982b; Khantzian and Treece, 1985) свидетельствуют о широком распространении депрессий (в основном униполярных), о личностных расстройствах и алкоголизме. Роунсавиль и др. (Rounsaville et al., 1982a,b) пришли к выводу, что их данные подтверждают формулировки Вёрмсера и Ханзяна, а именно, что аддикты в депрессивном состоянии используют опиаты для преодоления непереносимых дисфорических чувств. Исследуя гомогенную популяцию из 99 опиатных больных с помощью проективных методик и эго-шкалирования Блатт и др. (Blatt, Berman, Bloom-Feshback, Sugarman, Wilber and Kleber, 1984) пришли к выводу, что эти больные не способны к модуляции аффекта и страдают от сильных эмоций и эмоционально заряженных межличностных отношений. Поэтому они используют наркотики для изоляции и ухода (withdrawal). Позже Уилсон и др. (Wilson, Passik, Faude, Abrams and Gordon, 1989) сравнили двадцать пять опиатных больных с нормальной контрольной группой, используя шкалу измерения неудач в саморегуляции (получена на основе тематического апперцептивного теста). Было обнаружено, что больные, страдающие опиатной зависимостью, имеют больше трудностей, связанных с саморегуляцией, чем обычные люди. В дальнейшем выяснилось, что наблюдаемые дисфункции возникали в результате особенностей ранних фаз развития. Наконец, ряд диагностических исследований показал, что пациенты с кокаиновой зависимостью страдают несоразмерной сферой действия биполярного дефицита заботливости, а также нарциссическими расстройствами (Gawin & Kleber, 1984, 1986; Weiss & Mirin, 1984, 1986; Weis, Mirin Griffin & Michaels, 1988), а алкоголики подвержены тяжелым мучительным депрессиям и состояниям тревоги (Hesselbrock, Meyer and Keener, 1985; Weiss and Rosenberg, 1985). Эти разнообразные диагностические сведения о соотношении наблюдаемых симптомов и предпочитаемых наркотиков подтверждают идею о том, что больные выбирают разные наркотики, основываясь на их способности ослаблять определенные чувства, причиняющие боль.
Уязвимость саморегуляции
Психопатология против уязвимости
С самого начала своей работы я подчеркивал, что серьезная и обширная психопатология, включающая в себя существенную дефицитарность мотивационно-аффективной сферы, неспособность заботиться о себе и контролировать свои импульсы, предопределяет возникновение аддикции (Khantzian, 1972, 1974, 1978). Однако мои наблюдения и формулировки основывались в первую очередь на клинической работе с опиатными пациентами в рамках программы лечения метадоном, в которую включались пациенты, имеющие серьезные расстройства психики и поведения. Впоследствии, в частной практике, я работал с более широким кругом клиентов и пациентов в рамках программ самопомощи и самостоятельного освобождения от зависимости; все участники этих программ употребляли марихуану, алкоголь и/или кокаин. Я был поражен высокой вариабельностью типов психопатологий и степени их тяжести, а также гибкости этих пациентов и их способности к восстановлению. Поэтому, не уделяя большого внимания тяжести патологии и диагностическим категориям, я решил всерьез сосредоточиться на психологической уязвимости, делая основной акцент на четырех сферах саморегуляции, а именно: самооценке, отношениях с окружающими, аффективной сфере и проявлении заботы о себе. Последние два пункта я буду рассматривать особенно тщательно.
Самоуважение, удовлетворение потребностей,
взаимоотношения с людьми
Аддиктивные индивидуумы страдают от того, что не чувствуют себя “хорошими” и поэтому не способны удовлетворить свои потребности или установить удовлетворяющие их отношения с другими людьми. Основным препятствием для стабильной самооценки является их необычайная непоследовательность в ходе удовлетворения своей зависимости. Они мечутся между самопожертвованием и эгоцентризмом; требующая и ожидающая позиция быстро сменяется презрительным отвержением помощи и отказом признать свою потребность. Под холодностью и отчуждением часто скрываются более глубинные стыд и чувство собственной неадекватности. Неудивительно, что могучая способность различных химических веществ изменять чувства притягивает их. Эти вещества служат мощным средством против внутреннего чувства пустоты, дисгармонии и душевной боли. Для некоторых людей такими спасителями становятся дарующие энергию лекарства наподобие кокаина или амфетамина, которые противостоят состоянию инертности и скованности, вызванной хронически заниженной самооценкой. В другом случае те же самые препараты могут стать источником силы для тех, кто достигает компенсации посредством более экспансивной защиты гипоманиакального характера. Те, у кого внутренняя дисгармония вызывает возбуждение или гнев, с радостью воспользуются успокаивающим действием опиатов. А алкоголь или другие седативные вещества со смягчающим эффектом будут воистину магическим снадобьем для людей, которые не признаются ни себе, ни другим в потребности в комфорте и контакте.
Работы в области Я-психологии, особенно работы Хайнца Кохута (Heinz Kohut, 1971, 1977) были особенно полезны для понимания того, каким образом дефицитарность структуры и развития конкретного индивида влияет на поддержание самооценки и как аддиктивные личности, в частности, используют наркотики в целях компенсации. Кохут замечал: “Наркотик служит не заменителем любимых и любящих объектов или отношений с ними, а замещением дефекта в психологической структуре” (1971, с. 46; курсив мой). Его работа помогла нам понять, как чувство собственной ценности (self-worth) и любовь к самому себе возникают из самой ранней фазы отношений “родитель-ребенок”. Базовое чувство благополучия, внутренней гармонии и целостности создается как функция оптимальной успокоенности, сытости и защищенности. Впоследствии на этом основывается способность к любви “Я—другой” через реакцию взаимного восхищения, которая возникает между родителями и развивающимся ребенком. В оптимальных условиях у человека развивается чувство собственной ценности, возникают ведущие жизненные установки и стремления, закладывается здоровая способность к независимому существованию.
Хотя Кохут и его последователи не занимались систематическим изложением и применением своих идей к аддиктивным расстройствам, тем не менее идеи Я-психологии оказались весьма уместны при объяснении имеющихся у аддиктов проблем “Я—другой”. Аддикты страдают не только вследствие переживания внутренней дисгармонии, дискомфорта и фрагментации или из-за неспособности думать хорошо о себе, а, следовательно, и о других. Гораздо большие мучения им доставляют собственные защиты, с помощью которых эти люди пытаются скрыть свою уязвимость. Аддиктивная личность защищает поврежденное и уязвимое Я с помощью саморазрушающих защит: отказа от реальности (disavowal), утверждения собственной самодостаточности, агрессии и бравады. За это приходится платить чувством изоляции, обеднением эмоциональной сферы и неустойчивостью взаимоотношений с людьми. Ниже я приведу описание основного терапевтического метода, который помогает таким людям избавиться от недоверия, стыда и избегания зависимости путем укрепления движущего ими нетвердого чувства Я и замены бравады и избегания зависимости на более сбалансированный и взаимозависимый подход к себе и другим.
Аффекты
Пациенты с химической зависимостью часто жалуются на свою склонность к крайним проявлениям эмоций. В одной крайности их переполняют непереносимые чувства, и наркотики используются для облегчения страданий. В другой крайности кажется, что чувства отсутствуют вовсе или ощущаются столь смутно, что их невозможно дифференцировать; в этом случае наркотики используются для того, чтобы разнообразить свои переживания. Независимо от того, что подтолкнуло человека к использованию химических веществ, аддиктивное поведение предполагает наличие у него неизменных трудностей в регулировании эмоций; наркотики представляют собой отчаянную попытку контролировать аффекты, которые иначе кажутся неподвластными.
За прошедшие три десятилетия в литературе появились описания того, что больных с нарушениями характера, тяжелыми психическими травмами, психосоматическими расстройствами и химической зависимостью объединяют определенные особенности и дисфункции в том, как они переживают свои чувства. Некоторые работы (Krystal, Raskin, 1970; Krystal, 1977b, 1982b, 1988a) особенно полезны для понимания того, почему и каким образом в подобных условиях чувства могут вызывать серьезные проблемы. Проводя клиническую работу с жертвами алкоголизма и серьезных травм, Кристал предположил, что аффекты подвержены нормальному прогрессивному развитию, однако сами приводят к замедлению развития или травматической регрессии. Вследствие этого определенные индивидуумы не способны дифференцировать свои чувства (к примеру, не могут отличить тревогу от депрессии), склонны к соматизации аффекта и не могут выражать свои чувства словами. В отношении последнего Кристал (1982b) позаимствовал термин алекситимия, введенный Сифнеосом (Sifneos, 1967) и Немией (Nemiah, 1970) при работе с психосоматическими пациентами. Кристал обозначил этим термином специфическую проблему, которая проявлялась у аддиктивных пациентов при попытке осознать и выразить свои чувства. Как свидетельствует Кристал и как описывает свои работы с психосоматическими пациентами Немия (1975), все эти люди, отвечая на вопрос о своем состоянии, не могут идентифицировать у себя различные эмоциональные состояния, например рассказать о том, больны ли они, устали или голодны, испытывают печаль или гнев. Такая дефицитарность может проявляться и самостоятельно — как в эмоциональном, так и в когнитивном плане. Кристал (1982b) цитирует работу по операциональному мышлению (Marty & de M’Uzan, 1963; pensee operatoire), в которой описывается, как подобные алекситимики могут кратковременно проявлять блестящие умственные способности, но в конечном счете показывают, что их реакции вызваны скорее событиями и фактами, но почти не связаны с эмоциями. В других случаях эмоциональный вакуум прерывается легкими вспышками ярости и гнева. Ссылаясь на эти наблюдения, МакДугалл (McDougall, 1984) называет таких пациентов “диз-аффективными”, т.е. лишенными аффектов (dis-affected), а Вёрмсер (Wurmser, 1974), характеризуя эмоциональное обнищание, которое аддиктивные пациенты ощущают в себе и в своих межличностных отношениях вследствие дефицита эмоций, использует термин гипосимволизация.
В отличие от проблем развития, которые затрудняют аддиктивным больным доступ к собственным чувствам и их проявление, нарушения эмоционального развития так же часто заставляют их страдать от прямо противоположной проблемы, когда аффекты переживаются как подавляющие и непереносимые. Основываясь на этом факте, в своих ранних работах Вёрмсер (1974) основой аддиктивных расстройств называет “дефект аффективной защиты”; по этой же причине Видер и Каплан (Wieder, Kaplan, 1969) назвали вещества, вызывающие зависимость, “корректорами” и “протезами”. На том же основании я еще в своих ранних работах подчеркивал, что пациенты с опиатной зависимостью используют опиаты для преодоления дезорганизующего воздействия гнева и агрессии на Эго (Khantzian, 1974). Эти предположения хорошо согласуются с ограниченной способностью аддиктивных больных переносить болезненные аффекты; они также подтверждают, что обезболивающее действие наркотиков помогает аддиктам компенсировать дефицитарность защиты от сильных эмоциональных переживаний.
Одним из главных следствий развития психодинамических представлений явилось растущее понимание того, что основной мотивацией больных к сохранению своей химической зависимости является использование наркотического эффекта для облегчения или трансформации чувств, которые переживаются как болезненные и непереносимые. Хотя аддиктивные больные пробуют и употребляют разные наркотики, на вопрос о предпочтениях большинство из них отвечают, что предпочитают что-нибудь одно. Просто поразительно, как при своей неспособности назвать или выразить переживаемые чувства аддиктивные пациенты могут отличить эффекты, вызванные разными наркотиками, и пояснить, почему они предпочитают тот или иной класс наркотических веществ. Видер и Каплан (Wieder, Kaplan, 1969) первыми обнаружили этот феномен и ввели термин наркотик выбора (drug of choice), а Милкман и Фрош (Milkman, Frosch, 1973) описали свои эмпирические находки, подтверждающие наличие феномена, который они назвали “предпочтительное использование наркотиков”. Позднее Спотс и Шонц (Spotts, Shontz, 1987), придя к похожим заключениям, предложили термин “наркотик большего доверия” (drug of commitment). В моих работах разнообразные стили употребления наркотиков различными аддиктивными пациентами названы процессом Я-выбора (self-selection) (Khantzian, 1975), а несколько лет назад я сформулировал основы “гипотезы медикаментозного самолечения” аддиктивных пациентов (Khantzian, 1985а). В упомянутой работе, где описывался мой собственный опыт и опыт моих коллег (Wieder and Kaplan, 1969; Kristal and Raskin, 1970; Milkman and Frosch, 1973; Wurmser, 1974), я уделил особое внимание тому, как уязвимость и дефицит возможностей Эго, чувства “я” и объектных отношений вызывают психологическое страдание и болезненное переживание аффектов. Основываясь на этом, я предположил, что пациенты, злоупотребляющие химическими веществами, открывают для себя, что наркотики, являющиеся объектом зависимости, помогают справиться с мучительным состоянием и облегчить боль (Khantzian, 1990).
Три основных класса веществ, вызывающих зависимость — анальгетики-опиаты, седативно-снотворные (включая алкоголь) и стимуляторы (например, кокаин, амфетамины), — обладают мощными и разнообразными психотропными эффектами, которые могут существенно облегчить психическое страдание или полностью избавить от него. Мотивы при первичном и последующем использовании этих веществ могут меняться вследствие биологических факторов привыкания и застарелого характера зависимости, однако психологические факторы продолжают влиять на то, каким образом аддиктивные личности используют диаметрально противоположные свойства наркотиков снимать и продлевать ощущения боли и страдания. Что касается избавления от страданий, то я сообщал о клинических данных за последние два десятилетия, показывающих, что наркоманы используют упомянутые три класса наркотиков для дифференцированного “самолечения”, стремясь избавиться от боли, вызванной аффектами, которая возникает как следствие целого ряда дефектов и дефицитарности в защитах и личностной организации (Khantzian, 1975, 1985а, 1990). В частности, я предполагаю, что люди с наркотической зависимостью являются личностями с ненадежными защитами; они вынуждены использовать свойства опиатов, снижающих ярость и агрессию, чтобы противостоять разрушающим воздействиям угрожающих влечений и аффектов. Люди, зависимые от алкоголя или седативно-снотворных препаратов, проявляют контрзависимость. Они обнаруживают, что выбранные наркотики смягчают гипертрофированные ригидные защиты и таким образом на время освобождают их от состояний внутренней изоляции, пустоты и холодности. Те, кто злоупотребляет стимуляторами, обладают слабыми (или раздутыми) структурами Эго-идеала и, кроме того, являются депрессивными и нарциссическими личностями; они используют кокаин или амфетамины для лечения состояний энергетической истощенности или гиперактивности (Khantzian, 1991).
Хотя аддикты демонстрируют нам, что химические вещества облегчают их психологические страдания, они также в полной мере показывают, что, используя наркотики в качестве опоры, они продлевают и усугубляют свое бедственное положение. И это действительно так: химическая зависимость неизбежно приводит к болезненным побочным эффектам, передозировке, мучительным симптомам похмелья и “ломки”, вызывает физические мучения и дисфункции, связанные с неизбежным распадом личности и различными болезнями, которые сопровождают зависимость. Подобную готовность терпеть любые муки, вызванные употреблением химических веществ, можно в какой-то мере объяснить непреодолимым желанием хоть на некоторое время избавиться от своей психической боли. Тем не менее не так давно я пришел к выводу, что аддиктивные пациенты активно и даже намеренно продлевают состояние дистресса, продолжая компульсивно употреблять наркотические вещества. Я связал этот феномен “продления боли” с компульсивным стремлением повторять оставшуюся неразрешенной боль, появившуюся на ранних стадиях развития. К такому же заключению независимо пришел Шиффер (Schiffer, 1988). Объясняя нездоровый, саморазрушающий характер употребления кокаина и кокаиновой зависимости, он подчеркнул наличие у своих пациентов само-карающей садомазохистской динамики, являющейся следствием травмирующего обращения с ними (abuse) в детском возрасте. Мое собственное объяснение принятия страданий связано с тем, что одним из мотивов использования наркотиков является мотив преодоления пассивного, вызывающего смущение опыта переживания собственной “безэмоциональности”, алекситимичности и преобразования его в активный опыт контроля над собственными чувствами, даже если они и причиняют боль. Пытаясь далее в рамках теорий психоанализа и развития личности оценить влияние ранних жизненных переживаний и лишений на аффективную сферу и развитие личности (см. Lichtenberg, 1983; Gedo, 1986), я предположил, что нездоровые, повторяющиеся аспекты употребления наркотиков и химической зависимости представляют собой попытки проработать болезненные аффективные состояния, для которых не существует слов, воспоминаний или иного символического представления. Такой взгляд особенно уместен в случае уже описанных мною пациентов, которые, как кажется, не имеют и не осознают своих чувств (Khantzian, 1990, 1993). Вместо того чтобы просто освободиться от мучительных, непереносимых или подавляющих чувств, люди, злоупотребляющие химическими веществами, могут использовать их для управления аффектами, особенно когда эти аффекты оказывается трудно уловить, различить и дать им название (Khantzian, 1990; Khantzian and Wilson, 1993). Однако за это приходится платить еще большими страданиями.
Способность позаботиться о себе
Аддикты постоянно создают у окружающих впечатление собственной деструктивности. Общеизвестны смертельные последствия воздействия наркотиков для наркоманов, широко описана опасность наркотического стиля жизни и соответствующего ему окружения. Но все это не может препятствовать непреодолимому влечению наркомана к объекту своей зависимости. Основываясь на этом, мы часто приходим к заключению, что люди с химической зависимостью переживают сознательные и бессознательные суицидальные импульсы, скрывая их от окружающих. Подобное заключение подтверждается данными о том, что среди таких людей число самоубийств резко превышает обычные показатели (Blumenthal, 1988).
На мой взгляд, явно “наплевательское отношение к себе”, равно как и склонность аддиктов к суициду, является не причиной наблюдаемого саморазрушительного поведения, а следствием, вторичным продуктом длительного злоупотребления химическими веществами. Здесь находит отражение скорее процесс разрушения личности, безысходность и депрессивность, являющиеся результатом аддиктивной модели адаптации. Акт употребления наркотического вещества — не столько поведенческое проявление мотива, направленного на активное нанесение себе вреда, сколько показатель неуспешности и дефицитарности развития, вследствие чего человек оказывается не готовым проявлять заботу о себе самом. Идет ли речь об опасности употребления наркотиков и алкоголя или о рисках повседневной жизни (будь то несчастные случаи, болезни или финансовые затруднения), аддикты неизменно подтверждают свою неспособность защитить себя в разных ситуациях. Более глубокие исследования обнаружили, что подобные индивидуумы вовсе не стремятся навстречу риску и опасности — они скорее не могут их предчувствовать и, как следствие, не принимают в расчет. Мы предположили, что снижение способности к самозащите и стремления к выживанию у аддиктов проистекает из дефицита способности заботиться о себе (Khantzian, 1978; Khantzian and Mack, 1983, 1989). Поначалу этот феномен был описан нами у опиатных больных (Khantzian, 1978), а впоследствии было обнаружено, что он в той или иной степени присутствует у всех, кто злоупотребляет химическими веществами.
Забота о себе есть психологическая способность, связанная с определенными функциями и реакциями Эго. Эта способность, предохраняющая от причинения вреда и гарантирующая выживание, включает в себя проверку реальности, рассудительность, самоконтроль, умение воспринимать сигналы тревоги и видеть причинно-следственные связи. Способность заботиться о себе развивается из роли родителей как питающих, помогающих и оберегающих малыша в раннем детстве, а также из более поздних взаимодействий “ребенок-родители”. Если условия развития оптимальны, растущий ребенок интернализует адекватные защитные функции и реакции, позволяющие заботиться о себе. Способность заботиться о себе в явной форме выражена у взрослых в виде разумного планирования и осуществления деятельности, предчувствия вероятного вреда, опасности или угрожающей ситуации. Она сопровождается выраженными в определенной степени предупреждающими аффектами — чувствами страха, беспокойства или стыда. Такие реакции и предчувствия абсолютно отсутствуют или не развиты у аддиктов. Они периодически оказываются не в состоянии понять, что их поведение и реакции не учитывают ситуацию и условия, и поэтому подвергают опасности свое благополучие (что в первую очередь связано с ситуациями употребления наркотиков или алкоголя и связанного с этим поведения) (Khantzian, 1978; Khantzian and Mack, 1983, 1989).
Неспособность позаботиться о себе в одних случаях проявляется сильнее, чем в других. К примеру, она особенно сильно выражена у тех, кто употребляет несколько наркотиков (polydrugs) и делает инъекции; у этих наркоманов возможности Эго, в общем, нарушены гораздо сильнее. У других аддиктов способность к заботе о себе не столь явно дефицитарна, однако в ситуации стресса, истощения или депрессии обнаруживаются ухудшение и недостатки в работе механизмов самозащиты. Для некоторых индивидуумов слабо упроченные навыки заботы о себе вызывают обязательную потребность в наркотиках, которые в течение некоторого времени способны облегчать страдания, улучшать общее состояние и способствовать достижению поставленной цели. Если же функция заботы о себе имеет серьезные и обширные нарушения, это проявляется в том, что человек не испытывает достаточного беспокойства по поводу своей зависимости или не в состоянии предвидеть ее ближайшие и долгосрочные последствия (Khantzian, 1990).
Мы завершим эту часть примером из клинической практики, в котором покажем, что уязвимость саморегуляторной сферы аддиктивного больного включает в себя дефицитарность эмоциональной сферы и способности заботиться о себе и что такое сочетание ставит его в ситуацию повышенного риска.
Случай из клинической практики
Следующая выдержка из групповой терапии аддиктивных пациентов дает типичные образцы некоторых проблем, возникающих вследствие неготовности позаботиться о себе, а также эмоциональной спутанности и неспособности справляться с мучительными, подавляющими чувствами. Хотя событие, вызвавшее описанное здесь групповое обсуждение, было драматическим и травмирующим для одного из членов группы, группа, тем не менее, продемонстрировала обычную для таких пациентов тенденцию вовлекаться в детали и подробности памятного и эмоционально заряженного события или реагировать на него гневом и импульсивными действиями.
Член группы, поделившийся своим опытом, был выздоравливающим врачом. В начале занятия он описал произошедший в его клинике трагический инцидент. Молодой парень, пришедший к нему на прием со своей беременной подругой, неверно понял предположение врача о сроке беременности и, решив, что подруга беременна от другого, выхватил нож и полоснул женщину от плеч до груди. Сначала врач описал свой шок и маневры, которые он предпринял, чтобы перебраться поближе к входной двери, в то время как парень громко ругался и угрожал своей жертве. Врач оставался у двери, пока медсестра, вызвавшая полицию, не просунула ему в дверь тяжелую биту и убедила его, что пациентке угрожает реальная опасность. Поскольку парень стоял спиной к врачу и не обращал на него внимания, доктор выбил из его руки нож, а когда скандалист повернулся лицом, ударил в живот и обездвижил его до приезда полиции.
Сразу после рассказа один из членов группы, адвокат, страдавший кокаиновой зависимостью и обладающий гиперактивным, неугомонным характером, разразился пламенным монологом о потенциальной ответственности врача за попытку выйти из ситуации столь грубым и не вполне законным способом. Как ведущий, я постарался успокоить оратора, указал на его попытку применить к ситуации нормы закона и попросил сделать акцент на чувствах, которые вызвал рассказ. Вместо этого юрист и еще один участник группы, также врач, принялись спорить о том, применима ли в данной ситуации юридическая оценка. Я вновь попытался прервать спорщиков, настойчиво убеждая их обратиться к чувствам, которые вызвала у них рассказанная история. В ответ группа проявила явное раздражение, а оппоненты вернулись к спору о том, имел ли адвокат право давать юридическую оценку описанной ситуации. Еще три члена группы проявили неожиданную терпимость к спору. Тогда я обратился к рассказчику с просьбой описать свои чувства и тот в деталях рассказал группе о том, как сразу после произошедшего он сделал перерыв в работе и на три дня уехал во Флориду, оставив семью дома. Там он посетил своего дядю, бывшего морского пехотинца, который много повидал на своем веку и всегда готов был поделиться мудрым советом. Я обратил внимание рассказчика на то, что он выглядит смущенным и, оказывается, не способен выразить свои чувства — он просто описал произошедшие с ним события. Третий врач в группе в очень отстраненной и характерной аналитической манере прокомментировал завязавшуюся дискуссию, после чего предположил, что рассказчик, вероятно, подвергал себя опасности, а затем признал, что он сам, скорее всего, сразу нанес бы преступнику сокрушительный удар по голове.
Лишь к концу сессии пятый участник группы, еще один адвокат (самый молодой ее участник, который параллельно с лечением взял на себя обязанности юриста в программе помощи наркоманам), буквально взорвал групповой процесс, выразив свой шок, гнев, печаль и беспокойство по поводу опасности, которая грозила доктору. Он также признал, что вряд ли решился бы на подобный риск, если бы не знал наверняка, что сможет полностью обезвредить противника. Адвокат также тактично напомнил участникам группы, что обычно они с большей терпимостью и пониманием относятся к чужим несчастьям и переживаниям. Я отметил, что членам группы легче было устроить ссору, чем описать чувства, которые вызвала у них эта история. Под конец занятия стало ясно, что самые большие сложности с выражением чувств были у доктора, с которым все это произошло, и у адвоката, первым вступившего в спор. Адвокат все же смог признать, что способность юридически трактовать ситуации послужила ему прикрытием от неприятного ощущения, что он не понимает собственных чувств. Он также предположил, что поездка во Флориду стала для рассказчика таким же щитом от путаницы в чувствах.
Вовлечение в лечебный процесс
Общие соображения
Итак, аддиктивному пациенту крайне тяжело признавать и выносить собственные чувства; его самооценка, возникающие отношения с окружающими и способность заботиться о себе не отличаются надежностью и основательностью; наконец, злоупотребление алкоголем и наркотиками вызывает множество проблем, представляющих реальную угрозу для жизни. Именно поэтому соображения, касающиеся лечения таких пациентов, в первую очередь должны учитывать удовлетворение крайне значимых для них потребностей в комфорте, безопасности и контроле. Уязвимость систем саморегуляции делает человека предрасположенным к употреблению наркотиков, провоцирует его к этому и поддерживает в нем надежду на помощь наркотиков; без сомнения, именно в этой сфере необходима терапевтическая коррекция. Тем не менее, глубоко полагаясь на лечение, мы с самого начала и в дальнейшем должны придерживаться принципов стабильности, контейнирования и контроля, сталкиваясь с неожиданными проявлениями аддиктивных расстройств, по своей природе угрожающих жизни пациента. В этой связи не должно возникать ощущения, что концепция “зависимость — это болезнь” противопоставляется симптоматическому подходу к лечению химической зависимости. Хотя первая придает особое значение биологическим и аддиктивным факторам, а последний пытается понять и модифицировать психологические факторы, предрасполагающие к возникновению аддикции, оба эти подхода, без сомнения, требуют серьезного внимания.
Необходимость интегрировать и разумным образом чередовать эти две парадигмы становится очевидной, если сравнить особенности развития кокаиновой и алкогольной зависимостей. В то время как патологические и фатальные последствия алкоголизма обычно развиваются в течение двух-трех десятков лет, в случае кокаиновой зависимости они способны проявиться в течение месяцев и даже недель, особенно когда наркотик употребляется в виде инъекций. В этой связи концепция “зависимость — это болезнь”, положенная в основу программы Анонимных Алкоголиков (АА) и сопутствующих программ самопомощи и психологического образования, имела феноменальный успех, особенно при лечении начальной стадии алкоголизма, поскольку существенное внимание здесь уделялось потребности контролировать аддиктивный процесс. Надеюсь, мне удастся показать, что, хотя кажется, будто подход АА (по сути, основанный на концепции “зависимость — это болезнь”) придает особое значение воздержанию как сути и основному требованию программы, он идет дальше, помогая людям справляться с различными психологическими проблемами, созданными алкогольным стилем жизни и неконтролируемым употреблением спиртного. Я также надеюсь продемонстрировать, что для достижения изменений в сфере саморегуляции и снижения ее уязвимости такие подходы, как клинико-психотерапевтический и ориентированный на самопомощь, могут и должны работать одновременно, взаимно дополняя или независимо друг от друга. Творчески и в то же время прагматически сочетая различные терапевтические подходы, опытные клиницисты смогут оказать оптимальную помощь аддиктивным больным.
Терапевт, оказывающий первую помощь
Чтобы эффективно организовывать лечение аддиктивных пациентов, клиницистам требуется играть множество ролей и проявлять гибкость, удовлетворяя потребности больного. Отношения между врачом и пациентом могут стать мощным инструментом воздействия на поведение больного — в этом аддиктивные пациенты не являются исключением. Однако до того как целительная сила этих отношений будет использована для работы с психологической уязвимостью аддиктов, ее можно и должно применить для обеспечения безопасности и стабилизации, что чаще всего хорошо обеспечивают дополнительные психотерапевтические интервенции. Безоценочный, эмпатический и авторитетный (уверенный в себе, внушающий надежду, терпеливо обучающий) терапевт способен быстро вызвать доверие у пациентов и помочь им принять столь необходимую в их бедственном положении помощь, которую дают лечебные ограничения, фармакологическая стабилизация, детоксикация и поддерживающая терапия. Другая сторона лечения включает в себя участие в группах поддержки (наподобие групп “Анонимные Алкоголики” и “Анонимные Наркоманы”) и работу с внешними стрессорами, в частности, связанными с семейной жизнью.
Рассматривая многочисленные клинические ходы и психотерапевтические потребности пациентов с химической зависимостью, я пришел к выводу, что роль конкретного клинициста должна совпадать с ролью терапевта, оказывающего первую помощь (The Primary Care Therapist), особенно на ранних фазах лечения (Khantzian, 1985b, 1986, 1988). Я предположил, что основанное на этой роли вовлечение терапевта-клинициста в отношения с аддиктивным пациентом при посредничестве других лечебных элементов не только является необходимостью, но и при осторожной работе помогает построить терапевтический альянс. Помимо первичного осмотра и организации различных аспектов клинической работы, терапевт, оказывающий первую помощь, играет важную роль в наблюдении за реакциями пациента и их изменением в ответ на рекомендованные терапевтом и принятые пациентом компоненты лечебного воздействия. В одном случае терапевт может противодействовать нежеланию пациента посещать группы встреч “Анонимных Алкоголиков” или “Анонимных Наркоманов”, в другом — прийти к выводу, что характер проблемы конкретного пациента или его психопатология делает рекомендованное лечение неподходящим. Одновременно терапевт, оказывающий первую помощь, остается в позиции оценивающего, определяя, какую пользу получают пациенты от развивающихся психотерапевтических отношений — индивидуальных и групповых. В общем, я предположил, что терапевт, оказывающий первую помощь, может играть роли непосредственно терапевта, координатора и наблюдателя, для того чтобы удовлетворить потребность пациента в контроле, контейнировании, контакте и комфорте. Впоследствии лечебные отношения могут развиться в более традиционную психотерапию. Работая таким образом, клиницист способен максимально увеличить продолжительность лечения, будучи уверенным в эффективности рекомендаций; в противном случае он сможет выбрать, организовать и обеспечить иные лечебные подходы (Khantzian, 1988).
“Анонимные Алкоголики” — средство
для обеспечения контроля, поддержки и понимания
Общество “Анонимные Алкоголики”, как и отпочковавшиеся от них движения (например, “Анонимные Наркоманы”), служит мощным вместилищем и одновременно могучим преобразователем аддиктивного поведения. Людям, которые отказываются менять деструктивное поведение и отрицают собственную слабость, здесь могут помочь признаться себе в собственной слабости и затем изменить свое поведение. Подобные группы самопомощи работают, не только используя групповое давление для уничтожения вредоносного воздействия — в данном случае наркотика или алкоголя, — но и развивая крайне сложную групповую психологию, которая эффективно адресуется к физиологическим и психологическим детерминантам повторяющегося аддиктивного поведения.
“Анонимные Алкоголики” действуют как контейнер, оказывают контролирующее воздействие, эффективно работая с физиологическими и психологическими факторами, управляющими компульсивным поведением алкоголика. Достоверно доказано, что одной из основных причин, по которым люди вынуждены пить или принимать наркотики, является возникновение аддиктивно-физиологического механизма (то есть толерантность и физическая зависимость). Этот механизм не является предметом данной статьи, хотя понимать его крайне необходимо. Помогая человеку прекратить регулярное употребление химических веществ и тем самым устранить физиологическую основу желания употребить алкоголь или наркотики, можно сделать очень многое для преодоления этих пагубных пристрастий. Однако на таком пути часто приходится сталкиваться с характерной предрасположенностью конкретного человека (у аддиктов особенно яркой) к тому, чтобы не позволять себе проявлять слабость именно тогда, когда это особенно необходимо. Отрицание не единственная защита, к которой прибегают алкоголики и наркоманы. Тем не менее именно отрицание способно вызвать поистине разрушительные последствия.
Чем больше алкоголики и наркоманы теряют контроль над своей зависимостью, а стало быть, и над жизнью, тем чаще они встают в позу, убеждая окружающих в обратном. “Анонимные Алкоголики” весьма изобретательно противопоставляют этой тенденции свои традиции, определяя для членов сообщества основы повседневной жизни, а затем помогая им признать тот факт, что алкоголик (наркоман) страдает от своей болезни, что он потерял власть над своим пагубным пристрастием к алкоголю (наркотикам) и уже не способен сам управлять своей жизнью. Первый шаг программы “Двенадцать шагов” — “Мы признали свое бессилие перед алкоголем... потеряли контроль над своей жизнью”. (“Всемирная Служба Анонимные Алкоголики”, 1976)). Стефани Браун (Stephanie Brown, 1985) подчеркнула, что осознание неспособности контролировать свою жизнь и признание себя алкоголиком является ключом к успеху работы АА. Система “Двенадцать шагов” успешно помогает алкоголику признаться в собственной слабости и принять мысль о смирении и альтруизме, которые являются необходимой альтернативой эгоизму и эгоцентризму, возникающим в процессе развития болезни. Аддиктивный пациент излишне развивает, “раздувает” свои защиты, пытаясь бороться с дефицитом саморегуляции, в особенности с низкой самооценкой. Множество поддерживающих, активизирующих и управляющих элементов, с которыми алкоголики сталкиваются с момента включения в программу, обеспечивают структуру и поддержку, которые компенсируют слабость их функций саморегуляции. Афоризмы в работе АА являются источником успокоения и комфорта, в чем больные крайне нуждаются, а пошаговый подход, рекомендации и прямые указания (например, “поддерживай контакты, не теряйся, звони, знакомься с людьми, приходи на встречи, проси помощи” и т.д.) выстраивают последовательную линию развития, обеспечивая человека структурой, способной поддержать и направить его на восстановление собственной жизни, часто разрушенной почти до основания. Помимо этих практических элементов используются молитвы и обращение к духовности, что заставляет прибегнуть к силам, находящимся за границами собственного “я”, признавая собственную зависимость от других людей и значимость отношений с ними.
Оказывая преобразующее воздействие, АА помогают алкоголику изменять те части “я”, которые отвечают за заботу о его собственной жизни и за управление ею. Джон Мэк (Mack, 1981) назвал эту способность человека “самоуправлением” (self-governance) и охарактеризовал ее как мультиперсональную психологию “Я—другой”. Движение “Анонимные Алкоголики” компенсирует характерную для алкоголиков и наркоманов ослабленную или неразвитую способность управлять собой. Оно бросает вызов мнению аддиктов (и каждого из нас), что человек способен управлять своей жизнью и поведением в одиночку. Бросая вызов “дефектам характера” (применяется в деятельности АА, но напоминает то, что используется в психоанализе), которые призваны скрыть недостаток самоуважения и связанные с этим межличностные проблемы, “Анонимные Алкоголики” эффективно работают с эмоциональной сферой и неспособностью заботиться о себе, побуждая людей делиться историями о том, как они стали жертвой своей пагубной страсти и как теперь возвращаются к нормальной жизни.
Если говорить прямо, мы (Mack, 1981; Khantzian and Mack, 1989, 1984) полагаем, что традиция АА рассказывать истории из своей жизни (их еще часто называют “алколoги” и “нарколoги”) на сознательном и бессознательном уровнях оказывает огромную помощь аддиктивным больным. Эти истории дают возможность и рассказчику, и слушателям увидеть, каким образом трудности в проявлении эмоций и неспособность позаботится о себе становятся причиной их жизненных неурядиц. Рассказывая свои истории, нередко красноречиво и с юмором, алкоголики становятся более восприимчивыми, открывают слабость своей сферы саморегуляции и обнаруживают, что их саморазрушающие характерологические защиты порождают значительную часть возникающих трудностей. Рассказанные истории демонстрируют участникам встречи, что они не способны осознавать, терпеть и выражать свои чувства, но поглощены обстоятельствами своей жизни, окружающими событиями и собственными действиями. “Алкологи” наглядно показывают характерную реакцию аддиктов: вместо того чтобы признать собственную неспособность управлять своими поступками и ухаживать за собой, они отрицают опасность, выказывают браваду, агрессивность и контрфобические действия (counterphobia). С другой стороны, их истории о выздоровлении показывают, что пациент осознал, как действуют его саморазрушающие защиты, понял собственную слабость и необходимость признать свою болезнь, а также зависимость от других людей как неизбежное и необходимое условие зрелой жизни.
Психотерапия
Наркоманы и алкоголики поддаются психодинамической психотерапии и нуждаются в ней. В противовес разным трюизмам и негативным стереотипам, утверждающим, что аддиктивные пациенты якобы не приходят на психотерапевтические сеансы, не соглашаются на лечение или не получают от него никакой пользы, у меня и моих коллег есть по меньшей мере двадцать лет опыта клинической работы и ряд эмпирических данных, показывающих, что подобный пессимизм безоснователен. Как было показано в начале статьи, индивидуумы, злоупотребляющие химическими веществами, способны лечиться и действительно вступают в терапевтические отношения в контексте психодинамического лечения — как в индивидуальной, так и в групповой форме. Проводимое лечение позволяет раскрыть характерологические защиты и выявить лежащую в их основе дефицитарность, исследовать и модифицировать защиты в контексте развивающихся индивидуальных и групповых отношений. Систематический обзор видов психотерапии для аддиктивных больных выходит за рамки данного доклада, однако в последней его части я хотел бы упомянуть ряд моментов, касающихся центральной идеи моего выступления о слабости функций саморегуляции у аддиктивных пациентов.
По моему мнению, мы добились прекрасных результатов в психотерапевтическом лечении аддиктов, поскольку (1) лучше поняли уязвимые стороны их психики и (2) изменили наши психотерапевтические техники в общем и в частности, для того чтобы лучше работать с этой уязвимостью. Традиционная пассивность, раскрывающие техники, белый экран и строгая интерпретация — все эти подходы, возникшие на основе психоанализа невротических пациентов, не годятся для понимания и трансформации уязвимости аддиктивного больного. Глубокая оценка и понимание проблемы развития людей с химической зависимостью показывают, что таким людям требуется гораздо бoльшая поддержка, структурность, эмпатия и человеческий контакт, чем может предоставить классическое психоаналитическое лечение. Соответственно, терапевтам следует быть готовыми к потребности аддиктивных пациентов в процессе индивидуальной и групповой терапии более активно определять характер самооценки, межличностных отношений, аффективной сферы и дефицита заботы о себе; необходимо также помнить о потребности таких пациентов в постоянном выявлении, прояснении и преодолении саморазрушающих защит, которые используются для маскировки или отрицания собственной уязвимости.
Основная идея нашей работы созвучна с работами Кристала, Вёрмсера, Додса и Люборски с коллегами и касается преимуществ фокусировки на глубинном, ядерном уровне уязвимости, что позволяет понять природу проблем, беспокоящих аддиктивных больных, и преодолеть их. Иными словами, такой подход делает основной упор на психологическую жизнь, на качество и природу аддиктивных расстройств и сопровождающих их мучительных переживаний, в противоположность более категориальным, диагностическим подходам или тем, которые делают основной акцент на динамике отдельной психопатологии. В работе Кристала уделено особое внимание условиям эмоционального дефицита и алекситимии. В ней указывается, что терапевт должен активно объяснять пациенту, что они оба по-разному воспринимают эмоции, и поэтому пациент должен помочь терапевту, распознавая и выражая свои эмоции. Вёрмсер (1987с) указал, что следует активно помогать наркоманам в понимании их проблем, вызванных чувством стыда и архаическим Супер-Эго, которое заставляет их повторять унизительные и саморазрушающие паттерны аддиктивного поведения, взаимоотношений и действий. Додс (Dodes, 1990; Dodes and Khantzian, 1991) уделил особое внимание состояниям беспомощности и реактивной нарциссической ярости, которые провоцируют рецидивы и требуют особого внимания терапевта. Вуди, МакЛеллан, Люборски и О’Брайан (Woody, McLellan, Luborsky, O’Brian, 1986) исследовали значимость ядерных тем конфликтных отношений. В нашем подходе мы выделили четыре области уязвимости сферы саморегуляции: область аффектов, самооценку, сферу межличностных отношений и способность позаботиться о себе; было показано, как дисфункция в этих областях провоцирует и поддерживает химическую зависимость. Для перечисленных выше подходов характерен акцент на активности, поддержке и эмпатии, а также убежденность в том, что активно-поддерживающие методы можно совмещать с экспрессивными подходами при анализе защит и областей психической уязвимости, которые пациент скрывает или маскирует.
Заключение
Для выбора наиболее эффективного подхода к лечению зависимостей необходимо постоянно концентрировать свое внимание на трудностях саморегуляции, которые испытывает пациент. В начале лечения необходимо делать упор на контроле, безопасности и комфорте, удовлетворяя подобные запросы, возникающие у пациента, в течение всего первого этапа лечения. Нам кажется, что клиницист с самого начала должен быть готов действовать как терапевт, оказывающий первую помощь; лишь тогда он сможет полностью удовлетворить существующие у пациента потребности. В дальнейшем, поскольку нельзя наверняка предсказать, какая модальность терапии и какие ее элементы дадут лучший результат, клиницисту следует наблюдать за реакцией пациента на лечение и гибко объединять терапевтические элементы, стремясь организовывать работу с аддиктивными проявлениями на краткосрочной основе, а удовлетворение терапевтических потребностей — на основе более долгосрочной. Так, например, некоторые пациенты настолько ригидны и не способны преодолеть алекситимию или патологические паттерны поведения, что следует планировать более длительное терапевтическое воздействие или активизировать программу самопомощи, а также предлагать психологическое обучение. В других случаях возникновение сопутствующей психопатологии, такой как тяжелое паническое расстройство или суицидальная депрессия, делает подход, ориентированный на самопомощь, малоэффективным или вовсе не пригодным. Необходимость расширенной программы, включающей в себя терапевтическое лечение от наркотической зависимости и воздействие на сопутствующую психопатологию, может в этом случае вынудить лечащего клинициста выступать в разных ролях. В другом случае выздоровление и психотерапевтические нужды пациентов лучше всего удовлетворяются творческим комбинированием различных терапевтических элементов. При этом клиницист не должен забывать о возможных “слабых местах” в структуре психики пациента, которые могут стать противопоказанием к использованию выбранного метода лечения; в этом случае их надо вовремя распознать, а затем рассмотреть альтернативные терапевтические подходы.
3. Компульсивность и конфликт:
различие между описанием
и объяснением при лечении
аддиктивного поведения
Леон Вёрмсер
Проблема аддиктивного поведения
Перед лицом клинической реальности меркнут все простые ответы на сложные вопросы, подобные проблеме аддиктивного поведения и его движущих сил. “Простое и единообразное не является истинным и вряд ли может таковым быть. Лишь то, что сложно, еще может быть истиной...” (Lagerkvist, 1966). Не существует такого феномена, который принято называть “болезнью алкоголизма” — в смысле единой нозологической единицы, имеющей одну определенную причину, форму протекания и поддающейся известному способу лечения (Fingarette, 1988). Нет такого понятия, как “аддиктивная личность”, для которой описана характерная динамика психических процессов и найден оптимальный лечебный подход, одинаково эффективный для всех. Нет линейной зависимости между конкретным набором причинных факторов и симптомами аддиктивного поведения. Не существует отчетливой связи между специфическими химическими зависимостями и аддиктивным поведением в целом, за исключением физических аспектов, связанных с действием конкретных наркотиков; однако и здесь нет явно выраженной связи между аддиктивным поведением и невротическим процессом. Лечение тяжелых форм неврозов, которые теперь часто относят к “нарциссическим” или “пограничным расстройствам” (Abend, Porder and Willick, 1983), и более мягких невротических проявлений не имеет глубокого принципиального различия. Проблемы, возникающие в процессе лечения пациентов с наркотической или алкогольной зависимостью, в значительной степени касаются особенностей протекания этих тяжелых форм неврозов (Wurmser, 1987c, 1988b).
Addictus (аддиктус) — это юридический термин, которым называют человека подчиняющегося, осужденного: “addicere liberum corpus in servitutem” означает “приговаривать свободного человека к рабству за долги”; “аддиктус” — тот, кто связан долгами (Stowasser, 1940).
Таким образом, метафорически аддиктивным поведением называется глубокая, рабская зависимость от некоей власти, от непреодолимой вынуждающей силы, которая обычно воспринимается и переживается как идущая извне, будь то наркотики, сексуальный партнер, пища, деньги, власть, азартные игры — то есть любая система или объект, требующие от человека тотального повиновения и получающие его. Такое поведение выглядит как добровольное подчинение (compulsion). Однако весь психоаналитический опыт говорит нам, что на самом деле во внешнем мире не существует неких принуждающих желаний или силы. Психоаналитик задается вопросом: “Что это за принуждающая сила, действующая на человека изнутри и формирующая его ненормальную, деструктивную привязанность к чему-то, что находится снаружи?”
Вопрос не в том, что скрывает завеса, сотканная из целого букета наркотических эффектов и бросающейся в глаза социальной девиации. Важнее знать, что за могучая сила самообмана смогла создать столь плотный занавес.
Работая с аддиктивными паттернами поведения, мы сталкиваемся с ярко выраженными избеганием и отрицанием, которые можно сформулировать так: “У меня нет никаких внутренних проблем. Все зависит от того, что происходит во внешнем мире, все можно исправить, если повлиять на внешний мир”; или: “Если бы я только мог избежать использования наркотиков (или иного неприятного поведения), все стало бы хорошо”. Отрицается какая бы то ни было связь внутреннего конфликта, внутренней реальности в целом с жизненными проблемами. Такое огульное отрицание своего внутреннего мира в течение длительного времени характерно для большинства наркоманов и алкоголиков, что ведет к безразличию, игнорированию любого вида интроспекции и категорическому и последовательному ее избеганию. Я называю такой стиль поведения психофобией.
Хотя в некоторых моих ранних работах динамика освещалась преимущественно с точки зрения анализа Эго, предлагаемый мною в этой статье подход опирается на анализ Супер-Эго. Эти два взгляда очевидно дополняют друг друга. Сначала я кратко остановлюсь на Эго-анализе динамики.
Слои специфичности
На самом нижнем уровне специфичности можно обнаружить следующие основные особенности аддиктивной динамики.
1. Наркотики постоянно используются в качестве искусственной аффективной защиты; они компульсивно употребляются для избавления от переполняющих человека эмоций. При использовании наркотиков всегда присутствует фармакологически подкрепленное отрицание и блокирование аффекта, что предполагает не только особую склонность к этим частным формам защиты, но и склонность к массивной аффективной регрессии (Krystal, 1970, 1974, 1977c). При этом просматривается некоторая связь между значимым аффектом и предпочитаемым наркотиком (Wurmser, 1974, 1978).
2. У большинства наркоманов обнаруживается фобическое ядро, инфантильный невроз, на котором основывается последующая патология — обычно с сопутствующими страхами (и желаниями), встроенными в различные структуры, ограничения, обязательства, сопровождающими физическую и эмоциональную близость и любые связи. В навязчивых поисках наркомана, как в зеркале, отражается компульсивное избегание объектов, характерных для фобического пациента. В то время как фобическое ядро собирает в одном объекте или в одной ситуации все, что представляет для фобического пациента угрозу или опасность, буквально переделывая всю его жизнь под избегание этого источника тотальной угрозы, наркоман делает прямо противоположное. Все содержание его жизни и стремлений, все то, чего он жаждет больше всего на свете и от чего зависит, также сосредоточивается в одном объекте или одной ситуации (Wurmser, 1980; (Wurmser and Zients, 1982).
3. Там, где есть фобии, всегда существуют защитные фантазии — персонализированные фантазийные защитные фигуры или обезличенные защитные системы, особенным образом уравновешивающие существующие страхи. Такой поиск защиты от фобического объекта и тревожной ситуации почти неизбежно приводит к компульсивной зависимости, как только находится подходящий фактор — будь то любовный партнер, фетиш, наркотик, система ритуальных действий или психоаналитик. В наиболее типичной ситуации наркотическая зависимость порождает защитную фантазию, которая лучше всего защищает от фобического ядра. “Защитники”, от которых у больного возникает зависимость, значительно переоцениваются; они становятся “нарциссическими объектами”, я-объектами и воспринимаются возведенными в крайнюю степень: всемогущий, всё дающий, всепрощающий, или, наоборот, всё разрушающий, всё осуждающий, всё отбирающий.
4. От чувства беспомощности в травмирующей ситуации и от неспособности контролировать переполняющие эмоции личность защищается “толстой коркой” нарциссизма — грандиозностью и самовозвеличиванием, презрением и холодностью, а иногда идеализацией и подчинением. Все это часто прикрывается поверхностной любезностью, дружелюбной уступчивостью и податливостью, привлекательным шармом “социопата”.
5. Разрываясь между страхом перед осуждающей и унижающей внешней силой и нарциссическими потребностями, имеющими защитную природу, идущими изнутри, личность приобретает поразительную нестабильность и ненадежность. Периоды высокой интегрированности и честности внезапно сменяются эпизодами безжалостной холодности и склонностью к криминалу. Противоречие может заходить настолько далеко, что мы обнаруживаем расщепленную или множественную личность. Этому соответствуют ярко выраженная разорванность чувства Я и общая неустойчивость. Именно ненадежность аддиктивных больных приводит в ярость окружающих; в то же время она унижает и ввергает в депрессию и самих аддиктов. Наблюдаемые “расщепление Эго” и “разорванность (отсутствие преемственности) Эго” не являются защитой, а представляют собой проявление функционального несоответствия и противоречий, возникших главным образом как следствие отрицания.
6. Острые, со страхом ожидаемые нарциссические кризисы или реальные разочарования в других или в себе обычно запускают лавину переполняющих аддикта аффектов, подталкивая его тем самым к компульсивному использованию наркотиков.
Следующим уровнем специфичности является высший уровень абстракции; он касается природы наиболее часто использующихся защит. Здесь я выделяю три специфических момента:
При использовании наркотиков всегда присутствует фармакологически подкрепленное отрицание и блокирование аффекта; это попытка убежать от переживаний и тем самым отгородиться от нежелательной внутренней и внешней реальности.
При всех видах тяжелой психопатологии, особенно при защите от травмирующей реальности и идущей изнутри агрессии, основной защитой является превращение пассивного в активное; при менее тяжелых формах невроза такую роль играет вытеснение, которое используется в основном при защите от давления либидо.
Посредством экстернализации “все внутреннее поле битвы становится внешним” (A. Freud, 1965). Экстернализация представляет собой защитную попытку прибегнуть к внешнему действию, для того чтобы продолжать отрицать наличие внутреннего конфликта.
Анализ Супер-Эго
В динамическом плане наиболее специфичным и наиболее важным для интенсивной терапии является развитие конфликтов внутри совести (Rangell, 1963a,b) и между различными идеалами; этот процесс запускает последовательность импульсивных действий деструктивного характера, часто включающих в себя компульсивное употребление наркотиков. В этом случае неизбежно требуется иной, отличный от обычного, подход к пониманию и лечению такого типа пациентов.
Я подробно остановлюсь на конфликтах совести, а также на непереносимых чувствах стыда и вины у подобных пациентов.
Потребность в разрушении успеха
Виктор, фермер тридцати с лишним лет, обратился за лечением тяжелой зависимости от кокаина и других наркотиков; он также хотел избавиться и от злоупотребления алкоголем. Зависимость развилась у него в подростковом возрасте. Родители Виктора были алкоголиками, устраивали дома бесконечные скандалы и постоянно дрались. Отец умер в сорок два года, причем одной из причин смерти стал цирроз печени; один из старших братьев погиб от передозировки наркотиков; другой брат также был алкоголиком. В течение восьми лет с длительными перерывами Виктор проходил курс психоанализа и психотерапии, всего около 600 сессий. Много времени было потрачено на исследование глубинного конфликта между стремлением достичь успеха там, где другие члены семьи потерпели неудачу, и желанием быть принятым такими мрачными фигурами из его прошлого, как покойные отец и брат. Таким образом, был установлен конфликт между противоположными идентификациями. Пациент вспоминал свое сознательное желание, чтобы его вечно ссорящиеся, раздражающиеся по пустякам, вспыльчивые и озлобленные родители — один или оба — умерли и были заменены лучшими людьми. Убежденность Виктора в том, что он не заслуживает успеха, коренилась в чувстве вины за скоропостижную смерть отца (самому Виктору в тот момент было 13 лет) и неожиданную гибель брата (в тот период Виктор был с ним очень близок). Он также винил себя за постоянное чувство гнева и презрения по отношению к матери, вздорной женщине и горькой пьянице.
И все же психоанализ — это искусство конкретного. Конкретный эпизод лунатизма у дочери от первого, неудачного, брака с женщиной-алкоголичкой, напомнил Виктору о похожих эпизодах из его детства. Его лунатизм был связан с ночными кошмарами или состояниями диссоциации, в которых его окружали и преследовали огромные, угрожающие белые птицы. Они носились вокруг него и атаковали его на лету. Пациент сам связал этот образ со сценой полового акта родителей. На одной из сессий он вспомнил, как подкрадывался к родительское спальне — “точно так же, как моя дочь сделала это прошлой ночью”. Он вспомнил, как очень хотел туда войти, но постоянно боялся и лишь иногда пересиливал свой страх. При этом маленького Виктора посещали фантазии, что отец яростно ссорится с матерью и может ее убить, поэтому он, Виктор, должен войти и защитить мать, убив отца. Однако маленький Виктор не мог двинуться с места, парализованный страхом: “Я онемел, заледенел от ужаса. Это было, как если бы именно я сам убил своего отца. А к матери у меня были другие чувства: “Я ненавижу тебя и ненавижу себя за то, что стал причиной смерти своего отца”. Как будто это была моя воля, как будто он умер по моей вине... “Пусть Господь избавит тебя от слепоты!” (сессия 368).
Через несколько сессий Виктор вернулся к своим воспоминаниям о смерти отца, причиной которой считали инсульт (отец был гипертоником и, хотя ему было всего сорок два года, врачи обнаружили у него сердечную недостаточность и цирроз печени в тяжелой форме). Любопытен следующий факт, касающийся смерти отца. Пациент играл в то утро с другом вдалеке от родительской фермы. Мать нашла его и спросила, не видел ли он отца, которого сама она уже давно не может найти. Виктор ответил так: “Ты смотрела в ванной?” Мать пошла в ванную и обнаружила отца, лежащего на полу мертвым.
“Почему я сказал ей именно так? Откуда мне было знать? Но ведь я все же знал!” Чем больше Виктор размышлял над этим странным фактом, тем более убеждался в том, что рано утром, поднимаясь по лестнице к себе в комнату, он слышал глухой удар в одном из помещений на первом этаже. Быть может, он даже спустился вниз проверить и обнаружил что-то подозрительное или зловещее (неясно, видел ли пациент на самом деле своего отца лежащим на полу, видел ли капающую у того из ушей кровь — образ, который живо обрисовал сам пациент — или просто услышал нечто, испугавшее его). Вместо того чтобы что-то предпринять, Виктор ушел подальше от дома, к амбару, как будто стремился избежать встречи с тем, что произошло. И все же его восприятие функционировало в достаточной степени для того, чтобы сказать матери, где он видел отца: “Я знал, что что-то было не так, но заблокировал это чувство в тот же момент, как ощутил его; я тут же его отбросил. Позднее я почувствовал вину за то, что ничего не сказал. Быть может, отцу еще можно было помочь!”
После того как “тайна всей жизни” была раскрыта и озвучена, пациент почувствовал большое облегчение, будто тяжелая ноша свалилась с его плеч. Вскоре он решил прекратить анализ, который к тому времени длился уже два с половиной года (400 часов). Он возобновил лечение пять лет спустя, два-три раза в неделю, на кушетке. Спустя восемь лет после начала лечения пациент чувствовал себя в полном порядке, практически полностью воздерживался от кокаина и других наркотиков и постепенно перестал употреблять марихуану и алкоголь. К тому времени он управлял своей фермой практически самостоятельно и действовал весьма успешно. Еще через восемь лет Виктор заболел “стойким гриппом” со странными симптомами. Через месяц ему поставили диагноз СПИД; к сожалению, обычное лечение с помощью AZT и аналогичных препаратов представляло для него опасность вследствие серьезных поражений печени.
Я продолжаю видеться с ним регулярно, мы работаем над его внутренними и внешними проблемами, вызванными терминальной болезнью. Как-то он сказал мне: “Я разочарован: я вылечил себя работой и психотерапией и вдруг опять заболел, на этот раз физически. Это просто несправедливо. Впрочем, я сам навлек на себя эту болезнь, хотя и не осознавал этого. Такая жестокая ирония. Я опять борюсь со смертью. Это пугает. Я должен сполна заплатить за свои грехи”.
Защита от совести
Ингмар, наркоман с полинаркотической зависимостью, так прокомментировал свое чувство стыда: “Я чувствую себя незащищенным, находясь среди людей — на работе, в школе, на службе в церкви, стоя в очереди или прогуливаясь в общественном месте, но особенно — отправляясь на собеседование. То же самое я испытываю, когда выражаю чувства по отношению к матери или признаюсь в кругу семьи, что не чувствую себя комфортно за общим столом. Все это как обнажение, стыд какой-то. Когда я начинаю говорить, то теряю ход мысли, боюсь, что скажу какую-нибудь глупость”. Затем у пациента возникает чувство досады за стыд, смущение за собственную неспособность говорить и думать. Кокаин помогает Ингмару вновь ощутить контроль над своей жизнью; это мощное противоядие, способное справиться с мучительным чувством унижения. Аналогичным образом на него действует алкоголь: “Когда я не довожу до конца работу, когда чувствую свою безответственность, спиртное помогает мне забыть об этом. Без него чувство вины становится просто непереносимым”. Кокаин специфически противодействует чувству стыда, алкоголь — чувству вины. Это не просто стремление найти для себя легкое оправдание — “быть чересчур совестливым слишком тяжело, просто невыносимо”. Наркотики помогают убежать от совести.
Во время эпизодических состояний смутного напряжения у пациента возникало ощущение кризиса, которое выливалось в импульсивные действия; в это время внутри начинал звучать властный внутренний голос, требуя от него соответствия недостижимым идеалам. Такое невыносимое давление вызывало у Ингмара тревогу; его мучило горькое чувство вины или стыда, поскольку он не мог удовлетворить эти требования. За этим следовал своего рода вызов на бой, заканчивающийся временным ниспровержением одной из частей обременительной фигуры внутреннего авторитета. В фантазиях Ингмар надеялся достичь своей идентичности, свободной от этого внутреннего тирана (Rangell, 1974, 1980).
За подобной компульсивной, временной и саморазрушающей победой над собственной совестью с динамической точки зрения стоит защита против Супер-Эго (Freud, 1924).
Когда я начал работать с Ингмаром, ему исполнилось 26 лет. Это был дородный, исключительно приятный разведенный мужчина, который привлекал своим простодушием и мягкостью. Будучи обычным рабочим, он отличался острым умом и умел хорошо говорить. В семье пациент был вторым из пяти детей. У него был старший брат и три младшие сестры, все рождены с двух- или трехлетним интервалом. Говорили, что его старший брат приставал к двум сестрам, когда нянчился с ними.
И отец, и мать были яркими, интеллигентными и успешными людьми, отец — в общественной жизни, мать — в сфере здравоохранения. Ингмар говорил о них как о заботливых родителях, которые, тем не менее, упорно избегали любого проявления чувств и терпеть не могли открытых разговоров, имеющих негативную окраску, например, о трудностях или неудачах. Отец всегда находился в позиции осуждающего: “Казалось, он нападает на всех и каждого; у любого человека он находит ошибки. В то же время нас он никогда не донимал. Но как это ему удается по отношению к нам, если он так критичен к другим людям? Я говорю ему только то, что он хочет услышать” (сессия 37). “Мать мила и ласкова, но ее ничто не трогает. Если я пытаюсь обнять ее или сказать, как я ее люблю, она ничего не отвечает и отворачивается от меня”.
Пациент был застенчивым, пугливым ребенком, в 4 года боялся ходить в детский сад, а позднее — в начальную школу, никогда не мог “реализовать свой потенциал”, о чем ему настойчиво твердили учителя. Они упрекали его: “Почему ты не можешь работать так, как твой брат?”
Когда Ингмар учился во втором классе, он постоянно включал в здании пожарную сирену. Все, кто находился в здании школы, эвакуировались, приезжали пожарные машины. Эти повторяющиеся успешные “эксперименты”, в которых его роль оставалась незамеченной, дали ему чувство магической власти, стали средством, способным избавить его от чувства глубокого стыда и обиды за свою слабость и неполноценность.
Однажды в старших классах школы Ингмар украл у учителя классный журнал и исправил там поставленные ему плохие оценки. Проделку заметили, сообщили родителям, и те организовали для него встречи с детским психиатром, которые продолжались сравнительно недолго.
Отучившись в колледже первый семестр, Ингмар вместе с друзьями начал подрабатывать случайными заработками. Однажды вместе со своим недавно уволенным другом Ингмар устроил небольшой погром, выбивая окна у машин, грузовиков, а затем в конторе по набору новобранцев в армию и в супермаркете. Одним из мотивов этого поступка было желание взять реванш над теми, кто уволил его друга. Однако в первую очередь моего пациента вело стремление отплатить тем людям, кто был добр к нему самому, но от которых постоянно исходило сильное давление, вынуждающее его из кожи вон вылезать для того, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. В тот момент Ингмар находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его арестовали и направили к психиатру, вновь без особой пользы. В последующие семь лет пациент почти все время пил и часто употреблял кокаин. Он избегал принимать марихуану и ЛСД, которые вызывали в нем чувство потери контроля. Заядлый коллекционер оружия и охотник, он вынужден был продавать лучшие экземпляры из своей коллекции, для того чтобы покупать себе наркотики.
После того как Ингмар около года оставался без работы “из-за приступов паники и низкой самооценки”, он подумал: “Мне все же нужно подтянуться. Что бы такого попытаться сделать? Было ощущение, что меня как бы подталкивало изнутри; но тело перечило всем моим планам. Мне всегда безумно хотелось быть кем-то, кого люди могли уважать. И в то же время я не мог принять, когда меня на самом деле уважали. Я сам принимаю установку на поражение”.
Помимо чувства тревоги, часто сопровождавшего его в детстве, пациент описывал мне “самую унизительную вещь, которая когда-либо со мной случалась”: в возрасте пяти лет отец дважды отшлепал его по голой попе; в первый раз за кражу игрушечного пистолета, во второй — за то, что обижал маленькую девочку.
Нами была отмечена довольно типичная последовательность:
1. Пациент постоянно находится под сильным внутренним давлением: “Я слишком критичен по отношению к себе, гораздо критичнее других. Часто я не начинаю нового дела, потому что говорю себе: “Все равно успеха не будет!””
2. Добиваясь некоторого успеха, пациент ощущает “фантастичность” происходящего.
3. Затем внезапно и необъяснимо им овладевает измененное состояние сознания, транс; он чувствует себя одиноким, нелюбимым и униженным. Его переполняет чувство вины или стыда, парализует чувство паники.
4. Это состояние вынуждает его импульсивно искать избавление в алкоголе или кокаине.
5. Перед тем, как впасть в длительную депрессию с суицидальными проявлениями, пациент неистово взывает о помощи, испытывает чувство глубокого раскаяния и занимается самоуничижением.
6. Со временем пациент достигает точки освобождения и релаксации: “Я прощен, мне дозволено вернуться”. Он прилагает все усилия, пытаясь быть хорошим и преодолеть свое “демоническое начало”. Пациент вновь подчиняется “внутреннему судье” или “внутреннему диктатору”, и цикл повторяется.
Отрицание, блокировка восприятия реальности играет для пациента настолько важную роль, что мы можем с полным основанием говорить о расщеплении личности. Пациент как будто становится одержимым злым демоном, который берет над ним власть.
И все же откуда возник этот немыслимый груз совести, эта внутренняя сила, которая извращает любые намерения, разрушает любые планы, превращая их в сокрушающие команды, категоричности которых пациент не в состоянии долго противостоять? Каждое решение, принятое Эго, в тот же момент трансформируется в команду Супер-Эго.
Ингмар считает, что “из-за этого диктата, который контролирует мою жизнь, возникает тяга к кокаину: когда я употребляю кокаин, то могу контролировать себя. Пусть это временное и воображаемое состояние, но хоть на некоторое время я чувствую себя хорошо”. Ничего из того, что он планирует или делает, не может избежать превращения в ультимативный приказ, данный внутренним диктатором. Следовательно, вопрос звучит так: “Почему я становлюсь настолько плохим, когда не выполняю внутренние команды? Почему внутреннее руководство должно принимать форму абсолютного диктата?” (сессия 40).
Данный вопрос возвращает нас к одному глубоко вытесненному и все же не теряющему своей значимости конфликту: в нем явно противостоят потребность принадлежать и потребность быть собой, принадлежность и поглощение против сепарации и индивидуации. Самый острый и в клиническом отношении наиболее значимый вариант конфликта, связанный с объединением и отделенностью, состоит в следующем: “Если я отделюсь, то причиню боль или убью другого; в свою очередь, отделившись, я должен буду умереть”. Проблема вины за сепарацию, “отсутствие права на свою собственную жизнь” (Modell, 1984) часто является важным мотивом в тяжелой патологии. Ее противоположностью будет: “Если я пассивен и зависим, то не могу ничего контролировать, не могу контролировать себя; я — ничто, следовательно, мне должно быть глубоко стыдно за себя”. Таким образом, два противоположных чувства — огромное чувство вины за сепарацию и не менее глубокий стыд за собственную зависимость — формируют одну из базовых полярностей в структуре совести.
А что же можно сказать об интенсивном чувстве стыда, которое испытывает Ингмар? “Семейная структура больна, — сказал он мне однажды. — У каждого есть свои секреты и каждый медленно умирает изнутри. Родители не хотят знать, что мой брат не только приставал к сестрам, но фактически вступал с ними в половую связь, а затем требовал от них молчания, угрожая расправиться с третьей, младшей сестрой, если его тайна будет раскрыта” (сессия 86).
Другая область секретности и отрицания касается ранней жизни отца. Хотя об этом почти ничего не известно, пациент намекнул, что во время войны отец пережил опыт, который считает позорным. Он был членом группы “коммандос”, которая проводила диверсионные операции в тылу врага в Корее. Ему приказали взорвать мост, предварительно сняв часового. Когда отец расправился с часовым, он обнаружил, что убил женщину. Такова первая тема, которой нельзя было касаться. Еще одна тема имела отношение к другой трагедии, произошедшей с его родственниками: за полгода до начала терапии его бабушка по линии матери была убита другом ее душевнобольной дочери. Парень убил старую женщину после того, как та отказалась снабжать дочь деньгами, специально оставленными для этого покойным отцом. Третья запретная тема была связана с безудержным, порой фатальным алкоголизмом, которым отличались обе линии его родственников.
Можно спросить, насколько отравляют семейную атмосферу эти скрытые темы вины, стыда, равно как постоянная закрытость и молчание; до какой степени губительный для Ингмара внутренний судья подпитывается от скрытых в семье чувств вины и стыда?
Есть основания полагать, что внезапные переключения в настроении Ингмара и, следовательно, инициируемая последовательность импульсивных действий запускаются обострением чувства тревоги. Говоря точнее, это происходит, когда он обнаруживает себя поставленным перед неразрешимым конфликтом — между взаимоисключающими обязанностями, преданностью двум противоположным сторонам и, что имеет особенное значение, между подчинением некоей обязанности, с одной стороны, и его собственной гордостью или желанием быть верным себе — с другой. Примерами тому являются конфликты между благодарностью к своему работодателю и негодованием по поводу необъяснимого унизительного обращения, которым тот третировал Ингмара и его сослуживцев; между обязанностями ходить на психоанализ и продолжать свою деятельность на работе; или между покорным подчинением власти отца, безоговорочным признанием проповедуемых им традиционных ценностей и потребностью уважать себя и ожидать такого же уважения от других. Именно эти, без сомнения острые, противоречия внутри Супер-Эго между попытками защитить одну часть Супер-Эго от другой оказывают определяющий эффект, приводящий к импульсивным действиям.
Спустя одиннадцать месяцев после начала анализа (к тому времени прошло 172 сессии) мать пациента внезапно и без предварительного уведомления заявила, что по окончании месяца она больше не будет платить за анализ*. Ингмар сказал: “Моя мать говорит, что у массы людей в мире есть проблемы, с которыми они так или иначе справляются. Моя ситуация ничем не отличается от других. Психоанализ — это роскошь. С ней невозможно было спорить. Она не понимает всей тяжести моих проблем”. Сразу вслед за этим пациент вновь вошел в регрессивный штопор, не проявлявшийся до этого в течение девяти месяцев, с неконтролируемым употреблением алкоголя и наркотиков и потерей работы. Его семья продолжала настаивать на прекращении лечение у меня и переходе на бихевиоральную терапию и медикаментозное лечение. С тех пор я больше ничего не слышал об этом молодом человеке.
Возвращение отрицаемого
Попытка решить конфликт с помощью наркотиков и — в более общем случае — с помощью аддиктивного поведения представляет собой ненадежный способ, причиняющий человеку вред. Непригодность этого способа проявляется в постепенном “возвращении отрицаемого” (Waelder, 1951). То, от чего выбранное решение должно было избавить, появляется вновь — в искаженной форме, но гораздо сильнее и в более примитивном исполнении, чем первоначальная реальность. Не вдаваясь в подробности, я опишу возможные пути, по которым формируются защиты против Супер-Эго и происходит возвращение отрицаемого.
1. Вместо того чтобы стремиться к достижению своего идеала, пациент ищет состояние удовлетворения идеала, грандиозности и умиротворения здесь и теперь.
2. Вместо того чтобы обладать внутренней самокритичностью и при необходимости наказывать себя изнутри, пациент провоцирует получение наказания извне.
3. Вместо тонко настроенной, функционирующей способности к самонаблюдению присутствует постоянная готовность чувствовать стыд и унижение перед другими людьми, которые эти чувства провоцируют.
4. Вместо того чтобы принять ограничения, которых требуют реальность и принятые ранее обязательства, пациент одновременно и бежит от них, и ищет их. Он не переносит ограничений и в то же время парадоксальным образом их домогается.
5. Не заботясь о себе и пренебрегая самозащитой, которую способна дать внутренняя власть Супер-Эго (Schafer, 1960; Khantzian, 1978, 1987; Khantzian and Mack, 1983; Krystal, 1978c, 1982c), он безрассудно пренебрегает собственной безопасностью и выживанием, тем не менее делая все, чтобы другие приняли на себя заботу и ответственность о нем.
6. Вместо внутренней стабильности, которую дает авторитет Супер-Эго (Jacobson, 1964, 1971), налицо неожиданные колебания, абсолютная эмоциональная ненадежность; в то же время наблюдается страстное стремление к некоему внешнему человеку, заслуживающему доверия, который, в свою очередь, никогда не разочаруется в пациенте за то, что тот злоупотребил его доверием (Wurmser and Zients, 1982).
Что скрывается за этим компульсивным, временным, разрушительным для человека низвержением совести? Для ответа необходимо вернуться на шаг назад и расширить свой взгляд на этот вопрос, подойдя к нему с эпистемологической точки зрения: причинность какой природы характерна для психоанализа (Grunbaum, 1984) и какое место проблема компульсивности занимает в причинных связях?
Центральные феномены невротического процесса —
скачок от описания к объяснению
Исследуя свой опыт работы с пациентами, страдающими тяжелыми формами аддиктивного поведения, мы обнаружили, что понятие “аддиктивное поведение” синонимично понятию тяжелой “компульсивности”, в том смысле, что оно связано с внешними факторами и приводит к тяжелым и разрушительным для больного последствиям (Wurmser, 1987b,c).
Компульсивность включена в саму сущность невротического процесса. И здесь мы вынуждены вновь обратиться к обсуждению проблемы описания и объяснения: какие отличительные признаки, слабо выраженные при мягких формах невроза, но проявляющиеся значительно сильнее и острее при тяжелых неврозах и “пограничных” состояниях, свойственны невротическому процессу вообще? В чем суть невротического процесса? Что мы можем описать как невротические проявления или — в более общем случае — как “болезнь”, не пытаясь при этом объяснить наблюдаемое? Что мы, как психоаналитики, рассматриваем в нашей работе и, следовательно, в нашей теории как причину и какова эффективность наших интервенций в том смысле, что они изменяют баланс причинных факторов таким образом, что и пациент, и психоаналитик могут признать эффективность работы в долгосрочной перспективе?
Первый и самый главный критерий я уже отмечал. Как подчеркивал Куби (Kubie, 1954, 1978), визитной карточкой невротического процесса является его компульсивность — ненасытность, автоматичность и бесконечная повторяемость. Второй критерий заключается в поляризации противоположностей, разделении всех оценок по полюсам: плохое и хорошее, чистое и нечистое, святое и демоническое, Бог и Дьявол, любовь и ненависть, вера и неверие — в их крайних проявлениях.
Близко связан с этим и третий критерий — чувство абсолютности и глобальности большинства переживаний, требование тотальности эмоционального или когнитивного понимания себя и мира. Желания и аффекты имеют исключительно подавляющий, глобальный, всеобъемлющий характер; при этом невротик не способен держать все это в себе. Иными словами, наблюдается эмоциональный перехлест в оценке себя или других; границы невротика размыты или разрушены, и он способен переступить их при оценке окружающего мира, в своей правдивости или в поступках, основанных на своих крайних оценках и суждениях.
Эти три характеристики являются основными в описании любого невротического процесса и бросаются в глаза у глубоко регрессировавших пациентов. Вместе с тем каждый из этих описательных критериев представляет собой не только одну из основных невротических характеристик, но также обманчиво используется в качестве объяснения того, с чем мы сталкиваемся в ситуации тяжелого невроза. Первый критерий, повторяемость, был определен в форме “навязчивых повторений” или в несколько иной форме “первичного мазохизма” или “инстинкта смерти”, и все то, что не подвергалось успешному психоаналитическому лечению, списывалось на эту загадочную и, вероятнее всего, врожденную силу.
Напротив, второй, имеющий описательную ценность, критерий полярности и крайних дихотомий принимается и отливается в форму концепции “расщепления”, которую предполагается использовать в качестве основного инструмента объяснения.
Третий критерий — это нарциссизм, черты которого характерны для любого невроза — иногда в большей, иногда в меньшей степени. И этот феномен из описательного критерия превратился в важную причину невроза: основные проявления нарциссизма и глобальности, особенно желание всемогущества, грандиозность и возвеличивание, были объявлены базовыми факторами, объясняющими невротический процесс, по крайней мере, для большой группы тяжелых пациентов. В модели эго-психологии феномены глобальности и абсолютности были отнесены на счет предполагаемой “денейтрализации” психической энергии.
Очевидно, что каждая из объясняющих моделей, представленных, например, у Мелани Кляйн, Кернберга, Кохута и приверженцев эго-психологии, отражает важную часть истинного положения дел; противоположные взгляды дополняют друг друга. Однако эти авторы не правы, перескакивая с описания на объяснение. Они заканчивают там, где работа только должна начаться. Пациент, услышав о том, что в основе его проблемы лежат эти три критерия, ответит: “Я все это знаю. Именно от них я и страдаю. Именно поэтому я и пришел к вам. А вы говорите мне, что я просто должен это принять. Проблема в том, что я не могу принять это и не понимаю, почему я должен это сделать. Пожалуйста, помогите мне найти истинную причину: почему я подчиняюсь всему этому, почему живу, раздираемый такими крайностями, чувствуя, что внутри у меня все разрывается на части, почему я ощущаю себя раздавленным под грузом своих чувств, которые буквально захлестывают меня, как ураган?”
Вопрос остается открытым: что есть истинное объяснение в психоаналитической работе? Где следует остановиться, исследуя вопрос внутренней причинности? Что есть решающий, преобразующий инсайт и, следовательно, каковы наиболее эффективные интерпретации причин?
Я бы хотел обратиться еще к одному случаю, который будет иллюстрацией к тем ответам, к которым я подойду чуть позже, — к случаю “аддиктивного поведения” иного типа. Здесь мы имеем завершенный анализ, что позволит внимательнее изучить лежащую в основе случая динамику.
Компульсивность при совершении адюльтера
Около двенадцати лет назад я консультировал одну даму в возрасте сорока лет, которая в течение очень долгого времени была вовлечена в целую цепь рискованных любовных связей, остававшихся тайной для других. Замужество с человеком гораздо старше ее можно было бы назвать счастливым, однако пациентке в жизни недоставало какого-то особенного возбуждения и волнения. Она открыто признавалась, что хотела получать настоящее удовольствие, и негодовала по поводу своего “банального” замужества, сводившегося к домашним заботам, воспитанию двух детей и обычной работе. Будучи же вовлеченной в серию любовных приключений и сопутствующих им событий, она чувствовала вину и впадала в депрессию вслед за ликованием и триумфом по поводу очередного успеха в сексуальных отношениях. Она также периодически злоупотребляла алкоголем и совершала “оргии покупок”, которые, по ее собственному описанию, носили аддиктивный характер. Однако в этом примере я хочу остановиться именно на проблеме “любовной аддикции”.
Пациентка была единственным ребенком в семье. Ее отец, интеллектуальный и энергичный человек, был при этом неудачником и алкоголиком. Свою мать пациентка описывала как капризную, эгоистичную женщину, которая вечно жаловалась на то, что рождение ребенка после ряда абортов искалечило ее. На протяжении нескольких месяцев после рождения дочери мать была не в состоянии заботиться о ней, и длительное время обе находились в больнице.
Отец и мать пациентки жили фривольно, предаваясь увеселениям, оба позволяли сексуальное обольщение по отношению к дочери и в то же время проявляли к ней жестокость и отвергали ее. С раннего детства пациентка активно занималась мастурбацией; процесс сопровождался фантазиями, в которой два мужчины или мужчина и чудовище борются за обладание ею; в конце концов, один соперник убивал другого, и пациентку отдавали победителю в качестве приза.
Анализ этой женщины проходил исключительно сложно. Много раз он прерывался, был наполнен отыгрываниями и интеллектуальными инсайтами, которые практически не влияли на поведение пациентки, опасное в эмоциональном, социальном и физическом аспектах. Когда ее муж умирал от рака прямой кишки, женщина была вовлечена в длительную любовную связь с его лучшим другом. Она поддерживала сексуальные отношения, хотя все больше укреплялась в подозрении, что ее любовник являлся бисексуалом и был инфицирован. Подозревая, что этой инфекцией может быть СПИД, она, тем не менее, не прекратила половых контактов. Приблизительно в это же время она вступила в любовные отношения с женатым мужчиной, и это несмотря на то, что новый любовник позволял себе чудовищно лгать своей жене, а впоследствии и самой пациентке. Когда первый любовник умер от СПИДа, она с удивлением, узнала, что, хотя и была на протяжении нескольких лет единственной женщиной, с которой он вступал в интимные отношения, так происходило не потому, что пациентка была для умершего какой-то особенной фигурой, а потому, что тот не хотел заражать свою жену и других женщин. Но, несмотря на эту трагическую смерть, пациентка не смогла прекратить столь же опасные и унижающие ее отношения с другим человеком. В конечном счете, мы оба должны были признать, что пока она будет продолжать свои любовные похождения, аналитическая работа обречена на неудачу.
Спустя год после этого разговора и через семь лет после начала анализа женщина вернулась ко мне, чтобы завершить психоаналитическую работу. Пациентка пребывала в страшной ярости — незадолго до этого она прервала свой очередной роман, когда увидела, что ее вновь обманывали самым беспардонным образом.
До того момента необузданное отыгрывание пациенткой своего возмущения и собственное возвеличивание по сложному нарциссическому сценарию с двойной реальностью и массивным отрицанием понималось как проигрывание триадической сцены. Все симптомы, казалось, имели прямое эдипово начало с повторяющимся триумфом над соперницей и успешным завоеванием запретного мужчины. Однако впоследствии обнаружилось, что и в детстве, и во взрослой жизни пациентка рассматривала свои гениталии как тайное богатство, имеющее боґльшую ценность, чем любой фаллос. Теперь мы знали, что сцена с проигрыванием триадического взаимодействия имеет абсолютно иную суть.
Фантазии пациентки, сопровождающие мастурбацию, содержали в себе образ битвы, во время которой она превращалась из жертвы в приз победителя. В этой фантазии была скрыта тема мазохистского насилия, где пациентке отводилась роль жертвы, страдающей стороны. Только соглашаясь терпеть боль, унижение, равнодушие и даже презрение, она могла рассчитывать на принятие со стороны своей холодной, отстраненной матери; только позволяя отцу его садистские приставания и нападки по отношению к ней, она могла стать для него предметом восхищения и получить его физическую близость. Страдание, таким образом, было условием принятия, любви, привязанности и уважения. Но это было еще не все. Как в других случаях мазохистских извращений, здесь существовал сложный слой отрицаний и отмен; наиболее активно пациентка пыталась изменять реальность с помощью всемогущих магических средств, как бы говоря: “Если надо мной совершат насилие, я трансформирую страдание в удовольствие, тревогу в сексуальное возбуждение, ненависть в любовь, разделение в слияние, беспомощность в могущество и возможность мстить, вину в прощение, стыд в триумф, пассивность в активность” (см. также Novick and Novick, 1978, 1991; Wurmser, 1993). В случае явной мазохистской перверсии человек идет на страдание сознательно, а цель трансформации остается бессознательной. В деструктивном для пациентки отыгрывании любовной зависимости и, возможно, других зависимостей страдание вместе с реакциями Супер-Эго вызывают защиту против себя; только видимая победа, успешный триумф, нарциссическое возвеличивание и грандиозность выступают в проявленной форме.
За эдиповыми конфликтами, за “анальными” конфликтами в сфере власти и контроля, за конфликтами вокруг слияния, индивидуации и самоутверждения вырисовывается проблема, которая вряд ли может быть выражена словами, но тем не менее должна быть проиграна в бессловесных вариантах мазохистского сценария: лучше отдаться и испытать боль, чем быть отвергнутой, остаться в изоляции и одиночестве, беспомощно переживать горе, испытывать чувство потери и ужас брошенности — целую бурю чувств, которую невозможно удержать никакой символизацией. Гневное вызывающее поведение пациентки, ее нарциссическое возвеличивание и злость, ее стремление “показать нос” внешней и внутренней власти — все это было прежде всего попыткой защититься от ужаса и боли своей глубокой сепарации, уходящей корнями в первые месяцы жизни.
Только анализ этой подспудной мазохистской фантазии и стоящих за ней конфликтов снял компульсивное отыгрывание. После этого мы смогли завершить анализ в течение двух месяцев.
Ядерные конфликты
Каковы были в описанном случае конфликты, проявившиеся в фантазиях и компульсивных, “нарциссических” повторяющихся действиях пациентки? Ниже я кратко отмечу наиболее значимые из них.
Хотя пути к самой цитадели невроза, особенно в подобных тяжелых случаях, могут пролегать через множество крепостных ворот, я обнаружил, что весьма полезным может оказаться путь через конфликты в структуре Супер-Эго. Следует обратить особое внимание на конфликты между противоположными требованиями совести, между противоречивыми идеалами, договоренностями и обязательствами; через все это можно относительно быстро добираться до напряженных внутренних конфликтов. Как это часто случается, у моей пациентки Супер-Эго стало хранилищем жестокости и ужаса, связанных со всеми выстраданными и пережитыми ею младенческими травмами; здесь же хранились следы борьбы против этих страданий.
Как и в первом случае, у пациентки существовали тяжелые конфликты между разнообразными привязанностями: по отношению к каждому из родителей, которые часто и ожесточенно выясняли друг с другом отношения, а также по отношению к другим родственникам, которые функционировали в ее мире как “греческий хор”, предупреждая ее родителей “по ходу пьесы” об их распутстве, небрежности и своенравности. Голоса родных с обеих сторон были повторены пациенткой — ее действиями!
Я также должен упомянуть о противостоянии между виной и стыдом. Совесть стала палачом, представляющим архаические версии вины и стыда, и поэтому драматически расщепленной. Изначально стыд и вина являются антитетическими чувствами: стыд относится к слабости и беспомощности, вина — к силе и власти. Их невозможно совместить. В ее случае дилемма была предположительно решена последовательными попытками превратить слабость и унижение в их противоположность, сделать пассивное активным. Она навязывала другим то, от чего страдала и чего боялась сама, неизбежно отягощая себя тяжелым чувством вины — в реальной жизни.
Помимо центральной мазохистской фантазии еще две фантазии имеют отношение к упомянутым конфликтам в структуре Супер-Эго.
Первая фантазия придавала всем типам границ и ограничений, а следовательно и самому Супер-Эго, смысл закрытой ловушки. Потребность вырваться из этой ловушки вызвала неудачную попытку побега от собственной совести.
Вторая ядерная фантазия пациентки, в которой нарциссизм проявился сильнее всего, утверждала, что, стирая границы в межличностных отношениях, достигая слияния с другими и исключив различия между полами, пациентка могла бы добиться чувства искупления. В этой нарциссической фантазии она искала облегчения от мучительного давления Супер-Эго, пытаясь защитить себя от глубокой травматической беспомощности.
Нарциссические проблемы и нарушения всегда связаны с конфликтами в структуре Супер-Эго. С клинической точки зрения гораздо полезнее лечить нарциссические конфликты как результат конфликтов внутри Супер-Эго, а не наоборот — рассматривая нарциссические нарушения в качестве фундаментальных.
Сказанное мною свидетельствует о наличии другого конфликта, глубоко вытесненного, но тем не менее обладающего сильным воздействием как в случае этой женщины, так и в случае Ингмара: это явное противостояние между потребностью принадлежать и потребностью быть собой, сепарация и индивидуация против принадлежности и поглощения.
Сильнейшая эдипальная конкуренция сконденсировалась у пациентки в ощущении себя “третьей лишней” и в фантазийных сценариях, направленных на изменение этого состояния. Желание иметь отца для себя, стать его женой и убить для этого мать осталось локализованным близко к сознанию; развитие этого желания не снизило компульсивность ее повторяющихся действий. Этому желанию противостоял гнев на отца за его пренебрежительное отношение к матери и к самой пациентке.
В этом контексте главным в фантазии пациентки было возмущение, повторяющееся переживание (ressentiment): “Меня обманули. Я была послушной и ожидала справедливости, а получила прямо противоположное”. Эта фантазия привела к изощренным попыткам через воображение и через действие восстановить баланс справедливости, исправить обиду, свергнув несправедливую власть как внутри, так и снаружи (Wurmser, 1988 a,b).
Все эти конфликты приобрели свою вирулентность из конфликта, их превосходящего. Прояснение этого четвертого элемента и его воплощения в скрытой мазохистской фантазии позволило сложить последние компоненты головоломки и привело к редукции, а, может быть, даже к полному исчезновению у пациентки компульсивных действий.
Это был конфликт исключительно архаической природы, конфликт между сталкивающимися между собой непереносимыми аффектами, с которыми пациентка не могла совладать: подавляющий ужас отделенности, одиночества, непривязанности — с одной стороны, чувство стыда и гнева — с другой. В то же время это был конфликт между склонностью к сползанию в пучину мучительных, переполняющих ее чувств и аффективных импульсов и безнадежными попытками их контролировать.
Складывается впечатление, что подобные подавляющие аффекты являются своего рода психоаналитической базальной породой, низовым слоем, над которым не властны ни вербальное, ни символическое (Lichtenberg, 1983; Stern, 1985).
Эмоциональное смятение, от которого пациентка защищалась по сценарию с компульсивными действиями, являлся реакцией на тяжелую травматизацию, начавшуюся в раннем детстве и повторяющуюся опять и опять в различных формах. Ее последовательный путь совладания с ролью жертвы является сменой ролей, превращения пассивного в активное в канве мазохистской фантазии, которая явно должна была завершиться нарциссической победой, пусть и ненадолго. Достигнутый по компульсивному сценарию эдипов триумф лишь прикрывал лежащее под ним страдание, это была победа, которая никогда не достигала своей истинной цели — искоренения травмы. Сами травмы были доступны только как часть существующих конфликтов, косвенно, лишь в зеркальном, измененном отражении.
Лишь целый “букет” таких отраженных конфликтов в соответствующих специфических формулировках, получивших новую форму в фантазиях и окончательно проявившихся в феноменологических особенностях, дает полную структуру причинных связей. Но для нас решающим является тот факт, что в их основе, в причинах, которые мы должны понять, опять-таки лежат ядерные конфликты. Распознавание и новая попытка решить их вызывает эффективное изменение, осознание их места во внутренней каузальной цепи. Внешние события, конституция, биологические факторы являются важными каузальными факторами, но остаются в стороне от сферы психологического исследования. Анализ имеет дело с ними постольку, поскольку они проникают через конфликты.
Формой причины и следствия, специфической для психоанализа, является конфликтная причинность. Специфический психоаналитический путь от описания к объяснению проходит от ядерных феноменов невротического процесса — компульсивности, поляризации и абсолютизации, — поскольку они типично отражены в предсознательных конфликтах, аффектах и самозащищающем поведении, по мосту ядерных фантазий к бессознательным ядерным конфликтам. За ними мы можем мельком увидеть — через границу с другими областями — ядерные аффекты травматической или физиологической природы, часто определяющие тяжесть конфликта, с которым мы имеем дело.
К вопросу об осуждении
Те, кто умны и сообразительны, близки к смерти, потому что они любят судить других.
Лао Цзы
Если принимать в качестве центральной причины конфликты, в первую очередь, с Супер-Эго и в структуре самого Супер-Эго, произойдет и соответствующий сдвиг терапевтического акцента: при лечении пациентов как с “аддиктивным поведением”, так и с “тяжелым неврозом”, особенно необходимо следить за тем, чтобы не слишком брать на себя роль реального Супер-Эго, не позволять себе вовлекаться в попытки разрешения дилеммы между терпимостью и наказанием, между “соглашательством” и “запретительством”. Насколько это возможно, следует анализировать экстернализованные или проецируемые функции Супер-Эго, которые проявляются в переносе. Вместо использования переноса Супер-Эго его необходимо проанализировать, особенно в трудноразличимых, тонких формах переноса (Gray, 1987, 1990,1991). Такой подход позволит избежать явной или неявной осуждающей и принуждающей позиции настолько, насколько это вообще возможно. Это также означает, в частности, что агрессивность лечится главным образом не конфронтацией или прямыми интерпретациями влечений, но анализом защит и Супер-Эго. Фокус внимания терапевта направлен на множество слоев конфликтов и на специфический круг аффектов, к которым эти конфликты приводят. Травмы, которые преломляются в этих конфликтах, становятся доступными только через них.
Здесь не предполагается наличие дефектов, пробелов или пустот в Супер-Эго (Brenner, 1982), а рассматривается вопрос о тяжелом конфликте внутри Супер-Эго. Не предполагается априори и наличие видимых, глубоких дефектов в Эго, за исключением нетерпимости к определенным специфическим аффектам; только в конце полного анализа конфликта можно точно указать такие дефекты.
Психология дефицитарного развития и психология конфликтов несут в себе два различных взгляда на человека: в них нет противостояния “или-или”, они дополняют друг друга, ставя перед собой весьма различные цели и проповедуя абсолютно разные подходы.
В предложенном терапевтическом подходе большое значение придается разумному терапевтическому альянсу и, следовательно, терапевтической атмосфере дружелюбия и такта, которая ускоряет создание такого альянса. Наличие у пациента тяжелой формы неспособности выдерживать эмоциональные переживания подразумевает существование серьезного конфликта и сильное давление Супер-Эго; в большинстве подобных случаев требуются дополнительные меры, такие как применение медикаментов, семейная терапия или терапия супружеской жизни, участие в группах самопомощи и даже бихевиоральная терапия. Практически всегда необходимо использовать терапевтическую стратегию, объединяющую одновременное лечение в различных модальностях. Следует также помнить, что успешность лечения в группах “Анонимных Алкоголиков” и “Анонимных Наркоманов” составляет не более 14—18%, если считать всех пациентов, которые обращаются за помощью в эти организации. Однако этот факт не умаляет ценности таких групп самопомощи, а лишь напоминает нам о том, что данный путь не является панацеей при лечении алкоголизма и наркомании.
4. Нарушение эмоционального
развития при аддиктивном
поведении
Генри Кристал
Первые аналитики применяли свои вновь разработанные психоаналитические техники мудро и осторожно, внедряя открытия, на которые по сей день опираются все, кто работает в этой области. Некоторые идеи и термины первых аналитиков (Abraham, 1916, 1924; Simmel, 1930, 1948; Rado, 1926, 1933) настолько укоренились в американском психологическом, психиатрическом и медицинском лексиконе, что их можно часто встретить как общепринятые выражения без указания первоисточников. Множество старых терминов употребляются в кавычках не чаще, чем изречения из Библии или цитаты из Шекспира. Этим ранним успехам сопутствовала своеобразная наивность, которая и похоронила в конце концов “удачу новичков”. Слабым местом ранних аналитиков было стремление подходить ко всем пациентам с пониманием, моделями и техниками, которые развились из работ с невротиками. Как только был найден успешный подход в работе, первые теории стали использоваться для объяснения таких стилей поведения, которые не противоречили имеющейся модели. Никто не пытался организованно, последовательно и настойчиво изучать новые и уникальные проблемы принципиально иной природы. Психоанализ пошел в абсолютно противоположном направлении. Мы становились все проницательнее и изощреннее в продумывании невротических паттернов, конфликтов, фантазий и симптомов и в то же время старались не обращать внимания на те проблемы пациентов, которые не входили в разрабатываемый нами невротический круг. К примеру, нам пришлось потратить пятьдесят лет на то, чтобы преодолеть наше увлечение идеями, связанными с анальными проявлениями (anality) в детском возрасте, и открыть, наконец, процессы сепарации и индивидуации, имеющие для малыша того же возраста не меньшее значение.
Подобным же образом эпигенетическое развитие рассматривалось только в соответствии с определенными частными влечениями. После появления новой модели психики, основанной на наших взглядах на локализацию конфликта, возник живой интерес к защитам, понятию “Эго” и даже некоторым объектным отношениям, который перерос в обширные и плодотворные исследования. Среди всех этих достижений и всеобщего воодушевления удивительно то, что до 1953 г. ни один психоаналитик не сделал ни одного замечания, не задал ни одного вопроса о том, как выражение и переживание эмоций меняется от рождения до смерти. Похоже, с этой проблемой немного работал после своей иммиграции в Соединенные Штаты Шур — как аналитик и как дерматолог. Одна из его пациенток (у которой возникала чесотка, как только на сцене появлялся ее муж) побудила его к исследованию следующего вопроса: не представляют ли ее симптомы регрессию к физиологическому аспекту чувства тревоги (Schur, 1953, 1955). Через десять лет ряд аналитиков представили аналитическому сообществу отчеты, подтверждающие правомерность генетического взгляда на эмоции.
С этого момента мы выстроили историю эпигенеза, регрессии и задержки развития аффектов. Среди пионеров этого направления можно назвать Энджела (Engel, 1962a,b, 1963) и Шмаля (Schmale, 1964). У Валенштейна (Valenstein, 1962) встречаются записи, подтверждающие, что он понимал эту проблему, однако не занимался ее разработкой. В рабочем блокноте Валенштейн писал о своем впечатлении, что эмоции развиваются из своих предшественников — ураффектов (uraffects).
Я проводил ретроспективное исследование 1098 пациентов, которые лечились от абстинентного синдрома после отказа от опиатов (преимущественно героина) в Детройтском приемном госпитале между 1956 и 1959 годами (Krystal, 1962). У 875 пациентов записи в истории болезни были детализированы и завершены в достаточной степени для того, чтобы заключить, что, хотя все эти пациенты жаловались на физиологические симптомы, связанные обычно с тревогой или депрессией, они никогда не распознавали у себя и не жаловались на неприятные чувства. Таким образом, я отметил следующее:
“Настоящая работа предполагает, что этот регрессивный феномен заставляет аддиктивного пациента переживать тревогу и депрессию двумя способами, которые напоминают реакцию ребенка: 1) реакция соматическая, со слабым рефлексивным осознанием, как если бы функция Эго, связанная с восприятием себя, не действовала; 2) как и у ребенка, нет почти никакого различия между депрессией и тревожностью. Вместо этого существует генерализованная реакция “неудовольствия”, в основном при более низком, чем у здоровых взрослых, уровне интеграции” (Krystal, 1962).
Будучи директором клиники по лечению алкоголизма, где сталкивался с подобной проблемой, я сделал ряд попыток обсудить эти клинические данные со своими коллегами (Krystal, 1959, 1963, 1966, 1974). Дальнейшие события развивались стремительно и захватывающе; их результаты можно полностью оценить, лишь оглянувшись назад. Я включился в работу с жертвами Холокоста, бывшими узниками концлагерей — их было около девятисот человек. Мои наблюдения этой большой популяции показали, что у людей, перенесших тяжелую психическую травму, наблюдается полная картина аффективного расстройства. Однако у жертв Холокоста проявилось не только то, что Миньковский назвал “аффективной анестезией” (Minkowsky, 1946); при детальном осмотре и дополнительных исследованиях обнаружилось, что у большинства пациентов эмоции не использовались в качестве сигналов, обращенных к самим себе. Их аффекты были недифференцированы, и у большинства пациентов в ответ на эмоционально травмирующие обстоятельства или воспоминания наблюдался только физиологический компонент эмоции или не проявлялось никаких аспектов эмоций вообще. При этом можно было обнаружить только физиологический компонент хронической сверхбдительности (разнообразные напряжения в мышцах, готовность к испугу, бессонница, перемежающаяся с повторяющимися тревожными снами) и целый набор черт депрессивного и мазохистического характера. Пациенты не жаловались на проблемы с “чувствами”, а лишь перечисляли физические симптомы. В ответ на вопрос о своей “нервозности” они признавали, что стали очень нервными, раздражительными и крайне беспокойными (Niederland, 1961, 1964; Krystal, 1968; Krystal and Niederland, 1968, 1971).
В конце концов у этих пациентов появлялся целый букет самых разнообразных психосоматических заболеваний и, фактически, у всех развились серьезные аддиктивные проблемы (в частности вторичные, связанные с расстройствами сна), страх своих снов, различные хронические боли, которые иногда называют “палиндромный артрит” (Krystal, 1970), но которые, как мне кажется, возникают из хронического фиброзита и миозита вследствие состояния постоянного напряжения. Добавив сюда головную боль и вторичные симптомы грыжи диафрагмы, мы получим представление о человеке, у которого ни дня не проходит без тяжелых болезненных ощущений. Естественно, управление физической и эмоциональной болью (недифференцированной природы) требует лечения или, по крайней мере, пристального внимания. Большинство посттравматических пациентов показали вместо эмоций психофизиологические реакции, фактически независимо от их состояния до травмы. Мне казалось разумным видеть в такой реакции подтверждение тому, что этот феномен представляет собой регрессию в аффективной сфере с уровня взрослых, в основном вербальных, выражений эмоций на уровень ребенка, до недифференцированной и полностью соматической формы проявления аффекта (Krystal, 1971). Постепенно прояснилась и картина развития форм выражения аффекта, ведущего от вокализации к вербализации и десоматизации. Оказалось, что существует обратная объясняющая зависимость (reciprocal explanatory interaction) между наблюдениями аффективной регрессии и процессом реконструкции катастрофической травмы у взрослого (Krystal, 1970).
Затем были сделаны два открытия, подтверждающие, что мы на правильном пути. Во-первых, у ветеранов Второй мировой войны, переживших плен, был обнаружен высокий уровень психосоматических нарушений и других симптомов в аффективной сфере, которые мы сейчас считаем частью реакции посттравматического стресса (Brill and Beebe, 1955; Archibald, Long, Miller and Tuddenham, 1962; Archibald and Tuddenham, 1965). Второе открытие было сделано в ходе моей собственной работы: я обнаружил, что, хотя спустя 25 лет после освобождения общее количество психосоматических жалоб у бывших узников концлагерей снизилось до 30%, у людей, попавших в лагерь подростками, тот же показатель достигает 75% (Krystal, 1971)! Получалось, что подростки были в большей степени подвержены эмоциональной регрессии, чем взрослые. Примерно в это же время группа французских психоаналитиков, работая с психосоматическими пациентами, пришла к выводу, что эти пациенты не могли участвовать в психоаналитическом лечении, потому что демонстрировали некоторые особенные нарушения, не обнаруживаемые у “хорошего невротического пациента”. На их работу обратил наше внимание Сифнеос (Sifneos, 1973). Немия и Сифнеос (Nemiah, Sifneos, 1970a) совместно с европейскими исследователями провели ряд работ, тестируя когнитивные и аффективные характеристики психосоматических пациентов и исследуя их реакцию на психоаналитическую психотерапию. И хотя эта работа получила широкий отклик и стимулировала плодотворные исследования и в нашей стране, и за рубежом, большинство американских психоаналитиков о ней не узнали. Помимо общего отсутствия интереса к психосоматическим и аддиктивным пациентам, этот печальный факт объяснялся еще и тем, что отчеты о работе Сифнеоса и Немии не были опубликованы в главных психоаналитических журналах.
Алекситимия
Затем появился широкий выбор литературы, поначалу стимулированный отчетами Марти и де М’Юзана (Marti, de M’Uzan, 1963), а также Марти, де М’Юзана и Давида (Marti, de M’Uzan, David, 1963), благодаря которым взоры значительного количества европейских коллег обратились на когнитивные и аффективные стили, которые наиболее сильно бросались в глаза у аддиктивных, психосоматических и посттравматических пациентов. Ранние работы Сифнеоса (Sifneos, 1973) и Немии (Nemiah, 1970) дают нам наиболее полезное и исчерпывающее описание существующих в этих сферах проблем. Группа Бет-Израэля применила результаты работы французских аналитиков, делавших акцент на когнитивных проблемах (операциональное мышление), к своим психосоматическим пациентам, как это было описано Марти и де М’Юзаном (1963). Они обнаружили, что у них существуют такие же определенные аффективные нарушения. Самой большой преградой перед возможностью вовлечения пациента в психоаналитическую терапию или в терапию провоцирования тревожности стал характер их эмоций (Sifneos, 1967, 1972, 1972—73, 1973, 1974, 1975; Nemiah, 1977; Nemiah and Sifneos, 1970b). Описанное выше аффективное нарушение представляет собой регрессию формы аффекта, что делает его непригодным для выполнения сигнальной функции. На первый взгляд пациенты производили впечатление весьма практичных людей (сами они любили думать о себе как о “людях действия”). В действительности же эти люди имели “вещную”, предметную ориентацию — в противоположность ориентации на людей (в том числе на себя).
Компоненты аффекта
Чтобы понять эти неординарные открытия, нам следует взглянуть на аффект шире, чем это делается обычно. Фрейд ошибочно полагал, что аффекты являются только физиологическими реакциями и, следовательно, никогда не бывают бессознательными. Он придерживался этой точки зрения всю свою жизнь, даже после того, как описал бессознательное чувство вины (Freud, 1916). Для того чтобы понять все сложности и тонкости проблемы, которую мы собираемся рассмотреть, потребуется определить все компоненты и аспекты эмоций (см. схему “Аффект с точки зрения переработки информации”). Необходимость рассмотрения всех компонентов объясняется тем, что у нормального человека они действуют вместе как функциональная, хотя и не анатомическая, целостная организация.
Лучше всего мы знакомы с когнитивным и экспрессивным аспектами аффектов. Когнитивная (или идеаторная) часть аффекта состоит из двух определяемых частей. Всякий раз, когда человек испытывает ту или иную эмоцию, эта эмоция имеет какое-то значение, которое всегда можно установить, хотя от тех, кто не привык к подобным “действиям”, они могут потребовать определенных усилий. К примеру, чувства страха и тревоги сообщают нам, что должно случиться что-то плохое. Однако в когнитивном элементе содержится еще и “стоящая за эмоцией история”. И хотя оба эти чувства говорят о надвигающейся опасности, их истории весьма различны. Страх сигнализирует об опасности внешней, актуальной, которой при определенных усилиях можно избежать. Тревога отражает опасность, переживаемую как исходящую “изнутри” и в большинстве случаев — частично бессознательную. В психоаналитической психотерапии мы пытаемся реконструировать в настоящем психологические обстоятельства, которые вызвали ощущение опасности. Через свои ассоциации пациент помогает нам реконструировать прошлые обстоятельства и ситуации, которые порождали опасность. Поскольку аналитики вызывают ассоциации и интерпретируют их в соответствии с собственным психоаналитическим пониманием, было сконструировано множество моделей организации этих ассоциаций. Структурная теория — это модель сознания, основанная на противоречивых интересах различных аспектов личности, в то время как динамический подход особое внимание уделяет противостоящим силам. Однако в конечном счете, имея дело с тревогой, мы все равно вернемся к одному вопросу: в чем опасность?
Депрессия сигнализирует о том, что что-то плохое уже произошло и субъект должен принять ответственность за это, поскольку оказался плохим или беспомощным. Наоборот, гнев также сообщает о том, что произошло что-то плохое. Однако плохое было сделано не нами, а “плохим” человеком, которого мы теперь имеем полное право ненавидеть, наказывать, которому теперь можем мстить.
Другой хорошо известный компонент аффекта — физиологический. Мы, аналитики, привычно называем его “экспрессивным” компонентом, вслед за Фрейдом ошибочно полагая, что аффекты выделяют энергию влечений на внутренние органы тела, если что-то препятствует их разрядке или внешнему “выражению”. Если же отказаться от гидравлической модели, то есть от модели, которая фокусируется на проблеме аккумулирования и разрядки некоторого количества энергии, и сосредоточиться на роли аффектов в переработке информации, то можно прийти к двум интересным выводам:
1. Люди, у которых эти два аффективных компонента присутствуют одновременно, в недиссоциированной форме, и которые способны к определенному уровню самонаблюдения или рефлексивного самоосознания, могут сознавать, что они переживают чувство; чувство — это субъективное переживание аффекта. Врачебная мудрость считает само собой разумеющимся тот факт, что большинство людей способны распознавать свои эмоции. Однако в Соединенных Штатах лишь половина всех пациентов, посещающих обычных врачей, действительно в состоянии распознать свои чувства*. У другой половины пациентов отсутствует уровень рефлексивного самоосознания, позволяющий узнавать и называть переживаемые ими чувства. Эта частная нечувствительность к аффекту является причиной того, почему мы учим студентов-медиков распознавать эмоции и требуем запоминать их физиологические компоненты. Большая часть визитов семейных врачей заканчивается объяснением пациенту, что его или ее жалобы представляют гиперактивный физиологический компонент аффекта. Около 120 миллионов таких визитов в год только в нашей стране завершаются тем, что врач дает пациенту рецепт на один из бензодиазепинов.
2. В каждой ситуации, вызывающей интенсивный аффект, любому субъекту полезно отслеживать интенсивность своего аффективного ответа и мысленно отделять ту его часть, которая является “точным” и подходящим откликом на текущую ситуацию, от “неточной” части ответа, усиленной привнесенным аффектом, который был вызван ассоциациями из прошлого. Подобное оценивание необходимо человеку для того, чтобы выбрать из имеющегося у него репертуара возможных реакций наиболее подходящий и максимально адаптивный ответ на действующий стимул. Если субъект способен поступать таким образом, тогда он сможет действовать, основываясь на собственных трезвых суждениях. В противном случае в его жизни постоянно будут доминировать инфантильные реакции. Это наблюдение приводит нас к понятию “аффективной толерантности” или способности переносить аффект.
Аффективная толерантность
Львиная доля моего времени при работе с любым пациентом, страдающим аффективным нарушением, уходит на выяснение того, как он переживает свои эмоции и как реагирует на их наличие. Для нормального психического функционирования необходимо удерживать аффекты на переносимом уровне, позволяя себе получать от них максимум информации. Независимо от того, представлены ли аффективные нарушения в явном виде или присутствует скрытая часть проблемы, — что наблюдается при психосоматических или аутоиммунных заболеваниях, зависимостях, анорексии-булимии и в ряде других случаев, — для аналитического терапевта очень важно понять, как пациент переживает свои эмоции и как он (или она) реагирует на их наличие у себя. В ответе на первый вопрос, каким образом пациент переживает свои эмоции, может таиться объяснение, какие драматические события он пережил еще в довербальный и дообъектный период своей жизни. Я настолько привык находить наличие “послеаффектов” (afteraffects), связанных с детской психической травмой, что при случае прямо утверждаю, что в первые два года жизни этот человек испытал какие-то ужасные переживания, после которых едва выжил. Я имею в виду некоторые комбинации событий, связанные с нарушениями развития или с общим истощением (marasmus). Наблюдаемая мною картина похожа на ту, что описана для случаев атрезии пищевода (Engel and Reichsman, 1956; Engel, 1967; Dowling, 1977).
В таких случаях я объясняю пациенту, что тяжелый дистресс, изнуряющие болезни или недоступность материнской заботы сопровождаются столь мучительной, непереносимой эмоциональной реакцией, что младенцы вынуждены как-то спасаться, поэтому они “отключают” свои чувства. Психическая травматизация младенца происходит, когда мать, которая обычно оценивает эту реакцию как просьбу о помощи и дает немедленный конгруэнтный ответ, оказывается не в состоянии успокоить ребенка. Можно обнаружить у пациента непроизвольную компульсивную потребность в повторении селективно удерживаемой чрезмерной реакции на определенный аффект или алекситимического недифференцированного аффективного стиля; при этом будет неизменно повторяться одна и та же развязка, приводящая пациента в состояние невыносимых мучений. Тогда аддиктивная личность устремляется на поиски химических веществ, дающих освобождение, или деятельности, способной примирить его с примитивным (primal) объектом его амбивалентной привязанности. Чем более этот процесс разрушает личность, тем становится более непреодолимым у “очень больных”, крайне агрессивных аддиктивных пациентов. Во время работы в Детройтском приемном госпитале у меня была возможность узнать таких людей. Было ужасно осознавать, что все мои попытки замедлить нарастающий процесс саморазрушения не имели никакого успеха; некоторые из моих пациентов разрушали себя буквально в течение года. В 1959 г. я проводил исследование большой группы пациентов, находившихся в состоянии алкогольного делирия (delirium tremens). Сделанная мною случайная выборка показала наличие серьезных физических травм у 40% обследуемых. Когда пациент жалуется на такие аффективные расстройства, как тревога или депрессия, довольно легко определить, что он переступил порог моего кабинета в конце порочного цикла дезадаптивной реакции на собственные эмоции, часто запущенные психическими событиями, которые сам пациент не считает относящимися к его проблеме. Решив считать детскую психическую травму предшественником аддикции, обусловливающим ее возникновение, мы становимся сторонниками провидческой концепции Радо о посттравматической “травматофилии” (Rado, 1933). Первым и, быть может, наиболее значимым автором, описавшим аффективную толерантность, была Зетцель (Zetzel, 1949, 1955). Она не просто рассматривала свою работу с практических позиций, стремясь помочь пациентам увеличить способность удерживать эмоции в границах переносимого; она ясно и недвусмысленно установила тот факт, что людям, не способным выносить чувство тревоги или депрессию, противопоказано психоаналитическое лечение. В области патологии эмоций работал также Йоффе (Joffe, 1969), исследовавший проблему патологической зависти. Он обратил внимание на то, что некоторые люди с рождения оказываются неспособными управлять чувством интенсивной зависти, в то время как другие, вследствие своей природы или благодаря терапевтическим интервенциям укрепляли способность справляться с ней. Рамки данной статьи не позволяют провести полное обсуждение потребности терапевта постоянно помнить о проблеме аффективной толерантности и работать над ней на всех стадиях терапии с аддиктивными пациентами.
До настоящего момента мы обсуждали фактически только когнитивный и “экспрессивный” элементы эмоции. Однако существует еще два аспекта аффектов — гедонический и активирующий. Эти аспекты существенны для нормальной жизни, и нарушения любого из них или обоих становятся важнейшим фактором предрасположенности к возникновению химической зависимости.
Гедонический элемент эмоций
Обычно мы предполагаем, что одни эмоции связаны с состоянием удовольствия, а другие — с чувством страдания. При этом ни сторонний наблюдатель, ни даже сам испытывающий эмоции человек не может наверняка определить, переживается ли данный аффект этим конкретным индивидом в данной конкретной ситуации как удовольствие или как страдание. Мой опыт показывает, что если мы собираемся говорить о наркотиках, то должны принять подтвержденное целым рядом источников положение, что удовольствие (pleasure) не то же самое, что удовлетворение (gratification), а боль не является синонимом страдания и может существовать отдельно (Krystal, 1981). Все эти четыре качества могут переживаться в связи с инстинктивными потребностями или мотивацией к удовлетворению, а также в связи с соответствующими действиями. Кроме того, каждое из четырех качеств может переживаться сознательно или бессознательно. Используя эти понятия по отношению к аффектам, начинаешь осознавать, насколько мы небрежны в словах, насколько грубо наши термины соответствуют реальности. Недавно я прочитал новую книгу, написанную двумя опытными экспертами, которые установили, что новорожденные и младенцы имеют шесть различных состояний сознания (Brazelton and Cramer, 1990). Следует ли ожидать, что у взрослых, находящихся в сознательном состоянии, в состоянии бодрствования, количество состояний сознания будет меньше? Теперь мы знаем, что существуют по меньшей мере шесть спектров, которым могут соответствовать состояния сознания и бодрствования (Krystal, 1981). Поэтому в некоторых случаях описание и определение характера “состояния сознания” конкретного человека в конкретное время становится крайне сложной проблемой.
Рассматривая психотропные препараты (без учета психоделиков), мы определенно не можем сохранять упрощенный взгляд на сознание; каждый из них воздействует на сознание избирательно. Фактически на сознание воздействуют все виды лечения, а также другие факторы (например, аллергические реакции). Кроме того, существует клинически достоверно установленный феномен связи между памятью человека и его состоянием. И последнее, но не менее важное: установлено существование анатомических и физиологических аппаратов, включенных в гедоническую регуляцию организма, которые, как уже давно говорил Радо, мы должны уметь согласовывать с остальным психоанализом (Rado, 1964, 1969).
Теперь я хотел бы рассмотреть один из “аддиктивных механизмов”, который становится возможным, если отделить идею удовольствия от удовлетворения, а аспект страдания от боли. Эти дифференциации помогут нам понять, что происходит, когда мы лечим пациента с неизлечимым заболеванием с помощью фенотиазиновых препаратов: пациент все еще чувствует боль, но не обращает на нее внимания, поскольку для него боль перестала нести в себе качество страдания. Подобным же образом становится возможным получать бессознательное удовлетворение от переживания, которое приносит человеку сознательную боль. Мы долгое время действительно считали, что нечто подобное должно происходить при обсессивно-компульсивном неврозе, и обычно называли это сексуализацией или эротизацией мышления. Полезно прояснить наши определения, подчеркнув, что удовольствие в рамках “мазохистской перверсии” функционирует на невротической основе; боль принимается как окрашенная самопожертвованием взятка Супер-Эго, после которой сексуальное удовольствие переживается уже в немодифицированном виде. Поскольку удовлетворение проистекает из удовольствия, я рассматриваю этот процесс как подкуп Супер-Эго. В случае, когда удовлетворение возникает из боли, мы являемся свидетелями истинного извращения механизма регуляции организма удовольствием. Родственное этому “извращение” обычной регуляторной функции удовольствия (поощрение действий, направленных на выживание организма) наблюдается, когда химические вещества используются как “решение проблемы”. Вместо того чтобы повернуться лицом к проблеме, человек анестезирует часть самого себя и перестает замечать нерешенные и продолжающие оставаться опасными для него проблемы. Широко известен такой вариант перверсии регуляторной функции удовольствия, при котором голодный человек жует листья коки, вызывающие потерю чувствительности слизистых оболочек, что позволяет ему игнорировать свой голод (Krystal and Raskin, 1970).
Активирующий аспект эмоций
Любопытно, что, несмотря на достаточно хорошую осведомленность о воздействии эмоций на уровень возбуждения и ритм жизнедеятельности организма (например, всем известно о психомоторном торможении при депрессии и гиперактивности при мании), мы склонны игнорировать роль аффектов в возникновении аддикции, хотя она имеет прямое отношение к регуляции душевного состояния человека, подъема или оживления (animation) организма. Это особенно хорошо видно, когда пациенты признают, что чувствуют себя “пустыми” или “мертвыми”. Нам известно, что подобные эпитеты бывают порой единственным ключом, по которому можно определить наличие у подростка суицидальных намерений. Итак, можно предположить, что подобное самовосприятие говорит о предрасположенности к поиску наркотических средств для блокировки этого состояния. Штерн подчеркивает, как важно для правильного развития младенца, чтобы в ходе эмоционального общения с ним мать демонстрировала ему “жизнерадостные чувства” (“vitality affects”), контактируя с малышом или просто находясь в границах его сферы наблюдения (Stern, 1985). Это один из до сих пор не до конца понятых феноменов детской психической травмы, которая — и я на этом упорно настаиваю — должна учитываться как основной исторический фактор наличия предрасположенности к химической зависимости (Krystal, 1974, 1977a,b, 1978a,b; Krystal and Raskin, 1963, 1970). По моему ощущению, активирующий аспект эмоций не признан в такой же степени, как остальные эмоциональные компоненты. Важно различать “экспрессивный” аспект эмоций, в котором задействуются автономная нервная система плюс мышцы лица и кончики пальцев. Этот компонент эмоций связан с генезом обычно распознаваемых психосоматических расстройств. С другой стороны, активирующий аспект эмоций представляет собой связь психической функции с функциями психобиологии; он регулирует активацию-дезактивацию всего организма. Большое количество исследований в этой области было проведено целой группой психологов, среди которых наиболее известными и плодотворными считаются работы Даффи (Duffy, 1951, 1957, 1972; Duffy and Freeman, 1933, 1948; Duffy and Malmo, 1959; Dyffy, Pribram and McGuines, 1975). (Обзор перечисленных работ см.: Krystal, 1982a.)
Различия между этими двумя аспектами эмоций выглядят особенно убедительно, если понять разницу между изоляцией аффекта и регрессивной природой алекситимии. При изоляции аффекта его когнитивные и “экспрессивные” аспекты в защитных целях разделены (Engel, 1962a), в то время как при регрессии аффективной сферы девербализация и ресоматизация аффекта может привести к хронической гиперактивности органа (органов), что обычно является частью физиологии эмоций. Процесс может протекать тихо, пока не наступит поражение органа. По ряду причин при регрессии аффекта многие люди испытывают трудности в концептуализации своих реакций. Помимо алекситимии существуют и другие проявления регрессии эмоций (Krystal, 1978a,b, 1985). Наиболее распространенная регрессия — потеря чувства времени при переживании интенсивной боли — физической или эмоциональной. Кстати, великолепного лечебного эффекта можно добиться, если напомнить пациенту с периодической депрессией, что его нынешнее депрессивное состояние (хуже которого, по его мнению, не было и никогда не будет) ничем не отличается от прошлогодней депрессии; однако она все же прошла, как пройдет и эта черная полоса в его жизни.
В 1974 г. я отмечал, что боль нельзя выделить из общей “реакции страдания” младенца вследствие всеохватывающей незрелости нервной системы. Перенеся это в область психологических понятий, мы скажем: нельзя получить локализацию боли по типу взрослого, пока не разовьется образ тела.
Наконец, мы имеем на сегодня очень популярную диагностику панических реакций по DSM-IV, (АРА, 1994; NIH Consensus Statement, 1991). Определяющие симптомы не соответствуют существующему значению слова паника, но состоят из смеси симптомов физиологических компонентов тревоги, депрессии и других дисфорических аффектов, что является идеальной иллюстрацией вытеснения аффекта — это похоже на то, что мы видим при воздержании от употребления наркотиков (Krystal, 1962, 1966). Еще одна аналогичная картина обычно представлена пациентами метадоновой клиники. Имея физические или эмоциональные проблемы, эти пациенты жаловались на усиленное сердцебиение, гипервентиляцию, запоры или поносы, колики и грудные боли, печально сообщая своему врачу: “Док! Мне не помогает мет”. Дальнейшее подтверждение того, что “паническая реакция” представлена регрессией аффективной сферы, состоит в том, что, хотя на симптоматику практически не оказывают влияния самые разные лекарства, она уменьшается под воздействием небольших доз антидепресантов. В начале лечения такие пациенты жалуются на побочные эффекты своих лекарств чаще тех пациентов, кто принимает те же самые лекарства в гораздо больших дозах. Брищ (Breasch, 1990) и Трауб-Вернер (Тraube-Verner, 1990) комментируют особенности реакции таких пациентов. Тэйлор (Taylor, 1986) продемонстрировал, что паническое расстройство имеет важный когнитивный элемент, который сейчас утрачен, но у чувствительных людей может быть возвращен инъекцией различных стимуляторов, а также лактатов. Причина, по которой мы не касаемся когнитивной природы “панической реакции”, состоит в том, что нас приучили видеть источник тревоги в эдиповой ситуации. Как отмечал Тэйлор (1987) — и у меня не раз была возможность убедиться в этом на практике, — тревога проистекает из гораздо более ранних источников. Работы Хофера (Hofer, 1978, 1981a,b, 1982, 1983; Hofer and Weiner, 1971) показали “скрытые” компоненты привязанности. Привязанность связана со сложными реакциями, и потеря когнитивного элемента “панической реакции” возвращает нас к этому периоду. Все подобные затруднения обусловлены ранними конфликтами, связанными с привязанностью, и этот ранний тип переноса наблюдается у данных пациентов, но мы еще не поняли сам процесс до конца.
Сейчас мало кто придерживается представлений Фрейда о том, что каждая аффективная реакция содержит когнитивный элемент. Работа Джонса (Jones, 1982) дала нам представление о более точных наблюдениях за младенцами, соответствующих взглядам Штерна (1983). Штерн считал, что у ребенка еще до появления вербальных или символических компонентов эмоций присутствуют амодальные аффективные реакции, которые часто сохраняются в памяти именно в этой амодальной форме. Проводя психотерапевтическую работу с аддиктивными и психосоматическими пациентами, полезно иметь в виду, что значительная часть их психического наследия сохранилась с периода отношений с матерью, основанных на “аффективной поднастройке” к ней, и что аффект, связанный с ранними я-репрезентациями (и я-привязанностями), остается нетронутым в сенсомоторной памяти. Штерн (1983) утверждает, что вербальное развитие строится на доязыковых следах памяти. Принимая желаемое за действительное, многие коллеги-аналитики считают, что следует просто ждать, пока весь ранний, “необходимый” детский материал со временем сам проявится через вербальные и символические производные. Опыт говорит, что такие ожидания неоправданны.
Вера в то, что все переживания могут возникать в вербальной или символической форме, сохраняется потому, что когда мы имеем дело со “здоровым” невротическим пациентом, ранний материал можно игнорировать. В тех редких случаях, когда на психоаналитическое лечение отваживаются пациенты с явно выраженными аддиктивными или психосоматическими проблемами или другие пациенты, нуждающиеся в работе с последствиями детской психической травмы, мы можем лишь завидовать тем коллегам, которых природа наделила особым талантом или которые имеют достаточный опыт непосредственного наблюдения за детьми, позволяющий им распознать и использовать в своей аналитической работе следы памяти раннего периода жизни. Но получить такой материал возможно не всегда. На днях мой пациент рассказал о своем отце, который “успешно” прошел двенадцатилетний курс анализа. Недавно ему диагностировали тяжелую степень алкоголизма. У каждого из нас есть такие же “успешные” пациенты, у которых впоследствии развились психосоматические расстройства или тяжелые депрессии.
Важным следствием внимания к тонкому строению эмоциональных компонентов является признание разницы между активацией, возбудимостью, с одной стороны, и витальностью — с другой. Даффи (Duffy, 1957) обнаружил, что “эти две характеристики имеют скорее негативную, чем позитивную связь. Тенденция постоянно быть на подъеме ведет, без сомнения, к утомлению и последующему снижению витальности”. Такова характерная особенность аддиктивной личности, которую попеременно то поднимает на неестественную высоту, то бросает вниз до полного истощения жизненных сил. Наблюдающий причину склонен думать об эмоциях как о случайном феномене, подобно членам группы самопомощи “Восстановление, Инкорпорейтед”, которые любят утешать друг друга тем, что “эмоции ограничены во времени, они болезненны, но никогда не несут опасности”. Не утруждая себя проблемами сей чудесной группы, я должен заявить, что полезное для их случая утверждение — еще не вся правда об аффектах. Они озабочены улучшением своей аффективной толерантности к эмоциям, достаточно интенсивным, чтобы привлечь внимание. На самом же деле обработка поступающей к нам информации опирается на пороговые эмоции, которые, ничем себя не проявляя, тем не менее являются основными “переключателями” процесса переработки информации. Думаю, что отсутствие эмоций характерно для любого живого человека не более, чем отсутствие погоды — для мира за этими дверями (Krystal, 1978a). Но, чтобы соответствовать функции пороговых переключателей во всех наших информационных процессах, эмоции должны быть способны редуцироваться до предпороговой сигнальной интенсивности.
Одна из проблем, связанная с состоянием эмоционального возбуждения организма, состоит в том, что график зависимости работоспособности (performance) от эмоционального подъема будет иметь вид перевернутой буквы “U”. Работоспособность повышается до определенной точки, а затем падает (Freeman, 1948). На форму этой кривой влияет ряд факторов, в том числе аффективная толерантность. С этим наблюдением соотносится один из самых запутанных клинических феноменов, связанных с употреблением наркотиков, в частности алкоголя. Аддиктивные пациенты могут использовать один и тот же наркотик для противоположных целей. Одни пьют, чтобы расслабиться и отдохнуть после работы, другие — чтобы расслабиться и получить возможность начать работу. Одни пьют, чтобы подавить свои сексуальные побуждения, другие — чтобы встретить любовные приключения во всеоружии. Эти пьют, чтобы усмирить свой гнев, те хотят почувствовать “смелость во хмелю” и придать себе агрессивности или напористости. Но самый главный парадокс заключается в том, что некоторые пьют, чтобы притупить свои эмоции, а другие — чтобы хоть на время получить способность их почувствовать, дать им выход. Терапевтический опыт говорит о том, что аффекты, выраженные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (их интенсивность или искренность не имеет значения) бесполезны для психотерапевтических целей (Krystal, 1977b). Поскольку наше понимание и эмоций, и алекситимии стало глубже, я постарался описать эту проблему более детально (1978c, 1982—1983, 1988a). Между тем другие исследователи внесли большой вклад в эту область; в частности, исследования “расщепленного мозга”, проведенные Хоппе, показали, что анатомическая или функциональная диссоциация мозговых полушарий приводит к алекситимии (Hoppe, 1977, 1978, 1984).
Сифнеос (Sifneos, 1973), фон Рад (Von Rad, 1983), Овербек (Overbeck, 1977), Десмер-Дерозьер (Desmers-Derosiers, 1982), Готтшальк (Gottschalk, 1978), Тен Хоутен, Хоппе, Боген и Вальтер (Ten Houten, Hoppe, Bogen and Walter, 1985a,b,c) и, в частности, Тэйлор с коллегами и Джон Кристал разработали инструментарий для измерения различных характеристик алекситимии (для обзора см.: J.H.Krystal, 1988). Эти “орудия” помогут нам идентифицировать пациентов, которые не могут использовать классическое психоаналитическое лечение, и, быть может, обеспечат им некоторый прогресс в преодолении своих алекситимических трудностей.
Операциональное мышление и алекситимия
Работа группы парижских психоаналитиков под руководством де М’Юзана прояснила ранее полученные данные других исследователей (Ruesch, 1948; MacLean, 1949; Shands, 1958, 1971, 1976, 1977), касающиеся особенностей познавательной способности некоторых психосоматических пациентов. Было обнаружено, что эти пациенты не могли описать свои чувства. Они также были не в состоянии фантазировать и, таким образом, не могли ни формировать неврозы, ни развивать невротический перенос (de M’Uzan, 1974a). Психоаналитическая терапия не принесла бы им никакой пользы.
Более того, де М’Юзан вскоре понял, что их ситуация еще более трагична, поскольку эти люди воспринимали окружающих как “бессмысленные удвоения... лишенные истинных человеческих черт и неограниченно порождаемые в соответствии со стандартной формой” (de M’Uzan, 1974b). Ранее я описывал проблемы, связанные с переносом (Krystal, 1982—1983б, 1985б, 1988а; Krystal and Raskin, 1981); мои заключения по этому поводу можно выразить в нескольких фразах.
Инфантильная психическая травма имеет ряд трагических последствий: во-первых, она преждевременно прерывает иллюзию симбиоза, которая, судя по всему, имеет большое значение, несмотря на то, что новорожденный способен узнавать свою мать уже с первого дня (Stern, 1974, 1983). Иллюзия симбиоза позволяет младенцу наслаждаться фантазиями о всемогуществе. Преждевременное прерывание этого состояния удовольствия периодом длительного неослабевающего дистресса ставит ребенка перед неподконтрольным “внешним” объектом и в то же время перед чрезвычайно интенсивной агрессией. Похоже, интенсивный детский аффект, даже при достаточно хороших условиях, является величайшей угрозой гармоничному развитию, а экстернализация, “создание репрезентации внешнего объекта” есть первый акт фантазирования, спасительного для жизни малыша. Но при дистрессе, ведущем к травме, репрезентация объекта жестко “отгорожена” (walled-off) и отношение принимает характер постоянного идолопоклонничества. Все доброе, способность давать покой и исцеление, даже функции регуляции приписываются этой репрезентации. Я-репрезентация лишается даже слабой надежды на волевой контроль жизненных и аффективных функций. Можно также предположить, что я-репрезентации приписывается ответственность и за всё плохое. Но идол никогда не подарит своему поклоннику вожделенную магию, а потому за этим последует необходимость умилостивлять и ублажать идола — освобождение от страдания потребует более высокой цены. История учит нас, что идолопоклонничество всякий раз приводит к человеческим жертвам, причем в жертву приносят самых лучших и самых дорогих людей, или детей, или сердца невинных девственниц. Для нашей практики эта печальная метафора имеет самое прямое значение: необходимо показать пациенту, что самопожертвование также является формой человеческой жертвы. Еще в 1970 г., когда Раскин и я опубликовали книгу о наркотической зависимости, мы твердо решили, что если наркоманы и другие алекситимические пациенты не могут использовать психоаналитическую психотерапию, то следует придумать особую фазу лечения, чтобы подготовить их для участия в лечении. Прежде всего я решил, что необходимо рассказывать пациентам о природе их аффективного расстройства. Я так и сделал, и это дало свои плоды. Оказалось, что некоторые пациенты смутно понимали свои проблемы; ясное и предметное объяснение принесло им облегчение. Повышение эмоциональной толерантности является важной психотерапевтической задачей при работе с пациентами самого разного типа; это проблема, которую должен осознать практически каждый пациент, страдающий аффективным или аддиктивным расстройством. Помогая пациенту распознавать и называть свои эмоции, что всегда делают только аналитики, работающие с родителями и детьми, можно получить интересный и поучительный опыт; впрочем, это касается по большей части именно терапевта. Работая над этим, я обнаружил у многих аддиктивных и алекситимических пациентов сильную заторможенность функций самоутешения, самоуспокоения, заботы о себе и даже функций саморегуляции.
В качестве самого понятного примера я хотел бы привести случай из практики Эджкамб, который она назвала так: “Пациентка, которая не могла говорить с собою” (Edgecumbe, 1983). На продвинутой стадии анализа Эджкамб, будучи детским аналитиком, помогла пациентке использовать свои эмоции так, как сама Эджкамб делала это со своими маленькими пациентами. Через несколько лет у пациентки уже наблюдался значительный прогресс во многих отношениях, но затем ее способность соотносить происходящее с самой собой ухудшилась, и аналитику (как и мужу больной) приходилось буквально допрашивать пациентку, иначе сама пациентка была не способна установить свою связь даже с событиями текущего дня.
Эджкамб осознавала давнюю психосоматическую и аддиктивную природу этого случая, однако она была озадачена тем, что эта “привлекательная, заслуживающая доверия, продвинутая молодая женщина, которая умело заботится о муже и смотрит за домом, справляется с профессиональными обязанностями и выполняет работу для церкви в своем приходе”, ощущала, что вся “добрая” власть и могущество, а также функции заботы о самой пациентке были закреплены за психоаналитиком. Когда пациентку начинали переполнять (недифференцированные) эмоции, она бросалась искать Эджкамб: “Найдя меня, она не знала, что ей от меня нужно; лучшее, на что она была способна, это сказать: “Я просто хочу, чтобы вы были здесь!”
Познакомившись с этим случаем, я почувствовал, что он представляет совершенный пример идолопоклоннического переноса: пациентка превратила аналитика в идола, ему приписывалось все доброе и передавались полномочия заботиться о самой пациентке, поддерживать ее комфорт и даже организовывать ее мысли. В то же время я-репрезентация пациентки была обеднена, и доступ к собственной силе и власти был запрещен и карался угрозой жить жизнью, которая хуже смерти. Поскольку в этом случае к аналитику предъявлялись сверхвысокие требования, я посчитал нужным собрать об этом случае как можно больше информации.
Пациентка обратилась к Эджкамб по поводу множественных психосоматических расстройств и тяжелой алекситимии.
[Эджкамб описывала свою пациентку как человека], “не соприкасающегося со своими чувствами. Она была не способна отличить тошноту от большинства других физических или психических чувств... не могла описать свое собственное состояние за рамками аналитической ситуации, ...называла себя “бесполезной” — термин, который она также применяла к себе, когда болела... Она часто сидела, плача и чувствуя себя совершенно беспомощной, будучи не способной взять себя в руки и что-либо сделать”.
В присутствии аналитика пациентка ожидала, что будет чувствовать себя лучше, но вместо этого часто испытывала разные “странности”, например, “бешено колотилось сердце, тело бросало в дрожь, ей было холодно. Когда я [Эджкамб] говорила ей, что это выглядит как страх, она отвечала, что даже не представляет, чего может бояться”.
Затем меня заинтересовали следующие факты: пациентка постепенно училась (1) различать и называть свои чувства, (2) связывать их с окружающими событиями и взаимодействием с остальными людьми, (3) не подчиняться материнскому запрету из глубокого детства: “Не думай!” Однако такое неподчинение иногда заканчивалось “тяжелой болью в животе”. (4) В детстве, в период с трех до четырех лет, у нее регулярно повторялись приступы тошноты и рвоты, запоры, нарушения сна, отказ от пищи и астматические явления. (5) В возрасте семи лет у нее развился запрет на посещение людных мест, иногда она даже отказывалась гулять. (6) Относительно способности к заботе о себе: “Понадобилось девять месяцев, чтобы она сделала свое первое утверждение о том, чего ей хочется, потому что мысль о том, чтобы произнести это вслух, вселяла в пациентку ужас, причем ни разу в жизни она не пыталась как-либо удовлетворить свое желание”. (7) “На протяжении всей жизни пациентка подавляла в себе любое проявление творческого мышления или воображения. Она не могла ни писать, ни рисовать”. (8) Отмечая свой седьмой день рождения, пациентка почувствовала возбуждение и слабость. С тех пор она избегала любого проявления возбуждения и чувств и ограничивала свое мышление, боясь того, что вновь заболеет. К тому моменту, когда пациентка стала взрослой, она уже не понимала разговоров своих подруг, когда они обсуждали вопросы секса”.
Теперь я хочу повторить описание разговорных нарушений, которые развились на третий год анализа, сделанные самой Эджкамб:
“Она никогда не брала инициативу в разговоре, всегда просила, чтобы ей задавали вопросы. Самое большее, что она когда-либо сделала, было небольшое замечание о весьма важном для нее событии, после которого она предоставила собеседнику право самому решать, развивать или нет эту тему разговора. Если аналитик или муж не задавали наводящих вопросов, она не могла организовать свою историю” [выделено мною].
Эджкамб описывала некоторые свои интерпретации:
“Я говорила ей (в разное время), что она, кажется, временами чувствует свое несовершенство, когда находится не рядом со мною, и что я должна быть частью ее, которая осуществляет ее мышление и чувствование.
Даже сейчас ее мать пытается узурпировать ее (пациентки) функции суждения и предвиденья, говоря ей: “Тебе это не понравится” или “Ты этого не хочешь”.
“Быть независимой и отделенной в своем мышлении слишком страшно и одиноко, поэтому она постаралась, чтобы я мыслила за нее и была частью ее самой, которая говорила бы ей, что хотеть и что чувствовать” [Edgecumbe, 1983; подчеркнуто мною].
Пытаясь объяснить себе идолопоклонническую природу этого переноса, понять, каким образом пациентка переживала аналитика как первичный материнский любящий объект, для которого всю жизнь были зарезервированы дающая и поддерживающая функции (“силы”), включая повествование о событиях дня, я внезапно понял также, почему алекситимики строят свои примитивные отчеты о произошедшем в период между сессиями в хронологическом порядке. Они используют время как “образец для списывания”, копируя факты, попавшие на линию времени, и отвергая свою ответственность за течение мыслей. Моя идея о типе переноса, который переживали пациенты-алекситимики, подтвердилась при работе с больными, которые посещали тренинг с использованием биологической обратной связи (biofeedback). От этих пациентов я узнал, что, установив контроль над своими жизненными и аффективными функциями, которые, как они полагают, принадлежат матери, они совершат “проступок Прометея”, заслуживающий наказания “судьбой, которая хуже смерти”. Когда я научился декодировать это послание, то понял, что “судьба, которая хуже смерти” означала возвращение в состояние младенческой травмы. И тут мне стало ясно, что все описания ада ссылаются на тот же самый страх, а бесконечная длительность младенческой травмы питает религиозную уверенность, что адские муки продолжаются “до скончания веков”. Я также понял, что всякий раз, когда человек испытывает тяжелую психическую или физическую боль, он регрессирует и уверен, что это “время” (например, приступ депрессии) самое худшее из всего, что когда-либо было, и что оно никогда не кончится — иллюстрация того факта, что регрессия аффективной сферы есть непрерывный феномен. Еще один пример состоит в том, что многие пациенты, особенно алекситимики, переживают физическую боль вместе с эмоциями или вместо них. Регрессия к младенческому состоянию приводит их к такому состоянию, когда телесная боль еще не могла быть отделена от общего паттерна страдания.
Таким образом я понял, как повысить аффективную толерантность пациентов. Я также понял, почему эффективность тренинга биологической обратной связи не соответствовала своим теоретическим возможностям. Другими словами, пытаясь помочь алекситимикам и аддиктивным пациентам “соприкоснуться со своими чувствами”, я столкнулся с переносом на первичный объект (primal object transference), который поставил передо мной новую неожиданную задачу. Оказалось, что материнский перенос проявляется в ощущении, что все жизненные и аффективные функции универсально переживаются и резервируются исключительно для материнской фигуры. Люди отличаются по степени, в которой они чувствуют, что все функции заботы о себе, самоутешения и даже, как мы видели, саморегуляции предоставляются матери и могут осуществляться только от “имеющего такую привилегию” объекта материнского переноса. Над этим удивительным наблюдением следует поразмыслить нам — “нормальным”, успешным аналитикам, полагающим, что у нас нет власти, скажем, чтобы снизить кровяное давление, хотя мы знаем, что могли бы сделать это посредством гипнотического транса или с помощью плацебо. Получается, что у нас есть способность осуществлять и такие функции, но мы сталкиваемся с запретом совершенно той же природы, что и истерический паралич. При этом ни в отношении самих себя, ни в отношении наших анализируемых у нас нет ни малейшей склонности подвергнуть анализу этот очевидный и буквально бросающийся в глаза запрет. Что может быть причиной этого поразительного феномена? Дело в том, что описанный выше перенос отличается от переноса, который открывают и реконструируют аналитики, интересующиеся доэдиповыми конфликтами. Однако недавние достижения в психоанализе, когнитивной психологии и других областях открывают широкие горизонты для дальнейшего развития, так что мы можем смело задать вопрос о значении комплекса Прометея. Неспособность пациентов позаботиться о себе нашла глубокое отражение в работах Зинберга (Zinberg, 1975) и подтверждена Ханзяном и Мэком (Khantzian and Mack, 1983); этот предмет был в дальнейшем тщательно исследован Ханзяном (см. гл. 2).
Взрослая катастрофическая травма
Если, ощутив по чувству страха или тревоги надвигающуюся опасность и оценив ее поначалу как преодолимую, взрослый начинает понимать, что угроза неизбежна, крайне опасна и деструктивна и ситуацию невозможно изменить, его аффект меняется со страха на кататоническую реакцию. Кататоническая реакция представляет собой часть древнего паттерна выживания, присущего практически всем животным. Этот капитулятивный паттерн содержит безболезненный “самодеструктивный” механизм, при котором сердце останавливается в диастоле (Richter, 1957; Seligman, 1975; Krystal, 1978b). Читатель может вспомнить мое утверждение о том, что страх, тревога и гнев являются активирующими эмоциями. Однако когда субъект приходит к выводу, что опасности не избежать, и капитулирует, тогда аффект меняется со страха на кататоническую реакцию, что знаменует собой возникновение травматического состояния. Субъект прекращает борьбу или сопротивление, подчиняется приказам и “замораживается”. Чем больше он подчиняется приказам или остается в беспомощном состоянии, тем “глубже”, полнее, необратимее развивается состояние покорности, напоминающее транс. За всеми этими реакциями могут последовать посттравматические осложнения (Krystal, 1978a,b,c, 1979, 1982—1983, 1985, 1988a). По мере развития травматизирующего состояния возникает нечувствительность к регистрации боли и болезненных чувств, за которой следует постепенное сужение когнитивной сферы, затормаживается восприятие, сознательная регистрация, запоминание и припоминание, наблюдение, прекращается решение проблем, выработка суждений и планирование. Эту картину назвали “психическое отключение” (Lifton, 1968). Потеря способности запоминать и припоминать лишает жертву доступа к “добрым интроектам”. Развиваются также необратимые изменения в я-репрезентации, в том числе разрушение идей доминирования и грандиозности, которые часто основываются на идентификации, что делает невозможным поддержание целостной я-репрезентации*. Травматическая ситуация может быть абсолютно несовместима с “воспринимаемой приемлемостью или видимостью” (perceived acceptability or visibility) и регулируется первичным вытеснением, создающим “дыру”, само существование которой может стать доминантной личностной организацией, которую Коэн и Кинстон называют “объектно-нарциссическое состояние”. В будущем такая организация может превратиться в императивную детерминанту защитного стиля (Cohen, 1980. 1987; Kinston and Cohen, 1986, 1987). У взрослых людей, переживших сильные когнитивные ограничения, последний шаг перед психогенной смертью, также включает в себя сложные последовательности встреч со смертью, такие как неспособность восстановить отрицание смерти, идентификацию со смертью или с умершим (Lifton, 1976, 1979). Но некоторая часть травматического процесса, которая тянется к жизни, представляет собой — я подчеркиваю — аффективную регрессию (т.е. аффективный компонент алекситимии и, вероятно, близкие к ней аспекты ангедонии). В своем докладе я не собираюсь прослеживать результаты влияния всех остальных факторов; однако необходимо помнить, что серьезные исследователи, желающие понять изменения, которые делают возможной терапию с аддиктивными пациентами, должны постоянно иметь их в виду.
Младенческая травма
Научившись узнавать признаки посттравматических осложнений во взрослом возрасте, я понял, что алекситимические, ангедонические пациенты (в частности, имеющие сильный запрет на заботу о себе) страдают от последствий младенческой травмы. Этот тип травмы относится к раннему периоду жизни и связан не с ощущением беспомощности и капитуляции, а с природой младенческих предшественников аффектов и с природой инфантильной незрелой психики. Даже переживая дистресс, в котором он практически не в состоянии самостоятельно поддерживать и успокаивать себя, младенец, в отличие от взрослого, не умирает; включается природная защита, благодаря которой он просто засыпает. Однако повторение тяжелой травмирующей ситуации приводит к прекращению развития и переходу в состояние апатии и отстраненности, известное под многими названиями, например, общее истощение (marasmus) или анаклитическая депрессия (Spitz, 1946). Если реализации привязанности к единственному (single) материнскому родителю что-то препятствует, ребенок умирает. Если ребенок выживает, остается травма, которую позднее можно обнаружить по страху перед любыми аффектами, а иногда и по глубокому недоверию ко всем людям, ожиданию “конца света”, глубокой убежденности, что как бы хорошо ни шли дела, в один “прекрасный” миг ощущение безопасности внезапно рухнет. Такие люди склонны к сильному торможению всех функций заботы о себе; они нуждаются в ком-то, кто “поможет им пережить эту ночь”. У них наблюдается алекситимия и ангедония в тяжелой форме. В отличие от остального взрослого населения, у них часто нет никаких воспоминаний о травме, а никто из старшего поколения в семье даже не представляет, что что-то происходило не так. То, что для малыша было сущим адом, могло полностью соответствовать лучшим намерениям заботливых взрослых или делалось по рекомендации домашнего врача или какого-нибудь уважаемого в семье служителя церкви; например, это могли быть благие рекомендации “сломить дух ребенка”, чтобы уберечь его в дальнейшем от “тяжкого греха гордыни”.
Операциональное мышление
Одной из трудностей, характерной для алекситимиков и аддиктов, является сильное подавление способности фантазировать об осуществлении желаний. Эту отличительную особенность выявили психоаналитики Парижа и Бет-Израэля, занимающиеся психосоматическими расстройствами. Было обнаружено, что эти пациенты не могли пользоваться психоаналитической психотерапией. Несомненно, нарушение их способности к фантазированию и использованию фантазий в целях защиты препятствовали неминуемому превращению этих больных в невротиков. Стало очевидным, что причина, по которой такие пациенты не могли формировать хороший перенос невротического типа, с которым мы уже умеем работать, заключалась в их потребности формировать иной тип переноса — столь непривычный для нас, что мы вообще не смогли увидеть в нем переноса.
“Характерен весьма незначительный интерес, который пациент проявляет к аналитику. Отношения вполне вежливые и корректные, но крайне бедные в либидинальном смысле. Организация самих отношений выглядит условной и персонализирована настолько слабо, что невротический механизм кажется полностью утерянным. Сохраняется некая инертность, отмеченная еще в предварительном интервью, что приводит к общей вялости ситуации” (de M’Usan, 1974a).
В своих ранних работах я разобрал детали терапевтических проблем алекситимиков и в их предположительном генезе (1971, 1979, 1981, 1982—1983, 1985, 1988а). Сейчас я лишь упомяну несколько клинических проблем без углубления в утомительную историю их выявления.
У младенческой психической травмы, о которой я говорил ранее, есть еще одно трагическое следствие: травма преждевременно прерывает иллюзию симбиоза, которая, судя по всему, имеет большое значение для ребенка, несмотря на тот факт, что новорожденный способен узнавать свою мать уже с первого дня (Stern, 1974, 1983). Иллюзия симбиоза позволяет младенцу наслаждаться фантазиями о всемогуществе. Преждевременное прерывание этого состояния удовольствия длительным неослабевающим дистрессом ставит ребенка перед неподконтрольным “внешним” объектом и в то же время перед чрезвычайно интенсивной агрессией. В своих предыдущих исследованиях этого предмета, в частности в статье, озаглавленной “Я-репрезентация и способность позаботиться о себе” (“Self Representation and the Capacity for Self Care”, 1977b), я отметил, что, судя по всему, степень подавления способности заботиться о себе пропорциональна соответствующей младенческой истории и трудностям в управлении агрессией в раннем детстве. Об этом писали также Ханзян (Khantzian, 1978) и Зинберг (Zinberg, 1975). Я сделал вывод, который не слишком отличался от взглядов Мелани Кляйн, что интенсивное чувство ярости, связанное у ребенка с переживанием матери, таит в себе большую опасность (1946). Однако, в отличие от Кляйн, мне удалось получить доказательства того, что материнский объект был “экстернализован” и “отгорожен” (“walled off”), вместо сравнительно раннего доступа к материнской репрезентации, как если бы мать была внешней, но легко доступной и время от времени могла бы использоваться, как если бы она была я-объектом или частью “я” или даже пищей. У аддиктивных пациентов материнская репрезентация жестко отделяется, и все доброе приписывается только ей. Это действие является предвестником последующей аддиктивной ориентации, при которой “внешний” объект необходимо получить любой ценой. Нарушение границ доброй материнской репрезентации, переживается как “преступление Прометея”, заслуживающее наказания “судьбой, которая хуже смерти”. Похоже, что интенсивность детской агрессии, даже при “достаточно хороших” обстоятельствах, является величайшей угрозой гармоничному развитию. Экстернализация агрессии через “создание внешней репрезентации объекта” является первым шагом к использованию фантазии для спасения жизни. “Приручение” ранних аффектов и совместное создание матерью и младенцем материнской и отцовской объект-репрезентаций происходит очень затрудненно, даже при своевременном создании обстановки уверенности и доверия (Dorsey, 1971a,b; Winnicott, 1971; Arvanitakis, 1985). При наличии угрожающего, неизбежного или актуального травматического состояния объект-репрезентация жестко отделяется, и доминирующее объектное отношение, вероятнее всего, будет иметь постоянный идолопоклоннический характер. Все хорошие качества, все права на утешение и исцеление, даже функции регуляции присваиваются этой репрезентации. Для я-репрезентации не остается никакой надежды на волевой контроль жизненных и аффективных функций. Можно предположить, что я-репрезентации на невербальном уровне приписывается вина за всё плохое. Чем тяжелее страдания в детстве, тем сильнее сдвиг в сторону самообвинения. В этих обстоятельствах возникает потребность в “аддиктивном объекте” — какой-то вещи или действии, которые являлись бы внешними по отношению к я-репрезентации. Этот объект может служить для утешения, но никогда не должен восприниматься ни на мысленном, ни на чувственном уровне как часть “я”. Ясно осознаваемая нами серьезность последствий плохого обращения с более старшими детьми, овладевшими речью, не позволяет сомневаться ни в существовании такой возможности, ни в нарисованной мною картине ранних реакций. Основная трудность при работе с людьми, пережившими младенческую травму, состоит в том, что значительная часть “проблемных” переносов является довербальной, амодальной и сенсомоторной. Наши исследования показали, что Штерн (Stern, 1985) был прав, допуская, что объектное отношение и следы памяти происходят от довербальных, досимволических аффективных настроек, остающихся в своем изначальном состоянии, а вербальные отношения и вербальная память надстраиваются “на вершине” инфантильного фундамента, причем перевод на вербальный уровень, с которым обучено работать большинство аналитиков, оказывается минимальным (Кrystal, 1988a).
В качестве иллюстрации приведу одно наблюдение, сделанное МакДугалл еще в 1974 г. и подтвердившееся много раз в моей практике и практике моих коллег при лечении алекситимиков. Укрывшись в терапевтическом процессе и почувствовав безопасность, эти пациенты полностью удовлетворяются тем, что регулярно приходят на встречи с аналитиком, делают тривиальные, скучные отчеты и не жалуются на отсутствие прогресса. Терапевтическое усердие, проявляемое аналитиком в этом случае, выдает неудачу терапевта в попытке постичь природу идолопоклоннического переноса. Основной дефект аддиктивного пациента заключается в его неспособности видеть в себе завершенную, уверенную в себе личность с высокой самооценкой. Поставленный диагноз не имеет значения, и если мы обнаруживаем, что в самом ядре я-образа пациента пребывает дефектное существо, которому требуется кто-то, постоянно его любящий, то значит, нам предстоит работать с аддиктом. Пациент бессознательно предполагает следующее: “Если бы ты любил меня, то все было бы совершенным. Если вещи несовершенны, ты не любишь меня, ты меня ненавидишь, ты презираешь меня, я никчемен и ты превратился в жестокую, злую ведьму”. Приходит на память старое высказывание Фенихеля о том, что мы должны понять “объект аддикции” пациента (Fenichel, 1945), правда, здесь оно имеет более сумрачную окраску. Идола следует умилостивить, освобождение от страдания должно быть куплено любой ценой. Библейская борьба против идолопоклонничества отражает победу сублимации над потребностью жертвовать перворожденным сыном (Menninger, 1938; Simmel 1927). Одним из главных плодов наших исследований генетического развития аффекта явилось понимание того, что в младенчестве аффекты недостаточно зрелы, чтобы использоваться при формировании ранней я- и объект-репрезентаций по типу взрослого, и что гедонический компонент аффектов развивается рано и “в одиночку” обслуживает раннюю стадию формирования образа объекта. “Обнаженный” принцип удовольствия и наказания, играющий регуляторную функцию, объясняет чрезвычайную силу и неумолимость влечения “истинного аддикта” (тип, который мы обычно называем “оральная личность”, в отличие от “невротического аддикта”). У этих пациентов дистресс или депривация автоматически расцениваются как состояние большой опасности, указывая им на беспомощность и никчемность их “я” (Wurmser, 1981a; Hadley, 1983, 1985; Krystal, 1981, 1988a).
Таким образом, ответ на задачу МакДугалл состоит в том, что лишенный аффектов пациент не может в ходе анализа восстановить контакт с утерянными частями своей души. Наоборот, он живет, преисполненный страха, ожидая возвращения состояния своей младенческой травмы. Он все еще вовлечен в процесс ублажения идола человеческими жертвами в наиболее распространенной и наиболее популярной форме — форме самопожертвования. Почему мы беспокоим его своей контртрансферентной озабоченностью, уверенные в том, что прогресс ему необходим? “Нет, благодарю покорно, — говорит он нам, — все идет так, как и ожидалось”, а затем добавляет: “Вещи можно доверять гораздо больше, чем человеку”.
Выяснив это, я все еще находился в недоумении. Почему при алекситимии в дополнение к регрессии аффективной сферы присутствует когнитивное нарушение? Чтобы это понять, необходимо было ждать новых открытий в области детского развития. Наконец, старую идею о том, что вследствие удовлетворения матерью частичных влечений младенца у него появляется (вторичная) привязанность к ней, сменил новый взгляд Боулби, в котором особенное внимание было уделено процессу возникновения привязанности как первичной потребности любого младенца (что свойственно всем млекопитающим). Сдвиг в акценте привел к масштабным исследованиям в области психологии развития и физиологии; пришло новое понимание многих аспектов раннего взаимодействия, в частности, понимание природы предшественников переходных объектов и их центральности.
Привязанность есть интрапсихический акт. Она проявляется через “поведение привязанности”; то есть в действиях, направленных на то, чтобы сохранить рядом первичный объект. Помимо этих “видимых” проявлений существует “скрытое”, но гораздо более важное поведение привязанности, заставляющее нас задуматься. Работа Хофера и других исследователей показала, что мать и младенец функционируют как одна открытая система, взаимно воздействуя на психологическую регуляторную систему друг друга: этот процесс, с одной стороны, имеет большое значение для развития малыша, а с другой — побуждает мать заботиться о ребенке (Hofer, 1978, 1981a,b, 1982, 1983, 1990; Hofer and Weiner, 1971). Одновременно происходило углубление понимания роли ранних предшественников переходных объектов (Gadini, 1975, 1987), интеграции психологических и физиологических процессов развития в ходе подготовки и использования соматического и Эго-аппаратов, необходимых для создания я-репрезентации и репрезентации мира (Hadley, 1985). Мы также узнали (и продолжаем многое узнавать) о том, как может нарушаться развитие переходных объектов (Tustin, 1980, 1981; Deri, 1984). Наконец, пришло понимание того, что переходные объекты играют огромную роль в утешении человека на протяжении всей его жизни — до самой смерти (Horton and Sharp, 1981, 1984; Horton, Gewirtz and Kreutter, 1988). Из этой работы и из других работ в области психологии развития вырисовывается весьма интересная картина.
Раннее развитие человека зависит от тактильных, вестибулярных и множества других физиологических стимулов. Сосание не только обеспечивает младенцу питание, но и является фактором разнообразной регуляции, необходимым для его физического и психологического развития, включая подготовку основы дальнейшей креативности и способности к утешению. Ранние предшественники переходных объектов могут быть частью себя (сосание своего языка или щеки), существующей до того момента, как младенец научится управлять соединением “палец-в-рот”, которое сопровождается множеством непосредственных “прямо-в-рот”-переходных объектов, являющихся прямыми заместителями матери. Они предусматривают физиологическую регуляцию и направляют его физическое и психическое развитие, как это делает хороший “материнский родитель” (good mothering parent). Если этот процесс не прерывается младенческой травматической ситуацией, переходный объект становится в высшей степени абстрактным, так что стишок, колыбельная, а со временем и глубоко абстрактные значения, мелодии, цвета и гармонии, понимание порядка, безопасности и любви могут быть развиты и использованы в течение жизни как постоянно увеличивающиеся внутренние ресурсы (Krystal, 1988c).
Все это может быть прервано травматическими событиями младенчества. Прекратится развитие способности к творчеству, воображение не сможет служить утешению и удовлетворению. Операциональное мышление становится последней линией обороны против возникающего вновь, расщепленного, идеализированного и вместе с тем подвергающегося поношению объекта. В ходе анализа пациенту становится слишком опасно открывать свою жизнь для свободной фантазии, поскольку аналитик, как первичный объект, может обернуться злой ведьмой, получающей наслаждение от пытки пациента, и чьей целью является “убийство души” (Shengold, 1989). Если ранний опыт младенца является травматическим, если темперамент матери и ребенка не слишком подходят один к другому или если психический аппарат малыша слишком возбудим, — даже хорошая мать бывает не в состоянии утешить ребенка и помочь ему найти собственный потенциал для успокоения. Если она не может установить взаимно комфортный ритм взаимодействия, потенциальный переходный объект может стать “аутистическим объектом”, который используется главным образом для исключения первичного объекта (а вместе с ним и всякой надежды на доброту мира). Мы можем припомнить, что это всего лишь усиленный вариант поворота от матери к вещам, уже обнаруженный у младенца, к которому неадекватно проявляют материнские чувства (Greenspan, 1981) и вновь открытый в алекситимических и аддиктивных личностях. Сильная амбивалентность, страх и стремление предпочесть недолго действующее химическое средство, а не положиться на человека, — все это было нам хорошо известно еще до того, как стали понятны истоки этого поведения, лежащие во младенчестве (Krystal and Raskin, 1970). Я считаю, что существует универсальное, но редко осознаваемое подтверждение тому, что наиболее аддиктивные вещества представляют собой воссоединение и конкретизацию предмета, который ищет “герой в своих странствиях”; во всех мифах и сказаниях содержится непреодолимое желание достичь воссоединения с матерью-возлюбленной-богиней. Эта фигура приносит удовлетворение и наказание, забвение и покой, любовь и смерть (Campbell, 1989).
Обсуждение
Подчеркивая определенные проблемы, возникающие у посттравматических, алекситимических, ангедонических и аддиктивных личностей, я не имел в виду, что все люди с химической зависимостью соответствуют этой модели. Прежде всего, я полагаю, что люди, относящиеся к наркоманам, составляют незначительное меньшинство от общего количества тех, кто на самом деле зависит от множества наркотиков. На мой взгляд, все, что мы говорим о “наркоманах”, относится к неудачливым пользователям наркотиков, которых мы уничижительно называем “рабами своей зависимости”. Такие люди не способны удерживаться от наркотиков по многим причинам, некоторые из них Радо указал еще в 1926 г., дополнив этот список в 1933 г. Основной проблемой этих людей является сильная амбивалентность и, как следствие, страх и чувство вины, вызванные употреблением наркотиков. Радо подчеркнул, что привычка использовать наркотики для поднятия настроения, а не для решения проблемы или принятия болезненной реальности (аддиктивный паттерн), также означает отказ от “ориентированного на реальность режима функционирования Эго”. Вследствие амбивалентности и чувства вины за агрессию, сопровождающихся магическим мышлением, возникает еще более глубокая дисфория, требующая увеличения количества наркотиков, что приводит к развитию “фармакотимического кризиса”, при котором наркотики уже не могут приносить желаемого освобождения. Параноидная паника приводит — или в большинстве случаев должна привести — к передозировке, которая иногда оказывается смертельной. Теперь мы можем говорить, что у таких людей запрещены все формы самоудовлетворения, у них генерируется особое чувство вины и ожидания столь ужасного наказания, что большинство из нас не может даже представить себе, какими кошмарами наполнена внутренняя жизнь наркомана. Сам Радо считал, что реакцией на потерю способности получать облегчение могут стать ярость, страх, чувство беспомощности и аффекты, которые можно было бы обсуждать с пациентом. Но уже в 1961 г. я обнаружил, что их реакция состоит из психологических компонентов инфантильного типа, недифференцированных аффектов, которые нельзя использовать в качестве сигналов. В тот момент окончательно рассеялись мои юношеские мечты о том, как я буду проводить психотерапию с исполненными раскаяния наркоманами, страдающими от воздержания и неспособными увидеть, что наркотики не могут им помочь.
К счастью, большинство употребляющих наркотики являются успешными людьми, они не теряют контроль над своими “ритуалами” и никогда не попадают в сферу нашего профессионального внимания. Однако вернемся к “неудачливым наркоманам”. В дополнение к уже упомянутой мною проблеме нарушений аффективной сферы существует проблема, которую сейчас принято обозначать термином “двойной диагноз”. И хотя я не могу сказать, сколько таких пациентов также могли быть отнесены к другим категориям, можно утверждать, что наиболее трудными при лечении полинаркотической зависимости являются практически все пограничные шизофреники (Southwick and Satel, 1990) и что наблюдающиеся у них периоды “успешного” употребления наркотиков весьма непродолжительны, а частые кризисы осложнены проявлениями ярости, расщепления, идеализации и поношения своих объект-репрезентаций. Суть в том, что, поскольку в их взглядах на себя и в их объектных отношениях фактически безраздельно доминируют фантазии, разочаровывающий объект постоянно превращается в ядовитую злую ведьму, и в таких условиях фармакогенный кризис зачастую становится делом жизни или смерти.
Работа медицинских комиссий “по здоровью и благополучию врачей” открыла нам тот факт, что у врачей с химической зависимостью самой распространенной поверхностной проблемой является тяжелая компульсивность, вызванная нереалистическим перфекционизмом. Такие врачи (и специалисты других профессий) склонны видеть в собственном “я” рабочую машину и организуют свою ежедневную активность, не обращая внимания на свое состояние. Для этого они пытаются поднять эффективность своего организма до максимально возможного уровня с помощью множества препаратов, создавая из себя “биоробота”. Врачи (в том числе и психиатры) доводят подобный механистический контроль над своей деятельностью до такой степени, что даже “тонко подстраивают” пациентов под свой эффективный способ жизни, имеющий “химическую” природу. Мы заразили своей химической механистической ориентацией даже атлетов и укрепили их поистине шаманской магией, переодетой в наше химико-механистическое искусство. Глядя на нас, врачей, даже атлеты стали использовать анаболические кортикоиды; теперь каждая уважающая себя команда должна иметь своего командного “гипнотизера”. Один мой пациент, врач, уже осознававший, что у него “что-то с сосудами”, но решивший во что бы то ни стало продолжать ночную работу в заводской больнице, был только одним из многих “успешных продуктов современного медицинского образования. Мы требуем запоминать как можно больше, заставляем наших учеников работать ненормально много, вынуждая их перебиваться короткими периодами сна, и невообразимо нагружаем их постоянно увеличивающимся грузом бюрократической писанины. Нам как-то не с руки признаться себе в том, что эти бедняги все время сидят на разного рода стимуляторах и прочих препаратах, пребывая в полуступорозном состоянии. Кроме того, к этим жертвам прогресса по меньшей мере раз в неделю наносят визит неназойливые и обаятельные торговые представители, которые великодушно предлагают бесплатные, но фантастически эффективные препараты — в подарок для будущих партнеров “Индустрии Здоровья”. Скоро и те и другие начнут представлять для нашего общества если и не угрозу, то серьезную проблему. Как и в семье, бывает, что самое важное, чему мы учим, не упоминается в официальной биографии.
Описанная мною проблема напомнила мне, что в нашей книге, изданной в 1970 г., Раскин и я назвали отношение наркомана к наркотику “случаем предельного переноса”, для которого — вследствие амбивалентности — характерны бросающиеся в глаза попытки принимать внутрь замену объекта — наркотик. Но наркотик при этом становится вредным, ядовитым и причиняющим боль. Если смотреть шире, то мы обнаруживаем, что наркоман работает над устранением пагубного объекта (с которым, в отличие от шизофреника, он не может поддерживать непрерывную фантазию слияния), и его ритуалы и симптомы, вместе с имплицитными фантазиями, представляют собой “отравленное яблоко” из рук ведьмы-матери, порождающее муки похмелья и воздержания. Здесь следует вспомнить опыт, известный всем, кто годами находится в метадоновой клинике. Часто, когда наркоманы, которых успешно поддерживают метадоном, имеют какую-нибудь проблему — физическую или вербальную — или переживают финансовые, социальные или любовные неурядицы, у них начинают развиваться симптомы похмелья от наркотиков. Эти симптомы также являются смесью недифференцированных, большей частью физиологических компонентов аффектов, которые пациенты пытались “заблокировать” или заморозить с помощью наркотиков. Социальный аспект их проблем упомянут здесь, чтобы напомнить нам, что лечение наркотической зависимости направлено не на актуальную проблему как таковую, а на паттерн неудачных попыток человека помочь собственному “я”.
Все мы согласны, что необходимо работать над этой проблемой со всеми, кому есть что предложить, особенно с “Анонимными Алкоголиками”, “Анонимными Наркоманами” и другими подобными группами; один терапевт не может решить все проблемы. Я довольно рано обнаружил, что определенные типы наркоманов (те, которых мы называем “junkie”*), гораздо лучше лечатся в клинике, чем при работе с индивидуальным терапевтом, потому что им необходима возможность “расщеплять” свои амбивалентные переносы. Чтобы лечение продолжалось, в отношениях нужно находить какой-то позитивный перенос (Krystal, 1964).
По последним оценкам, около 30% наркоманов имеют серьезные аффективные расстройства, требующие лечения, — остальные особенности не требуют срочного вмешательства (Кleber and Gold, 1978; Mirin, Weiss, Soloqub and Jackuelin, 1984). Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что с постоянным распространением психотропных препаратов как через “нравственную” индустрию здоровья, так и через подпольную фармацевтическую индустрию, в любой из сфер жизни мы будем находить все больше и больше потребителей наркотиков. Многим людям прописывают антигистаминные препараты, препараты для мышечной релаксации или от нарушения внимания. Более ста миллионов рецептов в год на употребление бензодиазипинов порождает множество “нормопатов”, которых необходимо мягко отучать от препаратов, рассматривая при этом их подспудные проблемы. При работе с любыми пациентами аналитику следует помнить об аддиктивных механизмах.
Выводы: о нескольких терапевтических проблемах
Акцент, сделанный в данной статье на роли посттравматических факторов в возникновении и поддержании наркотической зависимости, вынуждает нас сказать несколько слов о восприимчивости и защитных функциях в аспекте предотвращения травмы. Фрейд точно заключил, что определение тотальной беспомощности и покорность, которые запускают травматический процесс, субъективно детерминированы. Этот взгляд прошел испытание временем, пережив современный взрыв исследований по посттравматической тематике. С другой стороны, Фрейд считал восприятие поверхностным и правильным даже в травматической ситуации. В 1893 г. Фрейд одновременно предложил два определения травмы. В первом определении говорилось, что травма заключается в том, что человек сталкивается с переполняющими его эмоциями. По второму определению, травма возникает тогда, “когда сама несовместимость воздействует на Эго... и Эго решает отвергнуть несовместимую идею. Эта идея не уничтожается при отвержении, а просто вытесняется в бессознательное”. Фрейд представлял себе, что вытесненное восприятие было безупречно воспринято и сохраняется в вытесненном состоянии в своей безупречности. Этот взгляд сохранен неизменным и во втором томе “Семинарских чтений” (Workshop Series) (Rothstein, 1986). По моему мнению, такой взгляд не соответствует задачам и опыту работы с посттравматическими пациентами, и это несоответствие имело важное значение для применимости психоанализа к наркотической аддикции (Кrystal, 1988b). В своем обзоре я отметил исключительную важность вклада, сделанного Даулингом, который подчеркнул, что именно психический опыт и интерпретация (т.е., значение, приписанное воспринимаемому) обладают травматическим потенциалом. Таким образом, “реконструкция травмы, как и реконструкция в общем, есть попытка представить пациенту те события, чувства, фантазии и мысли, которые и составили его [травматический] опыт” (Dowling, 1986). То же самое можно найти у Бреннера. Как я уже отмечал, ссылаясь на первоначальную фрейдовскую модель восприятия, ее результатом стало продолжительное сохранение первоначальной ошибки в нашем подходе к аддикциям; мы пытались лечить аддиктивных пациентов методами и теориями, которые “достаточно хороши” для невротиков. Результат оказался печальным, и пришло время привнести в эту область наши новые знания и практический опыт.
Я упомяну лишь несколько имеющихся у нас возможностей.
1. Мы знаем теперь, что восприятие является сложным, многошаговым процессом с повторной обработкой ранних, смутных бессознательных регистраций и “финальной” стимульно-проксимальной регистрацией, в отношении которой — для очень небольшого количества попавших в сознание восприятий — мы можем ожидать “интерсубъективного” согласия.
2. Одновременно с повторной обработкой восприятий происходит параллельная операция — ответ на вопрос “Что это?”. Эта часть процесса восприятия, как и импульсы и идеи, осуществляется с помощью создания ассоциаций. Ассоциации, как все ментальные элементы, несут с собой сигнальные аффекты (т.е. аффекты подпороговой интенсивности). Эти сигнальные аффекты мобилизуют защиты, тип которых часто связан с типом доминирующих характерологических особенностей, определяющих, как и где, в каком состоянии сознания будет зарегистрирована данная идея или восприятие (Westerlundh and Smith, 1983).
3. Если восприятие переживается как опасное (“болезненное”, Dorpat, 1985), тогда, по модели Дорпата, активируется отрицание, которое инициирует защитные искажения и, может быть, даже вытеснение идеи. Во всяком случае, психический элемент не остается в своей первоначальной форме, и нельзя ожидать, что, будучи восстановлен, он даст нам точный ретроспективный взгляд на “внешнюю реальность”.
4. В работе ряда авторов (см. обзор: Krystal, 1985) существует подтверждение тому, что травматическое восприятие может переживаться как несовместимое с выживанием и может быть разрушено и забыто, оставив за собой “дыру”. Этот мнимый вакуум угрожает интегрированности человека; вокруг этой “дыры” выстраиваются определенные защиты, которые Коэн и Кинстон назвали “объектный нарциссизм”, сравнив с алекситимией. Критическим здесь является то, что структуры оказываются поврежденными или разрушенными; таким образом, по утверждению Коэна и Кинстона, та конкретная реконструкция, которую необходимо сделать, является реконструкцией структур. Если эта цель будет достигнута, а надежность терапевта будет проверена в серьезных, а иногда и несущих угрозу для жизни кризисах, тогда терапевт и пациент, работая вместе, могут сообща создать на первом этапе недостающие психические элементы. К этому я добавлю, что такое событие, вероятнее всего, происходит в измененном состоянии сознания (Krystal, 1988a).
5. Наконец, я хочу отметить еще раз, что у аддиктивных индивидов, страдающих от последствий инфантильной психической травмы и имеющих тяжелые нарушения способности заботиться о себе, мы можем ожидать идолопоклоннический перенос; это означает, что необходимо готовиться к работе с остатками ранних довербальных следов памяти, для чего потребуется понять, как обращаться с вновь переживаемыми амодальными, сенсомоторными переносами и аффектами.
5. Эротическая страсть:
еще одна форма аддикции
Анна Орнштейн
В наши дни наблюдается тенденция говорить о множестве видов симптоматического поведения, не связанного с использованием наркотиков или алкоголя, как о поведении “аддиктивном”. Анорексия и булимия, сексуальные излишества, азартные игры — все это причисляется сегодня к разряду аддикций, в первую очередь потому, что эти формы симптоматического поведения управляются сильными бессознательными императивами и субъективно переживаются как обязательные и безусловные. Если так будет продолжаться и дальше, то слово аддиктивный потеряет для клинической ситуации всякий смысл.
В клиническом примере, который я собираюсь представить, проявилась компульсивная природа любовных отношений пациентки, в которых прослеживались черты аддиктивного поведения. Мой доклад будет в первую очередь посвящен тем значимым патогенным факторам, которые удалось реконструировать в ходе анализа и которые помогли объяснить источник “сексуальной аддикции” пациентки*.
Клинический пример
В период, о котором идет речь, миссис Холланд была 35-летней замужней женщиной с двумя маленькими детьми. Она вся отдавалась любимому делу, занимаясь дома живописью. Хотя ее считали одаренной, она никогда нигде специально не обучалась. И, как выяснилось в ходе анализа, самым большим препятствием, мешающим ей стать профессиональным художником, стал ее образ Я. Пациентка чувствовала, что рисует недостаточно хорошо для того, чтобы поступить в школу живописи, и в то же время в ней жило убеждение, что ее работы превосходны и, стало быть, она не нуждается в инструкциях и советах. Боясь критики, она не отваживалась показывать свои картины никому, однако до мелочей представляла тот день, когда мир “откроет” ее как выдающегося художника.
Пациентку направил на анализ аналитик ее мужа. Муж был озабочен неустойчивым, странным поведением жены: она могла импульсивно уйти из дома (хотя никогда при этом не ставила под угрозу безопасность детей) и периодически переживала периоды довольно тяжелой депрессии, во время которых поговаривала о самоубийстве. Пациентка приветствовала анализ, поскольку ощущала себя в тот момент “на грани” чего-то, таящего опасность. Ей приелась обыденность, она избегала близких контактов со всеми, кто входил в ее социальный круг. Муж не осознавал всех трудностей, переживаемых пациенткой, так как та исправно справлялась со всеми лежащими на ней обязанностями.
Ход анализа и природа переноса
Миссис Холланд была очень привлекательной женщиной. Она приходила на сессии, одетая с очаровательной небрежностью, свидетельствующей об особенном чутье, которое приписывают людям с неординарным умением придавать своему внешнему виду впечатление совершенства.
Во время своего первого посещения миссис Холланд упрекала своего мужа в выпавших на ее долю тяготах замужества (он “ужасный пуританин”, ему не хватает юмора, он постоянно поучает ее, как ребенка). Однако вскоре пациентка заговорила о своем страхе за брачный союз и стала проявлять беспокойство о том, что в случае его распада она лишится детей. Миссис Холланд беспокоила природа ее внебрачных связей: на всем протяжении замужества она вступала в интимные связи с другими мужчинами — в фантазиях или в реальности. Озабоченность пациентки своими любовными приключениями и связанная с этим разнообразная ложь привела к тому, что она оказалась в состоянии полной эмоциональной изоляции от мистера Холланда. Миссис Холланд также проявляла беспокойство по поводу своего растущего пристрастия к никотину, марихуане и кокаину, которые, впрочем, она употребляла нерегулярно. Однако наркотики волновали ее гораздо меньше, чем отношения с мужчинами; и марихуану, и кокаин она употребляла только по просьбе любовников. Аддиктивная черта ее личности всплыла именно в ходе анализа ее внебрачных связей. Отмечу, что после нескольких неудачных попыток миссис Холланд спустя три года после начала анализа бросила курить. Вслед за этим резко снизилось и употребление пациенткой марихуаны; более того, как у многих бывших курильщиков, у нее появилась неприязнь к “курящему окружению”.
Уже в первый год анализа я узнала об императивной природе ее любовных похождений. Большинство ее связей начинались вполне невинно и при довольно обычных обстоятельствах. Она могла увидеть мужчину в лифте, встретиться с ним в отделении банка или на вечеринке, могла обратить внимание на служащего бензозаправки и не только пережить сексуальное возбуждение, но и быстро укрепиться в убежденности, что отношения с этим мужчиной способны развеять ее депрессию и прогнать неприятное ощущение внутренней пустоты. Фантазии, которые следовали за встречей, не ограничивались желанием сексуальной близости, хотя качество сексуального переживания (уровень эмоционального подъема и сила оргазма) играли значительную роль в дальнейшей судьбе новых отношений. Наиболее важным аспектом влечения было то, каким образом мужчина отвечал на ее инициативу. Если он улыбался в ответ и показывал взглядом, что она желанна, это глубоко действовало на эмоциональное состояние пациентки: она заряжалась энергией, становилась более внимательной к своей семье и эффективней выполняла свои функции. При каждой новой встрече, обещающей развитие отношений, она была уверена, что это будут “совершенные отношения”, которые перевернут ее жизнь, навсегда покончат с периодически возникающей депрессией и хроническим чувством эмоциональной изоляции.
Подобную потребность нельзя было объяснить обычным физическим вожделением. Моя пациентка испытывала восхищение, нежность и все остальные эмоции, которые мы обычно считаем присущими только “влюбленным”. У нее возникало сознательное желание длительного союза, а не сиюминутного приключения. В то же время какими бы пылкими ни были чувства миссис Холланд и как бы ни надеялась она на то, что отношения будут длительными, ее страсть редко длилась более нескольких месяцев; временами это были лишь несколько недель упоения. Мгновенно развиваясь, эти чувства исчезали с не меньшей быстротой... с тем, чтобы через некоторое время повториться с такой же интенсивностью.
В ходе анализа я была свидетелем многочисленных подобных встреч и со временем могла различить в ее поведении определенные паттерны: (1) Навязчивая озабоченность объектом своих желаний; ее состояние определялось ответом мужчины, а не реалиями ее или его ситуации. (2) Если мужчина отвечал ей, пациентка начинала считать его своей собственностью. Она могла настаивать на том, чтобы видеть его ежедневно или иметь с ним интенсивные контакты по телефону. Если он не был в состоянии это сделать, она впадала в отчаяние, временами суицидальное. Бывали периоды, когда ее образ Я как никчемного “дерьмового” человека возникал с огромной силой; эти чувства мог рассеять только положительный ответ мужчины, который в это время являлся объектом идеализации. (3) Чаще всего отношения завершались, потому что миссис Холланд начинала ощущать в поведении любовника признаки того, что он перестает принадлежать ей полностью, находится с ней “не целиком”. Так, она могла уловить некоторую холодность в голосе партнера; он мог не позвонить ей, когда она ожидала его звонка. Подобные переживания вызывали у пациентки ощущение “удара по голове”; она испытывала глубокое разочарование и ее захлестывало чувство жалости к себе. После этого миссис Холланд (обычно довольно внезапно) прекращала сложившиеся отношения.
Время от времени пациентка начинала беспокоиться по поводу того, что стиль ее поведения с мужчинами неизменно повторялся. После этого она могла — с чувством отчаяния или без него, но обязательно с покорностью — прийти к решению навсегда отбросить всякую надежду на изменение своего положения.
Миссис Холланд была старшей из двух детей, единственной дочерью. Она описывала своего отца как хорошо выглядевшего мужчину, который стал много пить, когда дочь была еще совсем маленькая. Отец обладал яростным характером, был абсолютно непредсказуем и часто грозил покончить с собой. Несмотря на то, что он часто возился с пациенткой, в чем звучал определенный сексуальный обертон (пациентка помнила, что задевала его эрегированный пенис и понимала, как это было ему приятно), он мог также без всякого предупреждения разозлиться на нее. Личность отца круто изменилась после того, как он бросил пить и злоупотреблять снотворным. Впрочем, это произошло, когда пациентке уже было около двадцать пяти лет.
Приблизительно в то же время, когда отец вернулся к трезвому образу жизни, миссис Холланд стала осознавать особенную природу их взаимоотношений. Именно с ней, а не с ее братом или с матерью отец делился некоторыми своими самыми интимными мыслями. Они имели общие интересы и наслаждались одними и теми же вещами. Очень важно отметить, что пациентка понимала, насколько отец зависел от нее эмоционально. Рассказывая, каким образом отец получал от нее ободрение и поддержку, пациентка могла прийти в ярость от того, каким безрассудством со стороны отца была ее эмоциональная эксплуатация. Чувство эксплуатации было очень прочно связано с воспоминаниями о том, как отец осуществлял сексуальные приставания к пациентке. В ней зрела уверенность, что отец определенно предпочитал ее матери в сексуальном отношении — хотя миссис Холланд не помнила явных проявлений сексуального поведения между ними. В ходе анализа она могла часто задумываться о том, что такая “привилегированная позиция” делала ее более подверженной колебаниям отцовского настроения, чем остальных членов семьи. Она была “избранной”; брат завидовал ей, но ни он, и никто другой не знали, каким “проклятьем” обернется это для девушки на всю оставшуюся жизнь.
Свою мать миссис Холланд описывала как “серую мышку”, тихую и слабовольную в отношениях со вспыльчивым и контролирующим мужем; впрочем, и она могла мгновенно отбросить свою покорность и наброситься на детей, оскорбляя их словами и действием. Пациентка с трудом вспоминала примеры своих взаимоотношений с матерью; ей припомнилось, что у матери часто болела голова и она большую часть времени проводила в своей комнате. “Была ли у матери депрессия?” — задавалась вопросом миссис Холланд. Размышляя о прошлом, миссис Холланд предположила, что мать должна была ревновать ее к отцу. Несколько наиболее мучительных моментов анализа были связаны с интенсивным желанием пациентки быть ближе к этой неприметной женщине и чувствовать ее любовь и доброе отношение.
(Я подозреваю, что интерпретация ее истории в этот момент оставляет впечатление, что пациентка страдала от последствий неразрешенного эдипова комплекса. Только дальнейшее разворачивание процесса анализа смогло открыть нарушения в более глубоких слоях психики и помогло нам узнать, что, хотя эдиповы проблемы действительно были представлены в показанном материале, не они являлись в этом случае главным элементом психопатологии.)
Еще в раннем возрасте у миссис Холланд проявился интерес к сексуальной сфере. В 13—14 лет у нее наблюдалась частая мастурбационная активность с Карлом, мальчиком чуть старше ее; кроме того, вместе со подругами она исследовала собственные гениталии. Несколько позже, в периоды одиночества и депрессии, она пробовала улучшать свое самочувствие с помощью мастурбации, сопровождая ее фантазиями о половых контактах с Карлом и с собственным отцом. Эти фантазии были наиболее сильным средством, позволяющим ей избавиться от скуки или депрессии; они или придавали ей бодрости и заряжали энергией, или успокаивали ее и возвращали душевный комфорт. “Этот мир фантазий. Без него я не чувствую себя живой или веселой... Но меня угнетает, что для того, чтобы чувствовать себя лучше, мне нужны фантазии...”
Некоторые особенности ее поведения, компульсивно повторяющиеся по отношению к мужчинам, проявились в переносе. На ранней стадии анализа пациентка была убеждена, что я испытываю по отношению к ней сексуальные чувства, как и многие ее подруги. В ее сексуальных фантазиях по отношению ко мне постоянно присутствовало определенное интенсивное переживание: всепоглощающая любовь без ограничений, способная стереть все различия между нами. В одной из таких фантазий пациентка сосала мою грудь и наблюдала, как на моем лице появляется чувство удовлетворения. Фантазии не доходили до генитального контакта. Пожалуй, в них наибольшее значение имела моя реакция на попытки миссис Холланд соблазнить и возбудить меня. Если я отвечала желанием говорить с ней, это успокаивало пациентку, как бы убеждая, что я нахожусь под воздействием ее чар. Мы пришли к пониманию фантазии как инструмента, в котором она “использовала” секс для того, чтобы вызвать у меня необходимый ей ответ. Для взрослого человека разжигание эротического возбуждения в “другом” является наиболее могучим средством привлечь к себе исключительное внимание. Постольку поскольку именно она вызывала у меня чувство восторга, миссис Холланд могла быть убеждена в том, что она любима и желанна. Подобное переживание можно сравнить с переживанием младенца, который старается вызвать улыбку на лице матери (см.: Winnicott, 1971). Фантазия такой интенсивной сексуальной вовлеченности со временем была замещена фантазиями, в которых пациентка представляла себя грудным младенцем, а я заботилась о ней. Находясь в состоянии подавленности и безнадежности, она испытывала желание слезть с кушетки, сесть у моих ног и положить свою голову мне на колени.
Первое время периоды депрессии регулярно сопровождались желанием смерти. “Ах, если бы я могла умереть, не причиняя боль своей семье”, — говорила миссис Холланд. Она всегда держала при себе запас снотворного и настаивала, что его следует хранить “во имя безопасности”; пациентка чувствовала себя лучше, всегда имея под рукой “еще один выход”. Временами она беспокоилась о том, что пугает меня своей озабоченностью смертью и что я могу из-за этого прекратить анализ. Принимая суицидальные намерения пациентки всерьез, я в то же время никогда не считала миссис Холланд человеком, не поддающимся анализу. Мои суждения основывались на способности пациентки развивать интегрированный я-объектный перенос. На второй год анализа сформировался устойчивый архаический перенос слияния (merger transference), который углубил аналитический процесс. После этого миссис Холланд редко говорила о желании умереть, позволяя это лишь в моменты, когда была мною разочарована или когда ее постигала неудача при попытке получить восторженную реакцию от очередного мужчины, привлекшего ее внимание. Настроение пациентки, ее самовосприятие и самооценка целиком и полностью зависели от ответной реакции, которую проявлял объект ее переноса.
Хорошим примером может послужить сессия, состоявшаяся на второй год анализа, во время которой миссис Холланд рассказала мне о своей любовной неудаче со своим новым мужчиной. После нескольких свиданий, во время которых пациентке казалось, что новый знакомый находит ее привлекательной, она сделала ему недвусмысленное предложение о более близком контакте. Поначалу мужчина не возражал, но в конце концов отклонил все ее попытки перейти к более интимным отношениям. У миссис Холланд немедленно исчез интерес к работе и способность концентрироваться на повседневных делах, началась депрессия и проявились нигилистические взгляды на жизнь. У нее возникла уверенность в том, что она потеряла сексуальную привлекательность — то единственное качество, с помощью которого она могла приблизить к себе человека. Сама миссис Холланд ощущала себя “безнадежно разрушенной и мертвой изнутри”; она была убеждена, что я, терапевт, или не понимаю, что это для нее значит, или, если я все же понимаю, то не могу принять ее бесчувственные и отмершие части; эти чувства заставляли ее желать смерти. Я сказала, что представляю, как трудно для нее почувствовать мое приятие, если она сама не принимает этих чувств в себе. “Да — , ответила она, — разве может кто-либо знать, что это такое — постоянно жить в сером мире?.. Лишь на миг мне кажется, что вы не догадываетесь о моих мучениях, и почти в тот же момент я чувствую, что вы все понимаете. И это чувство, что вы на самом деле понимаете, приносит необыкновенное облегчение”. Затем ассоциации миссис Холланд обратились к Карлу: мучительность и острота сексуального возбуждения, которое он вызывал в ней, остались для нее прототипом любовных переживаний. Она чувствовала себя абсолютно “поглощенной” (absorbed) им, а он был “поглощен” ею. “Это было не обычное сексуальное переживание, а нечто большее, как будто я полностью потерялась в его теле, а он в моем”. Именно этого переживания она хотела достичь со своими любовниками и надеялась получить то же от меня. Следующая ассоциация пациентки была о том, как друг описывал ей ощущения после кокаина: “Он заменяет любовника или кого-то, кто дает тебе ощущение того, что ты живешь”. Могла ли я понять, почему, когда миссис Холланд чувствовала себя отверженной и была готова расстаться с жизнью, мастурбация вместе с воспоминаниями о переживаниях, которые давал ей Карл, оказалась единственным средством, приносящим ей успокоение? “Каждый раз, вспоминая это, я понимаю, как далеко ушла от всего, что можно назвать интимным...” Этим она давала понять, что один секс без чувства настоящей любви мог бы стать средством, с помощью которого пациентка попытается преодолеть чувство эмоциональной изоляции и внутренней омертвелости.
Я-объектные переживания, которые пациентка искала со мною и с любовниками, обладали аспектами слияния (merger) с объектом и отражения в нем: интенсивность эротических и сексуальных переживаний предохраняла ее от чувства собственного одиночества в присутствии другого. В то же время эти переживания успокаивали ее и придавали ей значимость: пациентка становилась единственным человеком, способным вызвать у нас, своих избранников, чувство огромного наслаждения, и поэтому мы должны были сосредоточить все внимание только на ней. Архаическая природа переноса проявлялась также в императивном характере ее потребности получать ответ в желаемой манере и в том, каким образом она пыталась этими ответами управлять. Именно навязчивость и императивный характер ее решений во что бы то ни стало добиться необходимой реакции впервые навели меня на мысль о наличии у пациентки “аддиктивного” поведения.
Несмотря на ожидаемые периодические “бури” в переносе, миссис Холланд чувствовала, что я “слышала” ее и была способна отвечать живущей в ней маленькой девочке, которая хотела от других не только безусловного принятия, но и интенсивно проявляющихся подтверждений любви по отношению к ней. Это очень рельефно проявилось в одном из снов пациентки. В ее сне кто-то говорил на двух языках: один язык был для “внешнего”, другой для “внутреннего”. “Забавно, что я не чувствовала себя покинутой, — говорила она, — внутренний язык предназначался мне... Вы говорите на языке, который ребенок внутри меня понимает... В другой раз я говорила кому-то, что в каждом из нас есть ребенок... Ребенок во мне из Бангладеш... но во сне он был здоровым, хорошо развитым младенцем”. (Думаю, сон показал, что мое принятие и отзывчивость по отношению к поврежденному и эмоционально изголодавшемуся малышу внутри нее позволили пациентке начать ощущать себя — хотя бы во сне — здоровым и хорошо развитым ребенком).
Точно так же живо и интенсивно, как она выражала мне свои сексуальные и нежные чувства, миссис Холланд проявляла чувства гнева и злости по отношению ко мне. Находясь в состоянии особенной ранимости, она могла впасть в ярость, если я не могла распознать даже мгновенные сдвиги ее настроения или не понимала, какого ответа она от меня ждет. Это были периоды, когда ничто из того, что я говорила, не было “достаточно хорошим”. Она чувствовала, что ей придется прожить остаток своей жизни в поисках реакций на нее, которые были бы достаточно интенсивны для того, чтобы успокоить ее возбуждение и наполнить пустую депрессию внутри нее. Фрустрированная в своих ожиданиях “безупречного ответа”, миссис Холланд могла неожиданно начать изливать свою ярость с огромной силой; интенсивность ее гнева временами просто лишала ее дара речи. Однако лишь однажды она почувствовала, что хочет уйти от меня. Пациентка посчитала анализ завершенным, когда смогла спокойно сказать мне, что она чувствует, что как бы убивает меня, когда я “совсем выключилась”.
За три года аналитической работы миссис Холланд все яснее стала ощущать сексуальные контакты как временную меру, которая ставит ее в весьма сомнительное положение. Она увидела сон, который интерпретировала как сигнал, что такой способ улучшения своего состояния крайне опасен. Пациентке приснилось, что она была на прогулке в горах. Внезапно почва под ногами стала скользкой и она упала на камни. Но камни также начали сползать вниз, и миссис Холланд ощущала себя сползающей вместе с ними в ущелье; она могла лишь держаться за почву под ней. Камни двигались, и под ними обнаруживались разные жуткие создания. “Эти камни были моими кратковременными отношениями... Они давали мне временную поддержку и безопасность. Во сне я должна была сойти с них, потому что они влекли меня к пропасти”. Она решила, что жуткие создания под камнями были ее собственными чувствами по отношению к себе самой. Она могла скрывать их не дольше, чем была способна получать удовлетворение от любовных отношений. Но отношения, как и камни, были опасны сами по себе, и ее хорошее самочувствие было временным состоянием, не более чем иллюзией.
Со временем миссис Холланд все реже стала заводить новые любовные связи, причем сокращение их числа не приводило к упадку жизненных сил. Пациентка обнаружила, что может успокаивать себя фантазиями, в которых я обильно кормлю ее и желаю ей спокойной ночи. Эти трансферентные переживания могли — ретроспективно — лучше всего объяснить ее возросшую способность к управлению своими напряженными состояниями и уменьшить необходимость в повторении симптоматического поведения*.
Обсуждение
Как я отмечала во вступительных комментариях, мой способ слушания, способ организации данных и манера, с которой я вводила свои интерпретирующие комментарии, — все это определялось моей теоретической позицией, основанной на Я-психологии. Разворачивая и углубляя аналитический процесс, я обнаружила, что задаю себе следующий вопрос: каковы были источники переживаемой миссис Холланд апатии, дисфории, депрессии и суицидальных мыслей? Почему она не могла поддерживать длительные отношения и больше фокусироваться на рисовании, которое доставляло ей удовольствие и для которого у пациентки имелось природное дарование? Что могло лучше всего объяснить ее симптоматическое поведение, “финальный шаблонный путь”, с помощью которого она пыталась преодолеть свои болезненные аффективные состояния? Этот последний вопрос был связан с функцией и значением реакций ее любовников, которые были необходимы, чтобы она чувствовала себя живой, бодрой и энергичной. Было ли что-то особенное в физическом облике и манерах этих мужчин, что могло так легко зажечь в моей пациентке чувство страсти и инициировать ее фантазии о постоянном союзе? Наконец, почему переживания, связанные с Карлом, оставались настолько сильными, что память о них помогала ей преодолеть депрессию и апатию?
Императивная потребность в ответных реакциях, которая помогала моей пациентке функционировать, указывала на первичное расстройство “я”, которое характеризуется нарушением регуляции аффектов и напряжений, нехваткой жизненной силы, склонностью к фрагментации и ипохондрическим проявлениям. Трудность в регуляции напряжений могла быть обнаружена (1) по императивной потребности иметь “fix”*, роль которого играл взгляд мужчины, полный восхищения и вожделения, и (2) по манере, в которой миссис Холланд реагировала на пренебрежение собой и неизбежно возникающую при этом фрустрацию. Ее ярость быстро нарастала, а поведение в этих условиях становилось абсолютно непредсказуемым. Страх критики, испытываемый пациенткой, и идеи грандиозности, которые она поддерживала по отношению к своим талантам, также показывали, что ее инфантильная грандиозность не подверглась адекватной трансформации; она осталась крайне уязвимой к реакции окружающих.
Поскольку ее любовники могли не соответствовать архаическим ожиданиям и их ответные реакции не были подвластны ее контролю, первоначальные страстные влюбленности быстро уступали место разочарованию, вслед за которым находился новый человек с “правильным выражением на лице”. Миссис Холланд не могла вырваться из этого замкнутого круга повторений. Лишь в процессе анализа архаическое качество ее потребностей было осознано, принято и эмпатически интерпретировано.
Природа и степень дефектов в структуре “я” говорили о том, что источник проблем пациентки лежал не в наиболее кричащих эпизодах прошлого — я имею в виду сексуально соблазняющие, непредсказуемые, бурные и унизительные взаимоотношения с отцом. Ее дефекты скорее напоминали наследие еще более ранних, причинивших ущерб развитию, переживаний. Подозреваю, что в младенчестве у миссис Холланд развилось то, что Кохут и Вольф (Kohut and Wolf, 1978) назвали “недостимулированное “я” (“understimulated self”). Опыт переживаний, связанных с ее отцом, несмотря на свою эксплуатирующую природу, был во многих отношениях укрепляющим; он имел два важных аспекта: (1) возбуждение от взаимодействия само по себе будило в пациентке жизненные силы и (2) в то же время она чувствовала свою ценность и значимость. Трагедия заключалась в том, что те же самые переживания, которые помогали ей преодолевать апатию и безразличие, впоследствии создали у нее симптоматическое поведение. Эти недоразвитые сексуально гиперстимулирующие и инцестуозные контакты стали прототипом, по которому она пыталась преодолеть свою депрессию и суицидальные мысли во взрослом возрасте.
Кохут и Вольф (Kohut and Wolf,1978), обсуждая функции эротизации и сексуализации, описывали индивидов, чьи формирующиеся “я” получали недостаточно ответных реакций в ранний период жизни, и которые затем использовали любой доступный стимул для создания псевдовозбуждения с тем, чтобы победить болезненное чувство омертвелости, которое обычно владело ими. Дети используют любые доступные им методы: в младенчестве они бьют себя по голове, в латентный период компульсивно мастурбируют; в подростковом возрасте совершают опрометчивые поступки. Взрослым доступен гораздо более широкий спектр самостимулирующей деятельности — в сексуальной сфере промискуитет и разнообразные извращения, в несексуальной сфере — азартные игры, достижение наркотического и алкогольного возбуждения.
Пациентка, а вместе с ней и я, складывали мозаику из разрозненных кусочков; она как бы спрашивала: “Что было первым — Карл или мой отец?”. Думаю, что оба эти переживания выполняли одну и ту же психологическую функцию, оба они помогали ей преодолевать чувство пустоты и депрессии. По отношению к Карлу, в течение пубертата, когда сексуальность переживается наиболее остро и глубоко, она обнаружила, что и сексуальное возбуждение, и последующее облегчение могли ее успокаивать и стимулировать. Ее игривое взаимодействие с отцом и более интимные моменты в их отношениях порождали не только приятное возбуждение; пациентка также испытывала чувство принадлежности и собственной значимости для другого человека. Карл должен был быть благодарен ей за то, что она приводила его в сексуальное возбуждение, то же самое происходило и в ее взаимоотношениях с отцом. Это давало миссис Холланд чувство собственной ценности и значимости в глазах обоих. Тесный физический контакт также был важным аспектом ее переживаний, связанных с Карлом и отцом.
Я полагаю, потребность в интенсивной вовлеченности в отношения с мужчиной стали для миссис Холланд “последним обычным способом”, с помощью которого она надеялась вновь пережить то же самое чувство приятного возбуждения и единения с другим человеческим существом, как это произошло у нее с отцом и Карлом. Однако эти попытки самолечения были обречены на неудачу и, как это ярко выразил один из ее снов, внебрачные любовные связи дарили ей лишь временное облегчение и вызывали серьезные осложнения в ее жизни взрослой женщины.
Поначалу я полагала, что сексуальные аспекты отношений с мужчинами были решающим фактором для успокоения миссис Холланд и придания ей жизненных сил. И в определенной степени это было правдой. Однако со временем я начала понимать, что лишь после того, как миссис Холланд некоторое время не находила мужчину, в которого могла влюбиться, и когда она чувствовала депрессию и суицидальные желания, лишь тогда она обращалась к воспоминаниям о сексуальном возбуждении, связанном с Карлом и отцом; после чего ее удовлетворяли чисто сексуальные отношения с мужчиной. Здесь сплелись два элемента, оба важные, но имеющие для нее различные я-объектные функции. Когда миссис Холланд чувствовала себя относительно хорошо, не подвергаясь угрозе фрагментации, но и будучи не способной сконцентрироваться на рисовании, — обычно вялая и апатичная, — она могла преследовать мужчину, надеясь и ожидая, что, влюбившись и предавшись любовной страсти, она сможет преодолеть апатию и депрессию, которые преследуют ее всю жизнь. Когда пациентка переживала суицидальные чувства и боялась, что уровень ее возбуждения сигнализирует о надвигающемся психозе, тогда, чтобы восстановить нарушенную интегрированность своего “я”, она прибегала к компульсивной мастурбации, сопровождающейся сексуальными фантазиями об отце и Карле.
Этель Персон (Ethel Person, 1988) в книге “Сны о любви и роковые встречи” так описывает субъективные переживания человека, испытывающего романтическую любовь: “Состояние влюбленности дает ощущение близости, первоочередной значимости, экзальтации”. Субъективно озабоченность другими переживается как “верх блаженства, освобождение, величайшее удовольствие”. Идеализация и переживание слияния являются центральными для этого состояния. Вследствие значимости идеализации разочарование в возлюбленном приносит внутреннее опустошение. Персон сравнивает целеустремленность влюбленного с упорством ребенка, который кричит, призывая мать. И, как ребенок, влюбленный человек способен чувствовать, что одной безграничной силы его желания должно быть достаточно для достижения своих “требований” к партнеру; потребность в контроле чувств другого является частью нормальных отношений влюбленности.
Если таково описание обычной любви взрослых людей, насколько усиливаются эти характеристики, когда человек стремится утолить жажду переживаний, желая преодолеть эмоциональную смерть? Моя пациентка искала состояния экзальтации и “блаженства” с огромной решимостью и целеустремленностью. Как только отношения переставали приносить желаемое, они немедленно разрывались. Персон описывает людей с подобными проблемами как “любовных наркоманов, чья жизнь протекает в стремительном чередовании эротического возбуждения и разочарования”.
Трудно сказать, какие физические качества мужчины привлекали внимание моей пациентки больше всего, однако в их манере поведения определенно было нечто, что пациентка могла обнаружить. В них была какая-то игривость и шаловливость, они никогда не были серьезными и приземленными, как ее муж. То, что миссис Холланд расценивала как игривость, могло быть движение руки, которым мужчина взъерошивал волосы, или ответная улыбка, в которой она видела заигрывание и обольщение. Эти атрибуты поведения, вероятнее всего, будили в ней прошлые переживания, связанные с Карлом и отцом. Что делает одного человека привлекательным для другого — одна из загадок “эротической эстетики”. Как сказал Столлер: “Мы ошибаемся, думая, что то, что возбуждает нас эротически, есть неизменное и универсальное наследие нашего вида, не связанное с культурой и личной историей. Существуют лишь немногие вечные истины в искусстве эротики. Все дело в интерпретациях, и эти интерпретации изменчивы” (Stoller, 1985).
Резюме
В весьма сжатом клиническом отчете я попыталась проследить причины возникновения “аддикции” пациентки, объектом которой являлось чувство приятного возбуждения, которое она переживала в повторяющемся и имеющем компульсивную природу поиске интимных отношений с мужчинами. Реконструкция в ходе анализа архаического, отражающего слияние я-объектного переноса позволила предположить, что симптом пациентки был связан с довольно серьезным дефектом в структуре “я”, который брал свое начало в ранних периодах ее жизни и был связан с хронической депрессией ее матери. Сексуальные гиперстимулирующие взаимодействия с отцом в латентный период и с Карлом в пубертатный период стали эффективным способом для преодоления детской депрессии. Симптоматическое поведение в период взрослой жизни представляло собой непрерывные попытки возродить старые переживания, для того чтобы продолжать функционировать и избавиться от апатии, депрессии и суицидальных мыслей.
6. Сексуальная аддикция
Уэйн А. Майерс
Клинический материал, представленный в этой статье, взят из моей аналитической работы с пациентами, проявляющими аддиктивное сексуальное поведение. Поиск ими сексуальной разрядки носил непреодолимый характер, что обычно ассоциируется с аддиктивным поведением. Эти пациенты иллюстрируют ценность аналитической работы с такими людьми, как они.
Клинический материал
Случай 1
Алекс начал курс анализа со мной в возрасте 33 лет после нескольких попыток лечения, которые прерывались то из-за смерти, то из-за переездов предыдущих терапевтов. Предшествующее лечение касалось раннего периода его жизни: мать Алекса развелась сначала с его биологическим отцом, который исчез из ее жизни сразу после того как она забеременела, а затем с первым отчимом, с которым она вела совместное хозяйство и воспитывала Алекса с года до десяти лет. Третьего мужа матери пациент презирал и практически не общался с ним. Патриарх семьи, состоятельный дедушка Алекса по материнской линии, был единственной постоянной мужской фигурой в его жизни.
К сожалению, и дед, и мать общались с Алексом так, словно они происходили из разных галактик. Эмоциональные потребности мальчика практически не находили ответа, не хватало ему и разнообразного близкого физического общения с родными. Пациент рос с ощущением своей неадекватности, считая себя “неправильным мальчиком”, и постоянно боялся, что его когда-нибудь обменяют на “правильного”.
Испытывая презрение к первому отчиму, Алекс, тем не менее, осознавал тот факт, что пенис этого мужчины выглядел гигантским по сравнению с его собственным. Хотя внешне пациент пытался быть безразличным к обоим отчимам, зависть к их пенисам иногда прорывалась наружу; он чувствовал обиду при этом очевидно неблагоприятном для себя сравнении.
После окончания колледжа пациент проводил значительную часть времени, посещая бары для “голубых”, различные бани и книжные магазины Нью-Йорка. Так как Алекс нигде не работал, получая деньги на жизнь от своего деда, он мог беспрепятственно проводить все свободное время в поисках притягивающих его мужчин с большим пенисом. В течение десяти лет, предшествующих началу анализа у меня, пациент имел по меньшей мере один (чаще несколько) половой контакт в день с новым партнером. Я подчеркиваю: с новым партнером, — чтобы привлечь внимание к тому, что его редко привлекала возможность вступать в сексуальную связь с одним мужчиной более чем один раз. Как я понял, некоторое время поработав с Алексом, его целью было “иметь” кого-то, не держась за него.
Вскоре после начала анализа для меня стало очевидным, что поиск Алекса носит характер непреодолимого влечения. Этот поиск едва ли был сексуальным по своей природе, несмотря на то, что большинство эпизодов завершались оргастическим удовлетворением обоих партнеров. Скорее казалось, что контакт преследует цель принудить другого мужчину (который практически всегда выбирался на основе предположения, что имеет большой пенис), восхититься эрегированным фаллосом Алекса. Как только пациент чувствовал, что этот факт признан “партнером”, миссия могла считаться завершенной, а сексуальная разрядка (если она происходила) становилась лишь дополнительным бонусом.
Одна из трагедий, преследовавших Алекса всю жизнь, заключалась в том, что он не мог противостоять потребности “нейтрализовать” каждого мужчину, у которого он видел (или представлял) большой пенис. Совершив половой акт с одним мужчиной и сразу же столкнувшись с другим, которого хотел, Алекс ощущал унижение, если был не в состоянии вновь вызвать у себя эрекцию. Для того чтобы избежать этой “беды”, пациент начал носить с собой фотографию себя с эрегированным пенисом, чтобы покрасоваться перед партнером и в любом случае ощутить его восхищение. Этот частный аспект поведения Алекса был уже описан мною (Myers, 1990). Я вновь упомянул его потому, что ношение с собой своей фотографии привело к резкому усилению в пациенте чувства тревоги — фотография как бы символизировала, что вся вселенная мужчин с большим пенисом теперь становилась для него доступной. И если ранее после полового контакта с мужчиной Алекс без особого желания проходил мимо новой возможности заполучить незнакомого партнера, то теперь он чувствовал себя просто вынужденным “заполучить их всех”.
Движущая сила большинства сексуальных приключений Алекса была связана с тревогой, возникшей в его трансферентных отношениях со мной, в периоды расставания с ним на уикэнд или на время каникул. В эти моменты он воспринимал меня как отвергающего или безразличного к нему человека; интерпретация этого факта просто приводила его в ярость. Он видел в моих словах попытку заставить его признать значимость меня и моего пениса для него. Его ярость была вторична и вызывалась чувством, что в этих случаях я “минимизирую” его, будто бы его идеи и чувства, вся его жизнь не имеют значения и лишь то, что принадлежит мне, и мой “трансферентный фаллос” что-нибудь значат. В этой связи я был для него копией его нарциссической матери и такого же деда — то есть человеком, не способным настроиться на его мысли и признать их обоснованность. Когда я наконец сформулировал это, Алекс заметно расслабился и наш терапевтический альянс начал укрепляться.
В этой обстановке пациент начал рассказывать сны, в которых я представлялся ему как благожелательная родительская фигура, способная успокоить его тревогу. В таких снах, а также в сознательных фантазиях мои сексуальные качества выглядели неопределенными и не столь важными для него. Казалось, что в тот период, продолжавшийся добрых шесть или семь лет, Алекс желал от меня утешающего присутствия, которое могло бы облегчить его тревогу в те моменты, когда он был не в состоянии “нейтрализовать” определенного мужчину. Мысль, что кто-то недостаточно изучил его фотографию или недостаточно ощутил достоинства его эрегированного члена, была для него хуже пытки. В такие моменты его муки были просто невыносимы, и он часто сравнивал их с мучениями наркомана, которому отказали в его дневной “дозе”.
Лишь после того, как я в течение многих лет выполнял для Алекса убаюкивающую функцию, он смог взглянуть на меня и на свою жизнь по-другому. Алекс начал писать рассказы и эссе для изданий гомосексуальной ориентации, что принесло ему определенную известность в этих кругах. Казалось, что его статьи, напечатанные в популярном издании, начали замещать потребность в фотографии и эксгибиционизме в гей-барах и банях. Понемногу он начал отказываться от своих ежедневных похождений, делая перерывы на день или два. Хотя пациент и продолжал испытывать значительную тревогу, он стал лучше переносить депривацию и сопровождающее ее чувство депрессии, помогая себе флуоксетином.
В это время Алекс начал видеть различные сны обо мне. В этих снах я часто виделся ему как потенциальный сексуальный партнер. И хотя он продолжал убеждать меня, что я на самом деле не его “тип”, наши встречи в его снах имели любовную окраску, обнаруживая свою сексуальную природу. Все, что он хотел получить от меня, было чувство моей любви и восхищения, но не только его эрегированным пенисом, а им самим как более совершенной личностью. Исторически мы могли отнести это желание к его детской всепоглощающей мечте добиться восхищения и признания от первого отчима в надежде, что этот мужчина станет господствовать над матерью и дедом и тогда и они также полюбят Алекса. Несколько раз пациент испытывал глубокую печаль, связанную со своими снами, и в этот момент не переносил никаких интервенций с моей стороны. Раскрытие своих чувств он расценивал как подтверждение передо мной своей слабохарактерности и бессилия, что было невыносимо тяжело для него.
Несмотря на все эти проблемы, Алекс настойчиво продолжал лечение параллельно со своей литературной карьерой. И хотя он еще не полностью оставил свой опасный стиль жизни, но значительно изменил его. Дополнительное использование флуоксетина для борьбы с сильной депрессией оказало в этой фазе лечения значительную помощь.
Случай 2
Бартон пришел ко мне на лечение, когда ему было около тридцати, после того как он вдребезги разнес комнату проститутки, к которой пришел. Инцидент случился после того, как после двух успешных половых актов женщина отказалась мастурбировать его пенис. Описывая, что произошло вслед за этим, пациент отметил, что и раньше секс с “девочкой” не приносил ему желаемой “разрядки” и он всегда чувствовал настойчивую потребность получить от нее “нечто большее”. Итак, когда женщина отказалась выполнить его желание, в Бартоне мгновенно вспыхнула дикая ярость, которую он начал вымещать на предметах окружающей обстановки. Однако он сам не на шутку испугался, когда спустя мгновение в комнату ворвался “хозяин” проститутки и выхватил нож. Лишь вытащив пачку денег и протянув ее сутенеру, Бартон сумел выйти невредимым из этой переделки.
Бартон был единственным ребенком пожилого маниакально-депрессивного отца и молодой, привлекательной матери, которая часто разгуливала вокруг дома полуодетой. Став юношей, он начал предполагать, что мать исполняет свои супружеские обязанности на брачном ложе из-за денег, которые приносит ей замужество за богатым стариком. Он не видел, чтобы мать любила старика-отца, но это не слишком трогало пациента, так как ни первая, ни второй не проявляли к нему слишком теплых чувств. В добавление ко всему они часто оставляли его на попечение нянек, уезжая в длительные кругосветные круизы.
Бартон припомнил, что еще в самые ранние годы трогал руками свой пенис, находясь один в комнате. Пациент быстро обнаружил, что такое поведение дает ему некоторое чувство комфорта и освобождает от тревоги, которую он испытывал, когда его родители были в отъезде или когда няни спали или были заняты своими делами. В период пубертата ласка пениса приводила к эякуляции и давала дополнительную разрядку от напряжения, так что пациент начал усердно практиковать мастурбацию. В течение ряда лет он мастурбировал по 6—12 раз в день. Затем, учась в колледже, он узнал о существовании проституток, после чего начал посещать этих женщин так часто, как могли позволить его финансы. Хотя Бартон часто брал любую женщину, которую мог найти в массажном салоне или отеле, он предпочитал женщин с большой грудью, причем гораздо старше себя. Его сексуальные притязания не отличались разнообразием, Бартона вполне устраивали обычные неизощренные половые акты, где мужчина или женщина находились сверху; этого было достаточно, чтобы получить желаемое чувство облегчения и разрядки.
В личной жизни Бартона не было никаких отношений, имеющих для него какую-нибудь реальную значимость. В университете он идеализировал одного преподавателя, женщину в возрасте за тридцать, но их общение было редким и не претендовало на близость. Хотя пациент горячо желал, чтобы эта женщина любила его, она никогда не появлялась в его фантазиях, сопровождающих мастурбацию. К тому времени, когда Бартону исполнилось двадцать лет, у него уже был опыт свиданий с женщинами, однако большую часть свободного времени он проводил в поиске проституток с большой грудью.
Лечение началось как психоаналитически ориентированная психотерапия с частотой две сессии в неделю, затем перешло в психоанализ — четыре сессии в неделю. Поначалу я опасался возможности психотического переноса у этого пограничного пациента, но когда Бартон смог переживать сильные чувства гнева в терапевтическом сеттинге в периоды сепарации от меня и не декомпенсировался, я решил переключиться с кресла на кушетку, и он согласился. Для нас обоих было также очевидным, что Бартон мог психологически мыслить и обладал сильной мотивацией изменить свою жизнь к лучшему.
В самом начале терапии большую часть времени мы уделяли работе над потребностью пациента избавиться от чувства внутреннего возбуждения, которое поддерживало пламя его страстного стремления к проституткам. Лексикон, которым Бартон описывал свои похотливые акты, был на удивление строгим, наполненным словами, которые чаще ассоциировались с приемом пищи, а не с занятиями сексом, например голод, изголодавшийся, аппетит, насыщение.
Всякий раз, не имея денег на очередную проститутку или не найдя кого-нибудь, кто мог дать ему желаемое облегчение, Бартон чувствовал, что его раздирают ярость и отчаяние. Несколько раз, находясь в таком состоянии, он ломал мебель в своей комнате и в других помещениях; при этом пациент переживал эпизоды деперсонализации-дереализации, которые крайне пугали его из-за усиливающегося чувства дистанции по отношению к людям.
Эти эпизоды были похожи на другие, которые он переживал в юности, когда его покидала мать или няня, которую он особенно любил. Хотя нам обоим и было очевидно, что преследование Бартоном проституток произрастало из фантазии, что его пышногрудая мать сексуально “обслуживала” отца исключительно по материальным соображениям, этот инсайт практически не облегчил непреодолимого характера его стремлений.
В переносе я стал покидающей проституткой-матерью, которая служила ему за деньги, или скупым отцом, который не желал передавать ему свою фаллическую власть. В любом из этих обличий я представлялся недостаточно дающим, а он недостаточно получающим, нуждающимся ребенком, который или жаждал вливания моей маскулинности, или безуспешно пытался не отстать от последней доступной помощи, оказываемой ему моей материнской сексуальностью. По выходным и во время летнего отпуска чувство брошенности заставляло его ощущать себя никчемным и вызывало сильную ярость. Единственным утешением, которое он мог противопоставить этим чувствам, были повторяющиеся встречи с “ночными бабочками” или компульсивная мастурбация. И хотя Бартон был способен увидеть, что мастурбация позволяет ему стать для себя утешающей матерью, которой у него никогда не было, через идентификацию его самого с пенисом (приравнивая свое тело к пенису), на протяжении многих лет он не мог избавиться от непреодолимой настойчивости, повторяемости и аддиктивной природы своего стиля поведения. Во время летнего отпуска, после того как Бартон завершил четвертый год анализа, другая проститутка выразила недовольство чрезмерностью его сексуальных желаний и отказалась подчиниться его требованиям повторить то, что уже сделала два раза. После этого случая пациент ушел в глубокую депрессию, стал очень рано просыпаться и несколько последующих недель ощущал, что теряет вес. Какое-то время он пытался избавиться от плохого настроения с помощью кокаина, однако пережитое при этом ощущение потери контроля испугало его и Бартон прекратил свои попытки.
В свою очередь, для меня было очевидно, что Бартон переживал период клинической депрессии, и я предложил ему принимать трициклический антидепрессант (нортриптилин), который за несколько недель справился с нарушениями настроения. Поначалу я прописал ему имипрамин, но изменил свое решение, поскольку имипрамин вызывал у него снижение эрекции и негативно действовал на эякуляцию. Интересно отметить, что даже на пике своего депрессивного состояния Бартон продолжал путешествовать по проституткам в среднем не реже трех раз в неделю. Это подчеркивает тот факт, что сексуальная активность у таких пациентов в значительной мере поддерживается не столько потребностью уменьшить напряженность либидинальных желаний, сколько стремлением понизить агрессивное напряжение и преодолеть чувство ангедонии.
Оправившись от этого депрессивного эпизода, пациент начал бояться прекращения медикаментозного лечения антидепрессантами, поскольку не хотел возвращаться в пучину безысходности и отчаяния, из которой только что выплыл. В ряде случаев он просил меня о дополнительных сессиях, чтобы быть уверенным, что я по-прежнему рядом с ним; при этом он мог испытывать по отношению ко мне гнев или стыд за проявленную потребность зависеть от другого. В это время ему снились сны, выводившие его из душевного равновесия. В этих снах периодически повторялись сцены отвержения или оставления пациента женщинами, после которых он ощупывал свой пенис и обнаруживал его сморщенным и уменьшенным в размерах. В такие моменты он мог обратиться за помощью к пожилому мужчине, после чего его орган восстанавливался в размерах. В ассоциациях, связанных с этими снами, он представлял меня могучей любящей “отцовской фигурой”, каким он всегда хотел видеть собственного отца, в противовес своей зависимости от матери и нянек.
Ощущение зависимости от меня вынудило его к неадекватному ощущению своей гетеросексуальности, он сравнивал себя со сморщенным пенисом гомосексуалиста из своих снов. После этих снов пациент переживал отчаяние и бессильный гнев, которые вновь заставляли его возвращаться к активной мастурбации или поиску проституток, способных избавить его от депрессии.
На пятом году анализа Бартон встретил женщину старше его на несколько лет, с которой у него установились на удивление хорошие отношения. У нее был свой бизнес в другом штате, и вскоре она предложила ему стать ее деловым представителем в его родном городе. После знакомства с этой женщиной он смог переносить воздержание и оставил неприятную привычку контролировать партнершу каждое мгновение. Хотя его сексуальные аппетиты все еще оставались неуемными, ее, кажется, устраивал этот аспект их отношений, а частота их сексуальных связей значительно снизила потребность Бартона в услугах проституток или в мастурбации, хотя он не смог полностью от этого отказаться. Перед летним отпуском он сказал мне, что согласился переехать в ее город.
В этот момент в своих трансферентных ожиданиях он представлял, что я буду сердиться на него за “отвержение” по отношению ко мне. Кроме того, его сны были наполнены образами ужасного возмездия с моей стороны за “запрещенные отношения” с пожилой женщиной. Когда пациент увидел, что я не собираюсь превращать эти вызванные переносом фантазии в реальность, он вновь почувствовал легкую депрессию от мысли, что может меня потерять. “Я не хочу вас терять, — сказал он, — и все же, если уеду с Марго, я должен отказаться от вас. А вы — единственный, кто до нее оставался рядом со мной и мог меня успокоить”.
В такой ситуации я был вынужден вновь прописать Бартону антидепрессанты. Кроме того, он вновь активно занялся поисками проституток и мастурбацией. Непреодолимый характер этого поведения, который был свойственен ему много лет, вернулся на некоторое время, пока прописанные препараты не возымели положительного эффекта, значительно снизив напряжение. Наконец пациент смог увидеть, что потеря меня не означает потерю его маскулинности, его идентичности или способности переживать чувство удовольствия и ощущать себя живым; вслед за этим Бартон отказался от выписанных ему препаратов. В конце концов он решил, что может прекратить лечение, которое было для него чем-то вроде “дозы” для наркомана. После этого он еще много раз звонил мне из другого города и даже несколько раз приезжал повидаться. Хотя неодолимое влечение, которое составляло часть его “привычки к девочкам”, значительно снизилось, активность не исчезла совсем. Однако Бартон во многом отличался от того молодого парня, который начал лечение несколько лет назад.
Случай 3
Чарльз пришел на лечение в возрасте 26 лет, вняв просьбам своей жены. То, что начиналось как периодический просмотр порнографических видеокассет для достижения сексуального возбуждения в начале их совместной жизни, в течение двух лет превратилось для Чарльза в насущную необходимость. Его супруга была крайне встревожена тем, что ее муж больше не мог сексуально возбуждаться от нее. Некоторое время его еще могло возбудить то, что она надевала туфли на высоких каблуках и эротическое белье, а затем ее провоцирующее раздевание; потом перестало помогать и это. Единственным, что теперь возбуждало Чарльза, были постоянно обновляющиеся порнографические фильмы.
Исследуя историю жизни пациента, мы обнаружили, что в первые пять лет жизни он, как и его пятилетняя сестра, спал в родительской спальне, где, без сомнения, много раз был свидетелем первичной сцены. Следующие шесть лет своей жизни он провел, деля комнату с сестрой, пока однажды несчастная сестра не убежала из дому в канун своего шестнадцатилетия. Родители не слишком старались найти ее, и после побега сестра навсегда исчезла из его жизни.
Во время учебы в средней школе и в колледже Чарльз встречался с молодыми женщинами, но эти отношения никогда не длились долго. Случайные сексуальные контакты, которые были у него в те годы, сопровождались сложностями в достижении эрекции и неспособностью проникнуть в партнершу. На протяжении долгого времени его мучили мысли о своей возможной гомосексуальности. Свою жену пациент встретил перед самым окончанием бизнес-школы, с ней он смог довести половой акт до конца. Успех окрылил Чарльза, и они, поженившись, перебрались в Нью-Йорк, где Чарльз получил великолепную работу в инвестиционной компании.
Долгие часы, проводимые на работе, утомляли пациента, и вскоре его сексуальное желание по отношению к жене стало ослабевать. В этих условиях Чарльз предложил ей вместе смотреть порнографические фильмы. Неизменно возникающее при этом сексуальное возбуждение тут же переходило в половой акт, что служило веским аргументом против неприятия женой порнофильмов. Однако после ряда лет просмотр порнографических видеокассет превратился из вспомогательного действия в обязательную процедуру. Как я отмечал выше, жена Чарльза пыталась возбуждать мужа по-другому, например, исполняя перед ним эротические танцы или одевая провоцирующее белье, но кассеты вскоре стали единственным средством, способным вызвать у пациента желаемую эрекцию.
Вскоре после начала анализа Чарльз стал проявлять свое любопытство по отношению ко мне. Он испытывал интерес к тому, где я провожу выходные и отпуска. Его также интересовало, кто делал фотографии, висевшие в моем кабинете, — я или члены моей семьи. Когда я заговорил с ним об этом, он заинтересовался, ездят ли мои дети отдыхать вместе со мной и моей женой. Я подтолкнул его к дальнейшему разговору, и пациент рассказал, что самым счастливым из его ранних воспоминаний был отдых с родителями и сестрой, приходящийся на латентный период. В его расспросах скрывался подспудный интерес: позволяли ли мы с женой нашим детям быть свидетелями первичной сцены, как это случалось в его жизни?
К концу первого года лечения Чарльз почти полностью утратил сексуальный интерес к жене. Однажды она вернулась домой раньше обычного и застала мужа, мастурбировавшего в постели во время просмотра порнографического фильма. Этот случай настолько вывел молодую женщину из душевного равновесия, что она решила уйти от мужа — тот слишком явно отвергал ее чувства. Когда я попытался связать его поведение по отношению к жене с желаниями пациента углубить близость со мной в переносе, пациент разгневался, поскольку ощутил в моих словах попытку обвинить его в гомосексуализме. С этого момента он стал все больше и больше привязываться к просмотру порнофильмов.
Расспрашивая Чарльза о том, как он ведет себя при просмотре фильмов, я начал осознавать стоящую за этим долгую историю и непреодолимое влечение, характерное для таких его действий. Чарльз начал смотреть порнографические ленты в раннем юношестве; первые Х-видеокассеты он находил в спальне у родителей. Несмотря на то, что при просмотре этих фильмов он чувствовал сексуальное возбуждение и мастурбировал до оргазма, Чарльз признавал, что удовольствие от своих “занятий” он получал явно небольшое. Скорее он ощущал, что наблюдает что-то, происходящее на экране, не вполне осознавая, что же там происходит на самом деле.
В течение второго и третьего года лечения Чарльз вообще ни с кем не встречался. Он много работал и был вознагражден за свое усердие продвижением по службе и увеличением зарплаты. Однако единственное, для чего он жил, был просмотр новых порнофильмов. Он сообщал мне, что просмотрел много сотен таких фильмов. Выясняя детали, я обнаружил, что большую часть времени, занятого просмотром новых кассет, мой пациент испытывает скуку; у меня возникло ощущение, что он как будто ищет что-то особенное, что никак не может найти. “В конце концов, существует такое огромное количество позиций и вариаций, которые можно показать на видео”, — сказал он мне как-то. В то же время пациент признавал, что предпочитает ленты, в основе которых в той или иной мере присутствует тема инцеста. Обычно при моей попытке углубиться в исследование этого вопроса он отделывался восклицаниями относительно моего “грязного, вечно думающего об одном и том же ума”; он также заявлял, что я “отрываюсь” за его счет.
Несмотря на то, что Чарльз поначалу проявлял любопытство ко мне и к моей семье, в последовавшие после ухода его жены два года он практически утратил интерес и ко мне, и к моему офису. Следует отметить, что и свою жену он практически не вспоминал. Когда я прокомментировал пациенту этот феномен, он с гневом сообщил мне, что супруга бросила его и не заслуживает того, чтобы тратить на нее эмоции, а я (аналитик) даже не сделал попытки предвосхитить ее уход, следовательно, я или не забочусь о его благополучии или работаю неэффективно. В обоих случаях у него нет причины платить мне вниманием. Я заметил, что Чарльз, кажется, обвиняет меня в преступлении, за которое он на самом деле считает ответственными своих родителей — а именно за исчезновение сестры, — и предположил, что эта утрата очень мучает его. В ответ Чарльз залился слезами и сообщил, что сестра и в меньшей степени его жена были единственными людьми, о которых он когда-либо по-настоящему заботился. Он чувствовал, что его родители на самом деле никогда не любили ни его сестру, ни его самого. Иначе они бы не относились с таким невероятным безразличием к существованию детей и вряд ли так явно игнорировали бы их присутствие, предаваясь “своим омерзительным действиям в спальне”.
После сессии, в которой всплыл этот материал, Чарльз пропустил последующие три визита ко мне. По возвращении он рассказал мне, что не мог заставить себя работать и провел эти дни, просматривая бесконечное количество порнографических фильмов и мастурбируя в практически бессознательном состоянии. Он говорил о возникшем у него чувстве безнадежности и депрессии и даже вербализовал пассивные суицидальные идеи о том, что было бы лучше, если бы он умер. Чарльз сказал, что эти чувства представляют собой лишь усиление постоянно преследующего его ощущения пустоты. Единственным, что давало и дает облегчение, являются просмотр порнокассет, сопровождающийся мастурбацией, присутствие жены и посещение моих терапевтических сессий.
Я рассматривал возможность прописать ему антидепрессанты, но Чарльз быстро вышел из депрессивного состояния и смог возобновить работу. Его стремление к просмотру видео уменьшилось, и он стал более вовлечен в анализ, чем в предыдущие годы. “Думаю, я действительно временами путаю вас со своими родителями, — однажды произнес он. — И вы, и они интересуетесь всякими сексуальными штуками; кроме того, вы, как и они, работаете в обстановке, напоминающей спальню”. Я согласился с тем, что Чарльз путает нас, а затем отметил, что и он сам проявляет интерес к сексу. “Вы правы, — ответил он, — но я даже не знаю, что же на самом деле ищу”. Я предположил, что он, судя по всему, ищет на кассетах две не связанные друг с другом вещи. Во-первых, он пытается понять сексуальные отношения родителей, которые наблюдал в их спальне еще ребенком, не чувствуя себя исключенным из их взаимоотношений. Во второй догадке я был не слишком уверен: мне казалось, что Чарльз ищет на видеокассетах свою сестру, и после некоторых раздумий я все же высказал ему свои предположения. Услышав от меня такой комментарий, Чарльз охнул и скрючился на кушетке, как будто я нанес ему мощный удар в живот.
На последующей сессии Чарльз высказал убежденность в моей правоте: он действительно ищет на видео свою сестру. Пациент никогда не осознавал это, но предполагал, что если его сестра была все еще жива, она, вероятнее всего, могла бы заняться проституцией и, может быть, нашла себе место в порнографической индустрии. Бесконечно просматривая видеокассеты, он надеялся вновь обрести потерянный объект любви, который мог бы облегчить тревогу, возникшую у него в возрасте пяти лет, когда он был выдворен из родительской спальни. Он глубоко тосковал по сестре и сейчас был способен горевать о ее утрате, чего не мог делать в возрасте одиннадцати лет, когда сестра убежала из дома. Тогда он привлек к поискам сестры полицию своего родного города и частное детективное агентство, но его поиски так и не увенчались успехом.
На сегодняшний день анализ Чарльза продолжает развиваться. И хотя он все еще смотрит свои кассеты и занимается мастурбацией, эта активность уже не является столь интенсивной и повторяется не так часто. Несмотря на то, что Чарльз начал смотреть видеокассеты отдельных порнозвезд, которые кажутся ему похожими на сестру, эта деятельность уже не характеризуется непреодолимым влечением и аддиктивными качествами, как раньше. Тем не менее, он не способен сформировать новые значимые объектные отношения в своей жизни и все еще испытывает значительные трудности в анализе своего чувства зависимости от меня. Мы продолжаем работу и надеемся на будущее.
Обсуждение
В этой статье я представил материал о трех пациентах — мужчинах, которые проявляли сексуально аддиктивное поведение. Независимо от того, какой объект был выбран, это имело интенсивный и непреодолимый характер. В дополнение к этому, хотя оргастическое удовольствие было частым побочным продуктом эротических похождений всех трех мужчин, в своих повторяющихся поисках они пытались удовлетворить не только сексуальные, но и иные потребности.
Похождения Алекса, например, служили для целого ряда целей. Больше всего бросаются в глаза его попытки получить любовь и обожание другого мужчины (и бессознательно — его матери) через восхищение его эрегированным пенисом. В непрекращающихся попытках достичь этой цели Алекс бессознательно стремился изменить пассивно пережитую в детстве травму, связанную со сравнением эрегированного пениса своего отчима со своим органом и испытанным при этом чувством зависти. В тот момент, когда он мог заставить другого мужчину восхищаться своим эрегированным пенисом или его фотографией, он забывал о преследующем его всю жизнь чувстве унижения и кастрации. Эти аспекты поведения моего пациента похожи на то, что было описано рядом авторов (Socarides, 1978; Calef and Weinshel, 1984; Willik, 1988) в ходе исследований гомосексуальных отношений.
В добавление к этому, “воздействуя” на объект с помощью вызывающего у мужчин восхищение пениса, Алекс мог до некоторой степени нейтрализовать чудовищную ярость, которую чувствовал к отвергающим и унижающим родительским фигурам из прошлого. Эта функция его действий согласуется с представлениями Столлера о генезисе определенных перверсных действий (Stoller, 1975). Кроме того, эта функция важна для понимания поведения всех трех пациентов, описанных в этой статье.
Наконец, потребность Алекса в “воздействии” на других служила также целям саморегуляции и была направлена на преодоление чувства ангедонии и депрессии. Пытаясь изменить частоту своего сексуального аддиктивного поведения, пациент испытывал депрессию — в этот период ему было показано использование антидепрессанта (флуокцетина). Обнаруженная саморегуляторная функция сексуального аддиктивного поведения была важна и в случаях с двумя другими моими пациентами; мне думается, это один из важнейших ключей к общему пониманию генезиса такого поведения.
Рассматривая случай Бартона вне рамок явно эдипальных сопернических желаний триумфа над отцом в борьбе за “проститутку-мать”, мы можем легко обнаружить, что его взаимодействия с проститутками также служили попыткой нейтрализовать ненормальные вспышки ярости, берущей начало из детского опыта взаимодействия с обоими родителями. Через мастурбацию Бартон стал для себя утешающей матерью, которой у него никогда в детстве не было, бессознательно идентифицируя свое “я” с собственным фаллосом. Нет нужды говорить, что его материнское отношение к самому себе также было попыткой уменьшить чрезмерную ярость, которую он начал испытывать как результат неадекватного отношения к нему матери в детстве.
Однако, как было отмечено, когда проститутки отказывались выполнять сексуальные желания Бартона и тем самым удовлетворять скрытые за этим потребности, он впадал в крайнюю ярость или испытывал глубокую подавленность. Эти чувства заставляли его лечиться, и позднее, лишенный возможности проходить анализ во время каникул, он сам начал лечить свою депрессию кокаином и назначенным мною трициклическим антидепрессантом. Перед моим возвращением с каникул и возобновлением лечения пациент все еще поддерживал сексуальное аддиктивное поведение с проститутками в попытках избавиться от сильного чувства депрессии и ангедонии.
В случае с Чарльзом обязательный просмотр порнографических видеокассет служил для снижения интенсивного гнева, который пациент чувствовал к безразличным, игнорирующим родителям. Непрестанное “сканирование” видеофильмов также было для него, с одной стороны, способом понять сексуальное поведение родителей и не чувствовать себя исключенным из родительских сексуальных отношений, которые он наблюдал в их спальне. С другой стороны, это был поиск пропавшей сестры. Здесь следует отметить, что сестра рассматривалась пациентом главным образом как фигура, способная облегчить сильные чувства тревоги и гнева, вызванные тем, что он ребенком был изгнан из родительской спальни, и избавить его от депрессии и ангедонии, связанных с тем, что он чувствовал, что родители его не любят.
В заключение позвольте мне сказать несколько слов об аналитическом лечении пациентов с сексуальным аддиктивным поведением. Как вы заметили, в каждом из описанных трех случаев лечение привело лишь к определенным, достаточно умеренным изменениям. Алекс все еще ищет мужчин, Бартон — женщин, а Чарльз продолжает частенько просматривать порнографические фильмы в поисках потерянной сестры. И все же у каждого из них значительно уменьшилась драматическая интенсивность и повторяемость, которыми характеризовалось их поведение в начале анализа. Все они — Алекс, Бартон и Чарльз — переживали депрессию в ходе анализа, и два или три раза им требовалось сопровождающее лечение антидепрессантами. Уверен, что этого следовало ожидать, поскольку в основе каждого из этих трех случаев лежит ангедония. Но это не должно удерживать нас, терапевтов, от продолжения лечения. Наконец, все три моих пациента стали лучше работать и обрели способность образовывать объектные отношения более высокого уровня. Без сомнения, это неплохие достижения, хотя конечные результаты весьма далеки от совершенства.
Часть II
ОБСУЖДЕНИЕ
7. Психическая беспомощность
и психология аддикции
Лэнс М. Додс
Я хотел бы рассмотреть все доклады, сделанные на этом симпозиуме, взглянув на аддикцию с точки зрения роли психической беспомощности и нарциссической ярости, которую она вызывает у подверженных ей индивидов. В этом выступлении я кратко изложу все свои взгляды на данный вопрос (Dodes, 1990). Суть психической травмы заключается в беспомощном состоянии переполненности аффектами, что вызывает у индивида большую тревогу. Следовательно, поддержание чувства контроля над своим аффективным состоянием является необходимым механизмом саморегуляции и может также считаться центральным аспектом нарциссизма. Люди стремятся к аддиктивному поведению, потому что оно позволяет достичь чувства внутреннего эмоционального контроля над психической беспомощностью. Наркотики, например, являются “прекрасным средством для изменения аффективного состояния посредством намеренного контроля” (Dodes, 1990). Кроме того, вещества, вызывающие зависимость, способны восстановить чувство могущества даже без каких-либо фармакологических эффектов. Таковы, к примеру, неоднократно описанные в литературе переживания алкоголиков, которые чувствуют облегчение уже в тот момент, когда заказывают выпивку или только делают первый глоток. Что-то достигается одним лишь актом получения наркотика. Я рассматривал этот акт как сигнальное удовлетворение (по аналогии с сигнальной тревогой) влечения к удовлетворению господства над собой. Начиная цепь событий, которые приведут к изменению аффекта, человек подтверждает способность изменять и контролировать свое аффективное состояние. Поскольку использование наркотиков и другие типы аддиктивного поведения обладают способностью восстанавливать это центральное чувство внутреннего всемогущества, они могут функционировать как корректирующее средство, когда склонная к аддикции личность переполняется чувствами беспомощности и бессилия. Аддиктивное поведение при этом служит для восстановления чувства контроля и могущества, которое было потеряно или отнято.
Я отметил, что переживания беспомощности или бессилия являются центральными у аддиктивных пациентов, подтверждением чему является первый шаг программы “Двенадцать шагов” “Анонимных Алкоголиков” и похожие пункты других подобных программ, сосредоточенных на потребности терпеть собственное бессилие: “Мы признаем, что бессильны перед алкоголем...” (Alcoholics Anonymous World Servises, 1952). Точно так же в “Молитве здравомыслия” АА утверждается необходимость терпеть собственную беспомощность в словах: “Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить...” (Alcoholics Anonymous World Servises, 1975). Глубокая ранимость, из-за которой переживание беспомощности оборачивается психической травмой, может возникнуть у аддиктивной личности на любом уровне психосексуального развития. Это согласуется с нарциссическим значением такой уязвимости, поскольку и нарциссическое повреждение может возникать на любом уровне развития. Это согласуется и с тем фактом, что аддикты как группа очень различаются по степени своего общего психологического здоровья. Наконец, аддиктивное поведение характеризуется мощным, непреодолимым влечением, которое, несомненно, агрессивно по своей природе и служит для преодоления чувства беспомощности и восстановления ощущения внутренней власти. Это интенсивное агрессивное влечение, возникающее как результат нарциссической уязвимости, можно назвать нарциссической яростью.
Фактически, основные защитные характеристики аддикции идентичны характеристикам нарциссической ярости. Они включают в себя интенсивное непреодолимое влечение, которое не реагирует на факторы реальности; потерю автономии Эго, при котором подавляются другие элементы личности (другие функции Эго); стремление к трансформации пассивно переживаемой ситуации (беспомощность) в ситуацию активного действия (аддиктивное поведение); наконец, как и нарциссической ярости, аддикции, по-видимому, свойственен постоянный риск рецидива. Подводя черту под сказанным, я отмечаю в аддиктивном поведении активную сознательную и бессознательную попытку восстановить чувство внутреннего могущества и контроля при столкновении с психической беспомощностью и одновременно выражение нарциссического гнева, который порождается подавляющим (травматическим) бессилием.
Эдит Сэбшин (см. гл. 1) отмечала, что аддиктивное поведение характеризуется “непреодолимостью влечения, требовательностью, ненасытностью и импульсивной безусловностью выполнения”. Любая теория, стремящаяся пролить свет на природу аддикции, должна объяснить эти присущие ей качества. Хотя современные психоаналитические идеи подчеркивают роль аддикции в снижении болезненных переживаний, нет сомнений, что аддикты активно ищут с помощью своего поведения нечто, приносящее им огромное удовлетворение, и этот удовлетворяющий влечение Ид-производный аспект аддикции также должен быть исследован. В связи с отмеченной исключительной значимостью ярости при аддикции будет уместным привести обзор статьи Зиммеля (Simmel, 1927), сделанный доктором Сэбшин, где рассказывается о том, как аддиктивные пациенты ломают ветви деревьев и уничтожают и кастрируют изображения персонала больницы. Эдит Сэбшин также отмечает, что модели поведения, которые можно отнести к аддиктивным, значительно отличаются по уровню проявляемой жестокости. Такую вариативность следует объяснять, с какой бы точки зрения мы ни рассматривали аддикцию. Кроме того, ее необходимо учитывать при оценке способности данного индивида к аналитической работе.
Доктор Кристал (см. гл. 4) ссылается на важность при аддикции “иллюзии симбиоза” у младенца, которая позволяет ему свободно переживать фантазии всемогущества. Если эта иллюзия преждевременно прерывается длительным неослабевающим дистрессом, объектное представление (матери) становится идеализированным и я-репрезентация ребенка теряет всякую надежду на возможное самоуспокоение и саморегулирование. Однако, хотя аддикты временами могут не осознавать свои аффекты и, возможно, имеют фантазии относительно своей неспособности к действию (о чем писал Кристал), они, тем не менее, непрерывно успокаивают себя посредством аддиктивного поведения. Идея, что сами аддикты не способны контролировать свое поведение (по бессознательным причинам) и что наркотики властвуют над ними безраздельно, представляет собой часто встречающуюся у этих больных защиту (Dodes, 1990). Это экстернализация, с помощью которой аддикты отрицают собственные интенсивные чувства, регулярно проявляющиеся в их аддиктивном поведении. Таким образом, хотя пациенты могут чувствовать запрет на самоуспокоение и самоутешение, это переживание в своей основе может быть структурной фантазией, позволяющей не допускать осознания нарциссической раны и отказываться от восстановления того, что было потеряно.
Следует также отметить, что неспособность переживать обычный аффект, свойственная алекситимикам, представлена лишь у ограниченного числа представителей всей аддиктивной популяции. Для большинства же аффекты доступны или по меньшей мере представлены в поведении (как я уже описывал). Им доступны интерпретации; пациенты могут их переживать и в конечном счете интегрировать. Следовательно, надеясь прийти к сути понимания аддикции, мы не должны рассчитывать обнаружить ее в алекситимии как таковой. Психическая травма, на которую Кристал обращает особое внимание, имеет большое значение, но не в смысле сокрушительной глобальной катастрофы, ведущей к алекситимии, а как специфически повторяющаяся травматизация на различных уровнях психосексуального развития, которая оставляет в наследство нарциссической уязвимости беспомощность и гнев. (Степень осознания травматической беспомощности будет зависеть от особенностей развития конкретного человека.) Последствием этого, на мой взгляд, является то, что аддиктивные больные в общем больше поддаются лечению, чем грубо ограниченные пациенты, по-настоящему страдающие от “pensee operatoire” или алекситимии.
Доктор Ханзян (см. гл. 2) также указал на возможность лечения многих, если не всех, аддиктивных пациентов с помощью психоаналитически ориентированного подхода. Он отметил, что оценка тяжести психопатологии у таких больных зависит от исследуемой популяции. Расширив свои исследования за рамки метадоновой программы поддержки, он был поражен диапазоном психологических возможностей пациентов. В результате аналогичных наблюдений я сам начал полагать, что любое определение аддикции должно указывать на более узкий тип психопатологии, а не просто характеризовать расстройство личности; патология при аддикции представлена широким спектром структур характера.
В дополнение отмечу, что наш подход к исследуемой популяции определяет и наши находки, и сделанные на их основе выводы. Неудача в применении психодинамического подхода к аддиктам ведет к отсутствию исследований их внутренних переживаний и значения аддиктивного поведения в жизни этих людей. В результате мы окажемся не в состоянии помочь пациентам избавиться от своей зависимости. Так появляется тенденция формировать лечебные установки, которые не используют психодинамический подход, а то и активно избегают его (Dodes, 1988, 1991). Так, Вейлант (Vaillant, 1981), работая с “психодинамически несведущими” врачами, пришел к неверному заключению, что терапевты не способны управлять чувствами или проблемами, возникающими вследствие контрпереноса при лечении алкоголиков (Dodes, 1991). Авторы, представленные в этой книге, не разделяют точку зрения Вейланта. По их мнению, врачу, работающему с аддиктивными пациентами, очень важно не быть несведущим в психодинамическом плане, для того чтобы понять психопатологию и адекватно удовлетворить потребности аддиктивного пациента в ходе терапии (Dodes, 1991).
Доктор Ханзян обратил особое внимание на аспект употребления наркотиков как средства самолечения и перечислил внутренние условия, которые могут привести аддиктивно уязвимую личность к выбору конкретного типа наркотиков. Ясно, что процесс выбора происходит у большинства наркоманов, действительно предпочитающих тот или иной вид наркотика. С другой стороны, то, что наркоманы часто переходят с одного наркотика на другой, относящийся к совсем иному фармакологическому классу, или используют различные классы наркотиков в нерегулярных комбинациях, означает, что фармакология химического вещества может иметь лишь ограниченное значение при понимании аддикции (Wurmser, 1974; Dodes, 1990). Фактор “аддиктивности” химического вещества в этиологии или рецидивных проявлениях аддикции также переоценен. В частности, широкое использование таких веществ, как алкоголь и даже кокаин (которые относят к веществам высоко “аддиктивным”), людьми, не имеющими склонности к аддикции, предполагает, что проблема не объясняется внешними факторами — качествами химического вещества. Но эти рассуждения не отвергают полезность идеи самолечения, поскольку она выдвигает на первый план поиск наркоманом решения своей внутренней психологической проблемы. Выбор определенного наркотика может быть понят как попытка максимизировать требуемый психологический эффект. Следовательно, концепция самолечения совместима с различными определениями аддикции, в каждой из которых должно присутствовать управление внутренней психической функцией с помощью приема наркотиков.
Роль дефицита функции заботы о себе, которая была описана в ряде работ (Khantzian, 1978; Khantzian and Mack, 1983), затрагивает интересный вопрос о психологии Эго-дефицита при аддикции. Аддиктивным расстройствам присущ парадокс, касающийся неконтролируемости. Несомненно, аддикция — это феномен, представляющий собой компульсивное поведение с непреодолимым влечением, вся суть которого воспринимается аддиктом и окружающими его людьми как существование без контроля. В то же время большинство психодинамически ориентированных специалистов считает, что аддиктивное поведение преследует ряд целей: попытку удовлетворить потребность в контроле над невыносимым аффективным состоянием, поиск идеализированного объекта, управление карающим Супер-Эго и даже — и я хочу это подчеркнуть — сохранение контроля как такового. Разрешение этого парадокса находится в конфликте между бессознательными аспектами психики и другими ее аспектами, временно подавленными. Аддикция включает как потерю контроля над определенными функциями Эго, то есть потерю автономии Эго, так и одновременный захват контроля бессознательными защитами Эго и производными влечений, что приводит к отыгрываниям (enactment) аддиктивного поведения. Такой взгляд на баланс психических сил учитывает выражение влечения и удовлетворение влечения при аддикции, на чем первоначально была сфокусирована психоаналитическая мысль до возникновения эго-психологии (обратившейся к рассмотрению защитных функций Эго и дефицитарности защит) и признания значимости нарциссических проблем. С этой точки зрения неспособность позаботиться о себе может быть одним из факторов, которые влияют на психологический баланс у аддиктивной личности, делая ее уязвимой и подверженной аддиктивному поведению. Или, напротив, наличие сильной функции заботы о себе может быть защитой от отыгрывания неукротимых иным способом сил в недрах души, что приводит к аддиктивному поведению. Психология дефицита может быть интегрирована со взглядами на активные защитные функции аддикции, куда входит и активная корректирующая природа аддиктивного поведения по отношению к агрессии-влечению, о чем я уже упомянул особо.
Другой интересный момент, прозвучавший у доктора Ханзяна, это история споров между сторонниками модели “болезни” и тем, что мы называем “симптоматическим подходом” к злоупотреблению химическими веществами. Я согласен с тем, что нет необходимости сталкивать эти две модели друг с другом. Однако их интеграция возможна только тогда, когда концепция “болезни” будет определена в терминах, которые сделают возможным ее согласование с психодинамической работой, а не просто дадут ее объяснение как таковое. Концепция “болезни” является хорошим примером путаницы между описанием и объяснением, на которую ссылался Вёрмсер (см. гл. 3). Я предложил (Dodes, 1988) модель интегрирующего подхода, в которой у “болезни” различается два компонента: во-первых, история употребления химического вещества с неоднократным причинением вреда индивиду; во-вторых, постоянный риск повторения этого поведения в будущем. Взятые вместе, эти два компонента модели “болезни” фокусируют внимание на тяжести заболевания и на соответствующей ей необходимости воздержания, не препятствуя психодинамическому исследованию влияющих на это поведение факторов. “Болезнь” в этом определении рассматривается как “исторический и психологический факт, а не объяснение” (Dodes, 1988).
Для некоторых интегрированная психодинамическая терапия на основе концепции “болезни” видится как “последовательность” из предварительной, непсиходинамической, “болезнь”-ориентированной терапии и последующей психодинамической терапии. Главной трудностью в таком подходе является риск ошибиться в определении тех самых проблем, которые вынуждают пациента продолжать употреблять наркотики или алкоголь. Определение этих факторов может оказаться необходимым условием для успешного воздержания пациента; в некоторых случаях они помогают выбрать для пациента иные способы лечения, например, работу в группе “Анонимных Алкоголиков” (Dodes, 1991). Главная критика первоначальной психодинамической интервенции заключается в том, что некоторые психодинамические психотерапевты были не в состоянии отстоять необходимость воздержания с начала лечения и удовлетворить потребность в “стабильности, контейнировании и контроле”, как сказал Ханзян. Однако при учете фактора безопасности психодинамическая или психоаналитическая работа, проводимые с самого начала лечения, будут полезными и крайне значимыми для успешного лечения (Dodes, 1991). Что же касается важного технического вопроса, следует ли продолжать психодинамическую психотерапию при наличии аддиктивного поведения, его ответ лежит за рамками данного доклада. Одним словом, при оценке подобных случаев необходимо рассматривать ряд факторов: реальный риск для пациента, наличие и качество переноса, а также возможность получения реальной пользы от терапии, в то время как пациент активно употребляет наркотики или алкоголь (Dodes, 1984).
Доктор Ханзян также подчеркивает поддерживающую, направляющую роль “Анонимных Алкоголиков” и их ориентацию на потребности каждого участника в получении помощи от других. Ясно, что АА играют решающую роль в судьбе многих алкоголиков. Мое собственное мнение состоит в том, что АА способны исполнять для конкретного Эго роль протеза благодаря переносу, который многие алкоголики развивают при работе АА-группы. Как организация, АА служит всемогущим объектом и через это “высшее могущество” создает всемогущий переходный объект, используемый многими алкоголиками для замещения недостающего им внутреннего всемогущества, которое они искали и в употреблении алкоголя. Поскольку алкоголики “отказываются от проявлений своей собственной власти (чувства господства и контроля), признавая неспособность контролировать свою тягу к алкоголю и свою жизнь, эта сила приписывается организации АА; она присутствует в концепции “высшей власти” или в идеализированном видении самой организации... Трезвость (в этом случае) достигается через желание отказаться от права на выпивку в обмен на заботу и защиту идеализированного объекта” (Dodes, 1988). Так выглядят попытки аддиктивной личности восстановить внутреннее всемогущество с точки зрения объектных отношений (Dodes, 1990).
Наконец, доктор Ханзян упоминает увеличение наших возможностей при психотерапевтическом лечении аддиктивных пациентов. Возросла способность определения “уязвимых мест” пациента, соответственно усовершенствовались терапевтические техники, что позволило обеспечить при работе с аддиктивными больными бoльшую “поддержку, структурность, эмпатию и контакт”. Я бы хотел добавить несколько слов о психологической функции более активной терапевтической позиции. Такую позицию можно понимать как обеспечивающий объект, чья активная и очевидная для пациента забота о его безопасности и благополучии может быть интернализована, что в конечном счете обеспечит основу для формирования внутренней “функции заботы о себе” (Dodes, 1984). Но в краткосрочной перспективе она дает всемогущий объект, чье могущество, позаимствованное в переносе, можно использовать вместо могущества, которое достигается через аддиктивное поведение. Для этого, пока терапевт активно выражает свою озабоченность необходимостью воздержания для пациента и его безопасностью, нет необходимости активно создавать трансферентную роль — природа переноса как раз в том, что все это обеспечивает сам пациент. Однако, как недавно отметил Крис (Kris, 1990), если аналитик занимает “тихую” позицию при работе с пациентом, у которого присутствует сильная бессознательная карающая самокритика, молчание аналитика “переживается им как подкрепление самокритичного отношения” и, таким образом, не является нейтральным с точки зрения переживания анализа пациентом. Поэтому более активная позиция не должна означать возвращения к лечению внушением, но, напротив, может стать необходимой для полного аналитического исследования, позволяя избежать преднамеренного возникновения невысказанных неанализируемых негативных переносов. Поскольку многие, если не все, аддикты подвержены бессознательной самокритике, активная позиция является, по мнению Ханзяна, наиболее подходящей.
Вёрмсер (см. гл. 3) также подчеркнул возможность лечения аддиктивных пациентов, отмечая тот факт, что не существует никакой особенной пропасти между ними и другими индивидами с невротическими или тяжелыми невротическими нарушениями. Сложности, с которыми сталкивается аддиктивный пациент, характерны и для нас — это могучие внутренние силы, которые присутствуют во всех слоях конфликта и выражаются вовне через деструктивное поведение. Рассматривая этот внутренний ландшафт, доктор Вёрмсер сосредоточился на роли наркотиков в ниспровержении “обременительной... власти [Супер-Эго], в бегстве от совести”. Он описал глубокие стыд и вину Виктора, бывшего вероятным свидетелем смерти своего отца и убежавшего от сцены смерти — в реальности и в своих бессознательных переживаниях. Вёрмсер отмечает, что конфликт, имевший место в этом и в аналогичном случае, возникал между “непреодолимой тенденцией к спиральному падению в сокрушительной силы аффекты и импульсы и безнадежными попытками контроля этих аффектов, сопровождающимися стыдом за потерю этого контроля — контроля, восстановленного с помощью этих “безумных”, компульсивных действий”. Это восстановление контроля с помощью компульсивной активности абсолютно согласуется с моей точкой зрения. Я бы хотел лишь добавить, что яростное подтверждение контроля при употреблении наркотиков часто лежит под покровом стыда за его отсутствие и отрицается еще сильнее. К примеру, когда Виктор ушел из дома, его переполняли эмоции, которым впоследствии он не смог противостоять. Употребление Виктором наркотиков не только облегчало его чувства стыда и вины, но само по себе было акцией, как и уход из дома, который Виктор предпринял, чтобы достичь спокойствия, обрести стабильность и вернуть чувство контроля. Пациенту стало лучше, когда доктор Вёрмсер помог ему рассказать об этом случае. При изложении событие испытало на себе свет доброго “протезирующего” Супер-Эго в лице доктора Вёрмсера, и мучительное для пациента карающее суждение о происшедшем сменилось на более мягкое. С исчезновением аффектов, воздействовавших на Эго вследствие суждений Супер-Эго, — иными словами, с окончанием переживания внутренней беспомощности, вызванной переполненностью чувствами стыда и вины, — у пациента больше не стало потребности в употреблении наркотиков для восстановления внутреннего контроля. Давая эту интерпретацию, я хотел, чтобы стало ясно: при лечении крайне важно узнать, что конкретно ведет к бурному проявлению чувства беспомощности у каждого данного индивида; очевидно, что специфические факторы, которые доктор Вёрмсер отметил в случае Виктора, являются весьма существенными для понимания данного случая. Тем не менее, и здесь я подчеркиваю активную корректирующую природу аддиктивного поведения.
То же самое иллюстрирует и случай Бартона, представленный доктором Майерсом (см. гл. 6). Этот мужчина оправдывает необходимость начать лечение появлением частых приступов ярости: он разгромил комнату проститутки, которая отказалась его мастурбировать; кроме того, у него наблюдались вспышки ярости в случаях недоступности банкоматов или отсутствия аналитика во время уикэндов и каникул. Майерс пишет, что в эти периоды Бартон ощущал свою никчемность и одновременно испытывал ярость. Единственным “утешением” для него в такое время становились бесконечные контакты с проститутками или компульсивная мастурбация. Майерс также отмечает, что сексуальная активность его пациента поддерживалась “желанием снизить агрессивные напряжения и преодолеть чувство ангедонии”. Я бы также оценил сексуальное поведение как “утешение” в том смысле, что оно снижало агрессивные напряжения, выражая их, давая ощущение власти через способность полностью контролировать свой доступ к сексуальной разрядке и позволяя тем самым преодолевать непереносимое чувство никчемности. Точно так же я бы увидел в неистовой мастурбации Бартона, имевшей место на последующих стадиях анализа (когда он почувствовал себя обесцененным зависимостью от аналитика), не только средство от депрессии, но и стремление подтвердить свои возможности. Это стремление подпитывалось “яростью импотенции”, возникающей после огорчительных снов с картинами сморщенного и не реагирующего на раздражение пениса. Все улучшение Бартона в процессе лечения было связано с увеличением его понимания и уменьшением стыда (нарциссическая рана), так что у него окрепла способность терпеть свои чувства заброшенности и “нуждаемости”, не переполняясь ими; следовательно, он стал меньше нуждаться в ярости и необходимости восстанавливать свое могущество.
Я также хотел бы прокомментировать использование в этом случае антидепрессантов. Мне кажется, что описанные проявления депрессии были знаком улучшения. Они влекли за собой повышение терпимости пациента к чувству несправедливости и обесценивания без немедленного исправления их действием. Я не хочу сказать, что лечение антидепрессантами не было в этом случае показано; просто, принимая решение использовать медикаменты, следует подумать о том, что сдвиг в аффекте и настроении в той или иной ситуации может быть признаком прогресса.
В другом случае, описанном Майерсом, родители пациента осуществляли нарциссическую “инвестицию” в самих себя за счет маленького Чарльза и его сестры. Как пишет доктор Майерс, родители “относились с неслыханным безразличием к самому факту их существования”, они “игнорировали их, занимаясь в спальне своими омерзительными делишками”. Чарльз был поставлен в беспомощное положение не только явно излишней открытостью и беззащитностью перед родителями, но и своим желанием, которое вызывала в нем наблюдаемая сцена. Мы можем допустить, что он был также излишне открыт для сестры, с которой делил комнату с пяти до одиннадцати лет. Впоследствии Чарльз изменял свою беспомощную роль, занимая активную позицию, в которой он сам контролировал свой доступ и открытость к инцестуозным сценам на видеокассетах. Более того, после сессии, на которой Чарльз залился слезами, он не пришел на следующие три встречи, перестал ходить на работу и ушел в загул, прокручивая порнографические видеофильмы и “мастурбируя до бесчувствия”. В дальнейшем мы узнаем, что он бессознательно искал на лентах свою потерянную сестру, но непосредственно это выражалось через аддиктивную помешанность. Характерный аддиктивный аспект поведения пациента проявился здесь в интенсивной непреодолимости влечения, подавлявшей другие аспекты его функционирования и нарушившей контакт с факторами реальности (например, с необходимостью ходить на работу). Я бы также подчеркнул переход от пассивного состояния к активному, что проявилось в активной мастурбации, выборе и просмотре видеокассет, а также в отказе от анализа в момент, когда Чарльза вновь охватили чувства потерянности и никчемности. Аддиктивное поведение полностью завладело пациентом, возвращая свое господство над ним. Позднее, в ходе аналитической работы, его тенденция к ретравматизации под воздействием чувства беспомощности ослабла (благодаря его возросшему пониманию природы своей чувствительности и ослаблению карающего, вызывающего стыд Супер-Эго), что позволило ему лучше переносить ранее сокрушавшие его гнев и печаль. Поэтому просмотр Чарльзом видеокассет и мастурбация, хотя и продолжались как паттерны поведения, но уже не несли в себе яростной необходимости совладать с собственной беспомощностью и, следовательно, потеряли свое аддиктивное качество.
Доктор Орнштейн (см. гл. 5) представила случай миссис Холланд. Ее пациентка постоянно оказывалась вовлеченной в непрекращающиеся и имеющие характер непреодолимого влечения поиски мужчины, способного удовлетворить ее фантазии. Миссис Холланд чувствовала себя могущественной и способной возбуждать своего отца больше, чем мать. Со временем чувство могущества стало необходимым для пациентки, в то же время она все сильнее начала ощущать стыд, вину и собственную обесцененность. Миссис Холланд тянуло к мужчинам, которые поддерживали в ней ощущение могущества тем, что поддавались ее соблазнительности и привязывались к ней. Хотя миссис Холланд и испытывала к этим мужчинам нежность, однако по тому, как происходил разрыв отношений, становился очевидным более глубокий уровень использования ею своих поклонников в качестве нарциссических объектов (т.е. объектов, используемых для осуществления определенных фантазий) — пациентка могла внезапно бросить их, как только они переставали поддерживать ее фантазии. В этом случае происходил “возврат отрицаемого”, если использовать удачное выражение Вёрмсера, который сопровождался потоком ощущений собственной никчемности. Кроме того, в переносе миссис Холланд фантазировала о своей власти над аналитиком, представляя ее соблазненной и беспомощно испытывающей чувство возбуждения, “находящейся под ее чарами”. Похоже, что здесь проявилось яростное утверждение ее власти, в ходе которого она поменялась ролью с мучающим объектом, фактически, ее собственным карающим Супер-Эго, но в такой спроецированной форме, как аналитик в переносе. Такая динамика была продемонстрирована ослаблением у миссис Холланд садистических фантазий, как только она стала ощущать аналитика не столь осуждающей. То есть, как только стремление пациентки наказывать себя было снижено в ходе анализа, она больше не проектировала это чувство на доктора Орнштейн, от которой теперь не требовалось быть ни объектом, вызывающим ярость, ни объектом господства миссис Холланд. У миссис Холланд наблюдались значительные нарциссические ожидания, проявлявшиеся, в частности, в переносе, когда доктор Орнштейн не могла сказать ничего, что расценивалось бы пациенткой как “достаточно хорошее”. В этих ожиданиях отразились лежащие в их основе нарциссические раны, от которых страдала пациентка. Она постоянно ощущала собственную никчемность и внутреннюю пустоту и спасалась от них, с аддиктивным настойчивым влечением укрепляя свою грандиозность и используя садизм. Когда собственные желания и интенсивность вины и стыда перестали ее переполнять, ослабло и яростное влечение к повторению восстановительного аддиктивного поведения.
Я хотел бы отметить свое несогласие с идеей, выраженной доктором Орнштейн в своей статье, что азартные игры, наркотики и алкоголь вызывают “псевдовозбуждение”, позволяющее преодолеть чувство “мертвенности”. На мой взгляд, если это так, возникает несколько вопросов: о чем говорит чувство “мертвенности” и сопутствующие этому чувству фантазии и как аддиктивное поведение связано с указанными проблемами? Является ли “мертвенность”, к примеру, метафорой, описывающей отказ от обладания желаемым? Не является ли тогда аддикция бессознательным преодолением этой уступки через настойчивое требование жизни? Джойс МакДугалл (Joyce McDougall, 1984) описывает борьбу младенца за “право существования” как одну из форм борьбы, свойственную аддиктивному поведению, за возвращение контроля над собственными переживаниями (Dodes, 1990). Без сомнения, в интересной статье доктора Орнштейн есть много указаний на то, что аддиктивное поведение обладает функциями, гораздо более глубокими, чем простое достижение хорошего настроения.
Наконец, я хотел бы высказать несколько мыслей о факторах, определяющих аддикцию. Прежде всего, я хотел бы сказать, что все виды аддикции относятся к компульсиям, но являются лишь их подмножеством; не все компульсии являются одновременно аддикциями. Если компульсия сталкивается с препятствием, чаще всего возникает тревога, но при блокировке аддикции преобладающим чувством будет ярость (хотя непременно будет присутствовать и тревога). Кроме того, компульсии переживаются как облигаторные. Аддикции также обладают облигаторностью, но в отличие от многих компульсий, они также и осознаются. Исходя из этого и из ряда других наблюдений, я предложил следующее определение: аддикция есть компульсивно побуждаемая активность, характеризующаяся интенсивностью и неослабевающим упорством, относительной потерей автономии Эго, при которой иные аспекты личности подавляются (включая способность реагировать на факторы реальности и функции заботы о себе) и происходит переход субъекта из пассивного состояния в активное. На мой взгляд, все эти факторы можно объяснить присутствием при аддикции нарциссической ярости, возникающей в ситуации уязвимости нарциссической раны как результат эмоционального переживания беспомощности. Аддикция — это временно достигающая успеха попытка скорректировать внутреннюю беспомощность и выразить вызываемую этой беспомощностью нарциссическую ярость. В каждом конкретном случае необходимо анализировать специфические факторы, которые являются критическими для возникновения травмирующего состояния беспомощности. Подобный анализ в конце концов сможет обнаружить причины такой чувствительности пациента в истории его развития.
8. Аддиктивное поведение
глазами детского аналитика
Дейл Р. Меерс
Поколение назад сексуальная неразборчивость, правонарушения и злоупотребление алкоголем и наркотиками понимались как симптоматические формы отыгрывания, формы самолечения, прямо противоположные лечению психоаналитическому. Клинический опыт убедительно доказывал: пациенты с импульсивными неврозами характера отыгрывали свои симптомы, рационализируя свое поведение, чтобы защититься от истинного понимания происходящего. У тех, кто использовал алкоголь и наркотики, к психопатологическому повреждению функций Эго добавились фармакологические поражения, так как они биологически подрывали проверку реальности магическим мышлением, индуцированным наркотиками.
Поколение назад, в годы, непосредственно предшествовавшие моему пребыванию в Лондоне, где меня учили детскому психоанализу в лучших традициях Айхорна и Редля, я хаотически, по двенадцать часов в день и более, работал с невротическими, делинквентными, постоянно отыгрывающимися подростками из рабочих семей. Мой отход к тихим академическим исследованиям и обучению изяществу анализа (просто) симптоматических неврозов выглядел весьма разумной заменой тем четырнадцатичасовым рабочим будням, которые мы — все те, кто идентифицировался с Анной Фрейд, — делили с ней в Хэмпстеде.
В начале 1960-х годов Хэмпстед Хиса, Котел Ведьм — место сборищ подростков — часто посещали некоторые известные (а может быть, и самые первые) “дети цветов”, среди которых были два старших брата моей пациентки Эстер. Эстер ревновала мать за ее активное участие в судьбе братьев-наркоманов; казалось, она особенно завидовала болезненному любопытству матери к девочке, которая гуляла с этими молодыми ребятами; девушка, кстати, была из обширной семьи Фрейда. Я написал об этом в своих клинических заметках, которые в исследовательских группах писали все кандидаты и сотрудники, обмениваясь через них информацией. Мне было известно, что оба молодых человека проходили анализ, однако я не придавал этому особенного значения, пока мой супервизор, Хэнси Кеннеди, не сообщила мне, что Анна Фрейд прекратит лечение братьев, если узнает, что они употребляют наркотики*.
Я вернулся в Соединенные Штаты как на заклание, беззащитный эго-психолог, мало готовый к истерическим тарантеллам сурового мира, предвещающим возвращение “средних веков”. Поведение, которое раньше считалось признаком импульсивного расстройства, стало популяризироваться и укрепилось кросс-культурными связями. Я начал частную практику в Вашингтоне в самый разгар битломании, пылких подростков, приобщающихся к “травке”, “задвигающихся” от ЛСД и проповедующих неукротимую сексуальную революцию. Женщины показывали всему миру, что умеют быть распущенными не хуже мужчин; из чуланов полезли гомосексуалисты — гонорея, сифилис и социализация психопатий вновь ожила в этом чудесном мире. Полнейшее dejа vu! Моими пациентами становились главным образом обколотые наркотиками, сексуально распущенные, с периодическим отыгрыванием, подростки исключительно из высшего общества.
Огромная значимость политических протестов в то время нередко уходила в тень “благодаря” импульсивным и пылким действиям разных групп, накаляющих страсти людей. Президент Кеннеди противостоял этому и одновременно был катализатором социальных процессов; защищая гражданские права с Национальной гвардией, он одновременно привнес в нацию военный дух, подготовив ее к Вьетнаму. Убийство президента Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди помогли нации осознать необходимость безотлагательных перемен, и в городских гетто вспыхнули бунты. За двадцать лет до этого Оруэлл прибыл в Вашингтон, округ Колумбия, и, выступая по телевидению, описал будущее поколение — такое, какое мы увидели в фильме “Апокалипсис наших дней”, где рок, наркотики и секс слились с требованием гражданских прав и протестами против войны во Вьетнаме.
Мои новые пациенты были из черной молодежи, чьи трудности с учебой и интеллектуальные нарушения привели их на обследование в Детский госпиталь (Meers, 1970, 1972, 1973a,b, 1974). Мать Наоми была пограничной пациенткой, ее трижды госпитализировали за то время, пока дочь проходила курс анализа. За год до этого я узнал, что отец Наоми, хронический алкоголик, живет с ней в одном доме. Восьмилетняя Наоми позволила мне узнать, что она делала своему старшему брату минет в обмен на некоторые одолжения. Между прочим, в возрасте пяти лет она подверглась кунилингусу, когда была в детском доме, пока ее мать находилась на лечении.
Спустя много лет после нашей встречи Наоми нашла меня вновь. У нее были большие неприятности, и ее интересовало, не сделала ли она ошибку, не рассказав мне все во время нашего первого лечения. Ее отец постоянно был пьян, а она по первому его требованию делала ему минет, причем отец, в отличие от брата, ничего не давал ей взамен. Ребенком ей было очень стыдно сказать мне об этом, причем стыдилась она не за себя, а за отца. Наоми хотела знать, было ли ее тогдашнее молчание как-то связано с подростковой сексуальной анестезией, которую она испытала, согласившись однажды переспать с парнем. В результате Наоми запоздало попросила у меня прощения, как будто мое понимание ее состояния могло исправить ущерб, причиненный ей в детстве, от которого она продолжала страдать.
Моему второму пациенту из гетто было пять лет, он жил с матерью и ее родителями. Дядя Вирджила отбывал пожизненное заключение за убийство, и мать постоянно напоминала мальчику, что он, его отец и дядя похожи между собой, как горошины из одного стручка. Мать Вирджила работала в канцелярии местной школы и обычно приходила домой обедать в тот день, когда бабушка работала. Бабушка пыталась контролировать своего мужа-алкоголика, которому в ее отсутствие ничего не стоило уговорить мать купить ему бутылочку-другую. Если мать поддавалась на уговоры, вдвоем они частенько нагружались до такого состояния, что им ничего не стоило пригласить домой уличных забулдыг.
Водитель такси нашел мать Вирджила в водосточной канаве, раздетую и избитую. В госпитале обнаружили, что продавец наркотиков вколол ей героин с крысиным ядом — по-видимому, за неуплату долга. После я узнал, что она работала за героин на улицах, приводя домой мужчин, когда бабушки не было дома. Выйдя из госпиталя, мать Вирджила приняла мой совет пройти метадоновую клинику. На следующий день она позвонила мне в глубоком горе. Кто-то в клинике узнал ее и со злым умыслом позвонил в школу, откуда ее тотчас же уволили. Тогда я перечитал “Дикую утку” Ибсена, стал умнее и значительно смиреннее и в дальнейшем учитывал все последствия лечения для наркоманов с гораздо большим вниманием и осторожностью.
Детский анализ был (и до сих пор остается) мутантом от анализа, без формальных критериев, позволяющих установить его легитимность, происхождение и характерные методы работы. Я обучался в условиях ортодоксальности, в которых анализ импульсивных пограничных и немного делинквентных подростков был формально встроен в программу исследований в Хэмпстеде. Если кто-нибудь спросит, был ли такой анализ классическим, то это будет звучать как диагноз, а не как критика за неправильное техническое ведение.
Институт Балтимор-Вашингтон поддерживает своеобразный тихий, защитный юмор, позволяющий нам видеть себя этаким оплотом (DAR) теоретической и клинической ортодоксии. Будучи добродетельным ортодоксом, я счел абсолютно неправдоподобным, чтобы вся импульсивность, связанная с сексуальной сферой и наркотиками, которая проявилась в начале 1960-х, была порождена индивидуальными бессознательными конфликтами. В этом гораздо больше групповой психологической ауры совместной истерии. Я разговорился об этом с Полом Греем, моим другом и руководителем. Помнится, Грей высказал предположение, что торжествующие победу сексуальные революционеры создали собственные, связанные с культурой и полами, усиленные Эго-идеалы, являющиеся реакцией на существующие стандарты Супер-Эго; что пережившие сексуальную революцию молодые женщины, которые впоследствии обращались к аналитикам, рассказывали такие сексуальные истории, судя по которым чуть ранее их отнесли бы к отыгрывающимся пациентам, которые имеют расстройства характера, не подлежащие анализу.
На клинической конференции в Хэмпстеде в 1963 г. Анна Фрейд с некоторой грустью размышляла о преданности сотрудников клиники работе с пограничными, делинквентными и другими тяжелыми формами заболеваний. Анна Фрейд говорила о том, что, если бы все усилия, направленные из самых лучших побуждений на эти исследования, были посвящены обычным неврозам, мы бы поняли их чуть лучше.
Сомневаюсь, что сегодня мы понимаем неврозы лучше, чем Анна Фрейд в начале шестидесятых. Совершенно очевидно, что все психоаналитики грешат практически полным неведением о причинах наших национальных и культурных бед, связанных с пронизавшими все слои общества наркотиками и сексуальной распущенностью. История покажет, на самом ли деле те провокативные настроения, бросившие вызов национальной общественной и политической ортодоксальности, стимулировали еще и рост аналитического интереса к пограничным и нарциссическим расстройствам характера, которые Кляйн и Кохут вытащили из чулана ортодоксии. Если и существует какое-либо серьезное оправдание незавершенности теоретического понимания нами неврозов, оно, без сомнения, заключается в нашей клинической ангажированности пограничными и аддиктивными расстройствами характера.
У нас есть шесть интересных статей, которые частично перекрываются, а иногда противоречат друг другу в концептуальном, симптоматическом и клиническом плане. Сходясь во мнении, что аддикция является скорее описанием, чем диагнозом, все авторы представили пациентов с совершенно разной степенью патологии, которых они лечили самыми различными способами, основываясь на разных теоретических предпосылках. Сэбшин, Кристал, Ханзян, Вёрмсер, Майерс и Орнштейн предложили практически полное и достаточно разнообразное меню, которое сможет разжечь любой аппетит.
Я подозреваю, что уничижительное отношение к аддикции вызвано скорее непреодолимыми, разрушительными путами аддикции, чем подразумевающимся при этом обычным гедонизмом. Аддикция — это следствие извращения нормальности. Благодаря свойственному каждому из нас романтическому, предвзятому, покровительственному отношению к определенным вещам мы освобождаем наиболее глубоко присущие человеку проявления аддикции — влюбленность и сексуальность — от этого ярлыка. Мы с легкостью шутим, что наша собственная любовь слепа, является временным безумием и чистым сумасшествием, и в то же время благоговейно боимся и клинически нередко не в состоянии справиться со случаями невыносимых утрат наших пациентов, имеющих характер императивности, непреодолимого влечения и зависимости, о чем говорила Сэбшин.
Орнштейн предостерегала против неразборчивого использования термина аддиктивный. Быть может, ее предостережение происходит от психоаналитической убежденности в императивных, повторяющихся зависимостях, которые мы наблюдаем во всех формах патологического поведения и во многих формах обычных человеческих переживаний. В то время как лишь немногие клиницисты принимают убежденность Фрейда в существовании инстинкта смерти, еще меньшее их число все еще сомневается в глубоких и даже слишком драматических признаках повсеместных патологических компульсий, которые повторяют наши пациенты.
Наше сообщество сходится во мнении, что аддикции адекватно определяются по своему импульсивному, императивному, безусловному и саморазрушительному характеру и бессознательным целям. Акцент, который сделал Вёрмсер на саморазрушительном рабстве аддикта, вынуждает меня спросить, имеет ли смысл с точки зрения диагностики различение между нормативными и патологическими аддикциями. Общие для них импульсивные, императивные, безусловные типы удовлетворения чувственной сферы производят на меня впечатление инстинктивно аддиктивных. Близость, любовь и сексуальность циркулярно, щедро вознаграждаются и поддерживают самих себя; их аддиктивный характер неочевиден до тех пор, пока человек не лишается чего-то одного или всего перечисленного.
Патологические зависимости также инстинктивны, однако их различает: (1) бессознательная значимость аддиктивного вещества или поведения, уникальных для конкретного пациента; (2) обманывающее себя, магическое мышление, которое соблазняет аддиктов на рационализацию своего образа действий; (3) прогрессирующая привязанность (“усиление мертвенности” у Ханзяна) к злоупотреблению разными веществами, что глобально, неврологически обостряет существующие психологические дисфункции Эго; (4) опасность декомпенсации или самоубийства, к которым может привести пациента терапевтический запрет, игнорирующий защитные цели аддикции.
У разных видов аддикции легко обнаружить теоретические различия. Участники конференции в целом согласны с тем, что психологическое заболевание создает первичное страдание у людей, злоупотребляющих наркотиками или алкоголем, и что непрерывное использование наркотиков ускоряет функциональные расстройства, в связи с чем у них усиливаются депрессивные и суицидальные наклонности. Случай, описанный Вёрмсером, иллюстрирует его понимание, согласно которому деструктивная химическая аддикция является целенаправленным, по типу супер-Эго, самонаказанием за бессознательную вину. Ханзян не столь убежден, что выбор наркотика-разрушителя, который сделал его пациент, является мазохистским и самонаказывающим. Его конструкция, в которой аддиктивная боль выглядит как цена за активное управление младенческой пассивной травмой, звучит как доэдипов тезис Кохута. Подобные конструкции не являются взаимоисключающими, но характеризуются разногласиями, которые может разрешить только пациент.
Орнштейн представляет объектные отношения, Я-психологические теоретические перспективы, которые руководят тем, как она видит, слышит и интерпретирует своего пациента. Я нашел сделанную Орнштейн клиническую разработку аддиктивного поведения ее пациентки наиболее интересной. Ее технические рекомендации настолько ясны, что должны быть обязательно прочитаны студентам, изучающим классический психоанализ; это помогло бы им лучше понять клинические приложения теории развития Кохута. Если бы наша конференция была посвящена сравнению различных техник, на случае Орнштейн было бы, в частности, весьма удобно наблюдать, когда, где и почему анализ защит в эго-психологии отличается от подобной процедуры в Я-психологии.
Я видел лишь нескольких пациентов с подобными симптомами, которые осознавали свою явную и болезненную привязанность к определенному человеку. Опыт Орнштейн выглядит типическим — я имею в виду тот опыт, что аддиктивный характер эго-синтонного поведения обнаруживается в непредвиденных нарушениях защит пациента. Пластичность худших симптомов миссис Холланд, ее предваряющая депрессивная печаль, ее брошенность и униженность стали драматически заметны в том, как она заводила, разрушала любовные связи и заменяла их новыми.
Орнштейн не упоминает, что ее пациентка страдает от вины за свои бесконечные внебрачные приключения. То, что у миссис Холланд присутствует пограничная проверка реальности, представляется очевидным при ее эго-синтонном принятии своих совершенно нетривиальных влюбленностей в абсолютно незнакомых мужчин. Я бы противопоставил ее другой пациентке, которую наблюдал с целью постановки диагноза: ей приносила глубокие страдания эго-дистонная аддикция к психопатическому любовнику.
Разведясь после неудачного замужества, миссис Х. получала наслаждение от любовника, который сексуально возбуждал и удовлетворял ее так, как она не смела и мечтать. Но у него было довольно серьезное расстройство характера: он воровал, был мошенником, лгал и самым вызывающим образом изменял ей. Как только все это стало очевидным, миссис Х. оставила любовника, гневаясь на его двуличность и страдая от его потери. Спустя некоторое время миссис Х. с изумлением обнаружила, что не может прекратить думать о своем бывшем любовнике; она погрузилась в глубочайшую депрессию, не проявляя никакого интереса к поиску лучших кандидатов. От этой депрессии ее избавило возвращение к своему мужчине-психопату. Через некоторое время все повторилось. Стремясь избавиться от страданий, миссис Х. возвращалась к оставленному любовнику, который, быстро распознав ее слабость, стал унижать ее все сильнее и сильнее. Я подозреваю, что миссис Х., как и пациентку Вёрмсера, влекло бессознательное чувство вины — в данном случае за вновь обретенную внебрачную разнузданную сексуальность.
Орнштейн слишком хорошо знакома с эго-психологами, продолжающими задавать вопросы, на которые она и Кохут уже попытались ответить. Она, несомненно, слышала наши прежние протесты, что Я-психологи пренебрегают исследованием бессознательной природы ярости своих пациентов и предлагают лечение переносом под именем преобразующей интернализации. Находясь на несколько иных позициях, эго-психологи придирчиво собрали бы информацию об открыто выражаемой в период детства ярости миссис Холланд по отношению к жестокому отцу. Мужчины, которых соблазняла миссис Холланд, страстно любимые, а затем отброшенные, были представлены как случайные жертвы, а не как мучимые ею заместители отцовской фигуры. В конце концов, оказавшись в безопасной обстановке утешающего переноса от своих самосохраняющихся страданий, миссис Холланд переместила деструктивную, внешнюю сексуальную аддикцию на регрессивный десексуализированный интроект.
Одной из целей Психоаналитических мастерских является пробуждение у неаналитиков интереса к психоанализу. Общаясь друг с другом на встречах, обсуждая различные виды и формы проявления аддикции, мы можем позволить себе немножко посмеяться, проявить свое раздражение или уважение к теоретическим и техническим различиям, которые нам еще предстоит преодолеть. Независимо от того, можно ли соглашаться с теоретическими или клиническими посылками доктора Орнштейн, ее работа демонстрирует некоторые из чудес психологических изменений, показывает, что иллюзии пациента подвержены изменению в процессе терапии, и дает пример психотерапевтической модификации симптоматики. Гипнотические причуды Шарко показали Фрейду экстраординарную изменчивость строения симптома. В нашей готовности спорить друг с другом о том, почему это так, мы игнорируем уязвимость наших пациентов по отношению к психофармакологическому инцесту с нейропсихиатрией и средствами рекламы.
Майерс представил описание трех случаев, в которых анализ вульгарных, обсессивных сексуальных драм открывает их аддиктивный характер. Диагноз пограничной патологии, поставленный Майерсом, не удивителен. Алекс беспрестанно слоняется в поисках мужчин с большим пенисом, Бартон — ненасытный ловец проституток, Чарльз непрестанно ищет в порнофильмах свою потерянную эрекцию и ушедшую из дома сестру. В ходе терапии была детально выявлена идиосинкразическая природа сексуальной обсессии в каждом из этих трех случаев. Как и с миссис Холланд, каждый случай по отдельности содержит общее описание сексуального бегства от глубокого чувства никчемности, пустоты и зарождающейся ярости. В то время как Майерс связывает эти эмоции с историями младенческого отвержения, издевательства и страданий, его пациенты безудержны в своих анахронических персеверациях проживания прошлого.
В своих кратких описаниях Майерс не объясняет, каким образом “нейтрализуется чудовищная ярость” его пациентов. Впрочем, он отмечает, что Алексу стало лучше, когда тот открыл для себя успокаивающее присутствие аналитика, и что Бартон видел в своих снах пожилого человека, возвращающего ему потенцию. То есть, похоже, что Майерс применяет кохутовский, нянчащий клинический отклик в ответ на бессознательно мотивированный гнев.
Медикаментозное лечение предписывается для усиления чувства реальности избирательно и, с субъективной точки зрения пациента, это должно его успокоить и нейтрализовать негативные чувства. Я подозреваю, что большинство пограничных пациентов не испытывают затруднения в том, чтобы применять фармакологические интроекты в качестве переходных успокоителей для усмирения душевных страданий.
У каждого из нас был свой первый пограничный пациент. Мой “человек-волк” прошел драматический, дикий подростковый анализ, который с очевидностью спас его от госпитализации. Много позже расширенная аналитическая психотерапия с медикаментозной поддержкой подготовила его для анализа. Моего пациента глубоко ранило, что его аналитик, равно как и психотерапевт, оставили его. При этом он испытывал и прямо противоположные чувства, ощущая потребность регулярно встречаться с прежним терапевтом для получения дополнительных рецептов на закончившиеся лекарства; в конце концов парень стал носить запас таблеток в кармане своей рубашки — “на счастье”.
Спустя примерно год с начала исследований нами вспышек тревоги и пассивной раздражительности мой пациент испытал восторг, истинное наслаждение от моего интерпретативного вопроса: “Могли бы мы представить, что ваша хроническая пассивность является защитой?” Однако вскоре его восхищение обернулась страхом, когда спустя некоторое время мой пациент задался вопросом о моей диагностической компетентности. “Что будет, — спросил он, — если вы ошибаетесь? Вдруг я отброшу пассивность, а мои сны окажутся правдой?” В своих наиболее ужасных и часто повторяющихся ночных кошмарах он спускался в подвал, открывал стоящий там морозильник, будучи практически уверен, что там лежит завернутое в сари расчлененное женское тело. Хотя до меня он уже прошел девять лет психотерапии, мы согласились, что следует продолжать работу, проявляя особенное уважение к его пассивности. Но мы также договорились, что можем стараться понять мотивы столь тщательного сохранения женщины в таком холодном, твердом виде в темноте.
На одной из последующих сессий мой пациент обнаружил, что забыл взять свои лекарства. Он решил, что это весьма забавный эксперимент, и через некоторое время открыл для себя, что даже если просто держать таблетки в кармане, они помогают не хуже, чем если принимать их. Винникотт, наверное, получил бы от шутки моего пациента огромное удовольствие — оттого, что тот носил своего психиатра в кармане рубашки и что этим психиатром были таблетки!
Зарождающийся гнев, характеризующий пограничную и нарциссическую патологии, может оказаться в большинстве случаев недоступным для клинического исследования. Поэтому даже эго-психологи считают лечение переносом наиболее приемлемой альтернативой самоубийству или психотической декомпенсации. Описывая технику своей работы, Майерс особенно отмечает, что проверил эту слабую возможность. В этом контексте он, видимо, разделяет теоретические посылки Орнштейн, согласно которым зарождающийся гнев следует нейтрализовать — с помощью медикаментов или безусловного принятия, — а не объяснять и исследовать на предмет прояснения различных архаических, иллюзорных остатков детства.
Кристал рассматривает химическую зависимость как следствие защиты от различных травматических эпизодов младенчества. В его формулировке травма провоцирует преждевременную потерю младенческой симбиотической иллюзии всемогущества, оставляя малышу неисчезающий параноидный страх. Гипотеза Кристала выглядит весьма схожей с параноидно-шизоидной концепцией младенчества у Мелани Кляйн. В то время как Кляйн провела детальное теоретическое исследование, подтверждающее, что младенческие страхи берут свое начало в инстинкте смерти, Кристал видит в них последствия травмы. Постулируя первичный эго-дефект, который он называет “аффективной защитой”, Кристал считает, что такие травматизированные младенцы гипотетически не способны распознавать разницу в чувствах, что звучит как вариации на тему гипотезы Фрейда о генетическом, первичном стимульном барьере.
Очевидно, что Вёрмсер и Ханзян разделяют некоторые интересы Кристала в сфере доконфликтных младенческих источников гиперсензитивности. По этому концептуальному единению я подозреваю, что общий интерес возникает на почве весьма определенных эго-задержек (ego impediments) у пограничных и нарциссических пациентов, которые в данном контексте являются еще и аддиктивными личностями. Наши теоретики принадлежат к той уважаемой группе исследователей, сражающихся за то, чтобы все почувствовали изначальную уязвимость всех тех младенцев, которых мы описываем как атипических, психосоматических, аутистических и психотических.
Предположение Кристала о первичном эго-дефекте вносит вклад в его клинический отход от классического анализа защит. Поскольку от пациентов с трудом можно ожидать воскрешения в памяти генетических дефектов или процесса филогенеза, Кристал предлагает им обучающий инсайт в “агрессию необыкновенной интенсивности”. Последующее облегчение, которое переживают его пациенты, должно походить на то, что переживали пациенты Юнга, Фрейда или Кляйн, когда их соответствующим образом успокаивали, что женщина в глубокой заморозке является обычной жертвой следов архетипической памяти или инстинкта смерти.
Вёрмсер пишет как эго-психолог и его краткий обзор лечения Виктора представляет собой анализ защит. Страдания Виктора и развившиеся у него симптомы и аддиктивные качества вынуждают поставить ему диагноз пограничной личности. Но с точки зрения Вёрмсеровой психологии Эго, пограничный диагноз является лишь частью общего континуума психопатологической хрупкости, что требует от терапевта безграничного клинического такта и терпения. Терапевтической целью Вёрмсера становится мягкое и тщательное прояснение прошлого и настоящего — процесс, который интенсифицирует исследование пациентом своих защит (Gray, 1973).
С точки зрения эго-психологии, боль, переживаемая младенцем, и недостатки ухода за ним (nurture), являются больше чем просто лишением. Боль новорожденного инициирует генетические ответы, для которых у нас есть различные названия: первичное вытеснение, проекция, интроекция, отказ от реальности или расщепление. Эти защиты инстинктивны, неизбирательны и вносят свой вклад в искаженное, не соответствующее действительности созревающее осознание себя и объектного мира. В таком контексте концепция Кляйн о паранойе новорожденного, преждевременном развитии Эго и депрессивном восстановлении гораздо ближе к эго-психологии, чем теория дефицита, предложенная Кохутом как версия теории Малер. Концепция гнева у Кохута требует лучшего объяснения, чем то, которое могу дать я; его дефицитарная теория нарциссических повреждений (которые следует доброжелательно лечить с помощью интроективного процесса) получает мою абсолютную поддержку — и полное недоверие.
Кристал, Вёрмсер и Ханзян с готовностью подтверждают, что большинство наркоманов не лечатся, а те немногие, которые попадают в наркотические клиники, обычно настолько серьезно нарушены, что к ним нельзя применять психоанализ. Как аналитики мы сокрушаемся по поводу своей технической беспомощности при лечении хронических алкоголиков и наркоманов, которые разрушают себя до такого состояния, что мы уже не способны им помочь. Наши жалобы на коммерческое соблазнение людей анальгетиками, амфетаминами, антидепрессантами и целым сонмом других препаратов, вызывающих фармакологическую зависимость, просто игнорируются. У таких аддиктов — жертв рекламы, которым мы могли бы достаточно легко и эффективно помочь, — наблюдается коллективное, необычайно сильное отрицание, которое способно соперничать даже с рационализацией обществом алкогольной и табачной зависимости. Яркий пример: при 60 миллионах курильщиков в США и 400 тысячах связанных с курением смертей врачи, по словам Кристала, выписывают 100 миллионов рецептов на бензодиазипин в год.
Миллионы обычных людей лечат свои тревоги и печали, боль и гнев, развращая себя обильной едой, беспорядочными сексуальными связями, алкоголем, табаком и несчетными видами наркотиков. Правы Кристал и Сэбшин, утверждающие, что в наше поле зрения попадают лишь “неуспешные” наркоманы, не способные избавиться от своей зависимости самостоятельно, или те, у которых зависимость, замаскированная эго-синтонным поведением, случайно вырывается наружу (о них говорили Орнштейн и Майерс).
Данные исследований, полученные в ходе лечения хронических пациентов с химической зависимостью, представляют для аналитиков наибольший интерес, так как именно в них содержатся подтверждения (или опровержения) наших теоретических предположений. Тем не менее эти данные оказываются искаженными самым вопиющим образом. Вещества, вызывающие хроническую зависимость, в частности алкоголь, героин, крэк и РСР, настолько глубоко поражают общее функционирование Эго, что искажается и становится неясной преморбидная история пациента. С точки зрения научных исследований, такие аддикты являются наименее подходящими субъектами для изучения вклада истории их развития в психопатологию.
Мы восхищаемся, но редко завидуем коллегам, которые взваливают на себя бремя общей психиатрии при лечении пациентов с тяжелыми расстройствами и аддикциями. Три участника нашей дискуссии показали нам психоаналитическую перспективу в клинике химической зависимости и в существующей литературе. Представляя себе, насколько сложно и мучительно складывается связь современного психоанализа с другими областями медицины и психотерапии, будет нелишним знать, находят ли одобрение у наших коллег — нейропсихиатров и бихевиоральных терапевтов — хоть какие-нибудь аналитические работы.
Сэбшин датировала появление новой аналитической концепции аддиктивных расстройств двадцатыми годами, связывая ее с возникновением эго-психологии и структурной теории. Юнг интенсивно работал с тяжелыми патологиями, и его наиболее обоснованный критицизм фрейдовского эго-инстинкта образца до 1914 г. и теории сексуального инстинкта аккуратно продемонстрировал имеющиеся в них внутренние противоречия, а именно то, что самонаказание и самоубийство происходят от самосохраняющих эго-инстинктов (Nagera, Baker, Edgcumbe, Holder, Laufer, Meers and Rees, 1970). Замечательный ответ Фрейда (Юнгу [Jones, 1955]) вызвал решительное появление на сцене эго-психологии/структурной теории (начавшееся с работы “О нарциссизме”, [1914]), затем последовало переопределение тревоги как сигнала (а не как трансформированного либидо — Strachey and Tyson, 1959) и изобретение инстинкта смерти (Freud, 1920).
После того, как в 20-е годы Фрейд представил психоаналитическому миру эго-психологию и анализ защит, в 30-е годы появилась неофрейдистская Ид-психология, введенная Мелани Кляйн. Нацисты попытались удушить европейский психоанализ, а в 40-е годы он перебрался в сферу военной психиатрии Соединенных Штатов. Военная и общая психиатрия с легкостью воспользовались динамическими концепциями травматических невроза, алкоголизма и наркотической зависимости — все эти заболевания быстро распространялись во время и после Второй мировой войны. Вливание европейского психоанализа в психоанализ американский одновременно усилило и усложнило ортодоксальные представления: психоаналитическое сообщество отреклось от авантюры Кляйн, занявшейся пограничной патологией, с легкостью передало доэдипову патологию возникающей динамической психиатрии и посчитало ересью “разбавление” списка поддающихся психоанализу клинических расстройств нарушениями, более тяжелыми, чем неврозы. Лео Стоун (Leo Stone, 1967) писал, что подобные институциональные требования чистоты были по большому счету клинической фикцией; с самого начала аналитики открывали и лечили симптоматические неврозы, за которыми скрывались тяжелейшие расстройства характера. Детские аналитики Мелани Кляйн, Анна Фрейд, Дональд Винникотт, Рене Спиц, Бенджамин Спок и Маргарет Малер подрывали стареющие претензии на то, что эдипова патология определяет психоанализ. Да и взрослые аналитики — Мелани Кляйн, В.Д. Фэйрбейрн, Майкл Балинт, Хайнц Кохут и впоследствии Отто Кернберг, — связывая пограничные и нарциссические психопатологии с ранними конфликтами развития, подрывали ортодоксальность, вновь фокусируя клинический интерес аналитиков на некоторых общих психиатрических источниках.
Детские аналитики иногда шутят, что DSM-III игнорирует подростковый возраст, хотя это не что иное, как невроз развития, поражающий любую семью. Содрогаясь при одной мысли о том, что подростки Ближнего Востока и Соединенных Штатов великолепно владеют русскими АК-47 и израильскими “Узи”, мы старательно не замечаем тот факт, что позволяем нашей молодежи пользоваться смертельно опасными “колесами” и открываем им достаточно широкий доступ к алкоголю и наркотикам, внося тем самым свой посильный вклад в двадцатипятитысячную статистику смертности на дорогах по перечисленным выше причинам. Неясно, чего в этом больше: нашего бессилия, безразличия, молчаливого потворства происходящему или все это в целом присутствует в воспитании детей в нашем захваченном импульсами обществе.
В прошлом подростки больше страдали от алкоголизма, чем от никотиновой зависимости. Большинство из них относились к сексуальности с чувством вины, что давало минимальное число венерических заболеваний и подростковой беременности. Но в нашем прекрасном новом мире мы не способны защитить молодежь от разных новых знакомых, пропагандирующих новые соблазны. В первую очередь я говорю об этих чересчур дружелюбных дилерах, о которых упоминал Кристал. Власть группы подростков-ровесников над отдельным членом группы ярче всего проявляется в поддержке общей идеи, что “крутизна” не в последнюю очередь определяется оппозицией по отношению к родителям и отрицанием ценностей мира взрослых. Сила группы таит в себе еще одну опасность для подростка, поскольку групповые психологические процессы поощряют регрессивное отречение от персональной ответственности, что соблазняет подростка не меньше, чем алкоголь и марихуана.
Подростки наиболее уязвимы к возникновению аддикции через случайное употребление наркотиков, поскольку их ровесники в группе заявляют о своей зрелости, поступая наперекор предупреждениям взрослых и принятым в обществе правилам. И сегодня именно подростковый возраст остается периодом повышенного риска, как отмечает Сэбшин, поскольку такие новые наркотики, как крэк, вызывают более сильную зависимость и чаще приводят к летальному исходу. Я абсолютно уверен, что наши молодцы употребляют алкоголь и кокаин гораздо больше, чем в прошлом, но я продолжаю беспокоиться об их менее заметных братьях и сестрах, которые, спариваясь на травке или на вечеринке, слишком быстро размножаются.
Участники нашей конференции представили четырех пациентов, чье сексуальное поведение было центральной частью аддиктивного процесса. Наследие проходящей юношеской сексуальности предполагает широко распространенные садомазохистские мотивы и массивное отрицание. Под воздействием угрозы СПИДа сексуальное образование достигло ранее никогда не существовавшего размаха и прозрачности, однако это не остановило рост венерических заболеваний. Вашингтон, округ Колумбия, удостоился сомнительной чести быть первой в мире столицей, в которой число детей, рожденных вне брака, превысило рождаемость в браке. Многочисленные беременности у незамужних девочек, оказавшихся в отчаянном положении, происходят вовсе не из-за недостатка понимания или презервативов. Малыши, рождающиеся у совсем молодых мамаш, имеют самый высокий риск смертности и врожденных дефектов. Хотя большинство детей-родителей давно знакомы с уличными наркотиками, вполне резонен вопрос, не похожи ли они на пациентов Орнштейн и Майерса и не вызывают ли беспорядочные сексуальные связи более сильную аддикцию, чем наркотики.
Заключение
Мы с легкостью согласились с тем, что злоупотребление химическими веществами, такими как героин, кокаин, PCP и алкоголь, вызывает то, что Ханзян назвал биологическим усилением мертвенности. Наши обсуждения касались тех аддиктивных пациентов, которые потерпели неудачу в попытках вылечиться от своей зависимости самостоятельно, следовательно, они являются наиболее вероятными кандидатами на появление в наркологической клинике. Мы не видим ничего необычного в том, что это обычно тяжело нарушенные пограничные и нарциссические пациенты, которые проявляют большую потребность в наркотиках и тем самым подвергают себя большей опасности. Очевидно, что их нельзя лечить психоанализом.
Для меня стали неожиданностью некоторые процедуры лечения, не только потому, что они конфронтационны, но и потому, что они рекомендованы знающими, чуткими аналитиками, такими как Ханзян. Раз мы разделяем убеждение, что наши пациенты проявляют свои защиты и в этом случае занимаются самолечением, чтобы избежать склонности, например, к бессознательной жестокости, почему тогда терапевты возвращаются к ранним ошибкам Фрейда и настаивают на том, чтобы пациенты признали Эго, и что они калечат свои души, избегая этого?
Пациенты Орнштейн и Майерса получают столь впечатляющие вторичные выгоды от своих сексуальных навязчивостей, что, похоже, заслуживают присоединения к классу сексуально зависимых людей. Тем не менее, в отличие от пациентов клиник, пациенты Орнштейн и Майерса имеют пограничные или нарциссические нарушения, что и является самым значимым и основным в их случае диагнозом. Их сексуальное поведение было импульсивным, императивным, безусловным и вызывалось бессознательными мотивами, которые удовлетворяют всем нашим критериям определения аддикции (за исключением самодеструктивности).
В то же время сексуальная одержимость влекла этих людей на поиски новых мест и партнеров, которые могли быть крайне опасными. К несчастью, обсессивное желание нельзя удовлетворить на достаточно продолжительный период. Следовательно, обсессивность сексуальных чувств была препятствием для поддержания продолжительных отношений в реальной жизни. В этом контексте подобное поведение удовлетворяет и последнему критерию, а именно критерию навязчивого саморазрушения.
Ригидность сексуального поведения этих пациентов имеет тенденцию скрывать более важный факт, что оно является обсессивно-манипулятивным. Секс и красота имели большое значение для миссис Холланд, они позволяли завладеть на некоторое время вниманием и поддержкой любовника и тем самым снизить интенсивность ее самоосуждения и мучительного страха самоубийства. Алекса больше всего заботила не собственная чувственность и не сексуальность его партнера. Секс был начальным шагом, проводником, который он использовал, пытаясь нейтрализовать мучительное и непрекращающееся ни на минуту самоуничижение. Бартон, как и Алекс, был не в состоянии добиться чувства насыщения, поскольку его сексуальные требования никогда не смогли бы удовлетворить его бессознательную цель — поиск неистощимого источника утешения, способного защитить от постоянно живущего в нем самоуничижения. Из всех троих Чарльз был наименее сексуальным в своем бессильном, мастурбаторном исследовании новых порнофильмов.
Под такими проявлениями сексуальности маскируются абсолютно враждебные архаические требования. Еще раз взглянув на сексуальность этих трех пациентов бесстрастным взором, мы можем спросить, действительно ли они в полной мере “оправдали” свои диагнозы. Драматичнее и понятнее будет признать, что в случае страстного влечения с императивной потребностью в сексе можно говорить о параноидной обсессии с сексуальной манипуляцией сменяющимися объектами, и все это создано для облегчения архаических иллюзий младенческой реальности.
Хотя я согласен с диагнозом “аддиктивное поведение” в перечисленных выше случаях, все же описанные в них пациенты обнаруживают свою аддиктивную природу не в чувственности-сексуальности, а в манипулятивном контроле над другими. Это позволяет заключить, что общий элемент вульгарной сексуальности способствует неверной диагностике аддикции. Вероятно, корректнее было бы обозначить все эти случаи как садомазохистские аддикции.
У представленных здесь авторов существует множество возможностей критиковать теоретические и технические расхождения со своими коллегами. Но подобные прения — это материал для новых книг. Мы объединились здесь друг с другом для того, чтобы пробудить интерес других клиницистов и исследователей к очарованию нашей дисциплины.
Наконец, ничуть не менее, чем трагическая ситуация с уличными наркотиками и их жертвами, а может быть даже больше, меня беспокоит бравый новый мир нейропсихиатрии и психофармакологии. Те формы аддиктивного поведения, которые мы наблюдаем и лечим, — всего лишь рябь на поверхности моря разливанного аддиктивных субстанций химической природы и иных форм зависимости, существующих в обществе, которые находят все возрастающую поддержку среди нового поколения ученых и поддерживаются новой моралью. Я боюсь, что пока мы все играем на скрипках, Рим горит; пока в обществе практически беспрепятственно распространяются старые и новые формы аддиктивного поведения, мы терпим поражение в попытке добиться клинического консенсуса и организовать открытую профессиональную дискуссию, которая смогла бы произвести достаточно глубокий резонанс, воздействуя на наших законодателей и на общественность.
9. “Переходные”
и “аутистические” феномены
при аддиктивном поведении
Дэвид М. Херст
Аддиктивные расстройства сегодня представляют тяжелую социальную проблему; они устрашают своим широким распространением в обществе, своей деструктивностью и стойкостью. Что мы, психоаналитики, узнали про аддикцию за первые сто лет существования нашей науки и каково текущее состояние наших знаний? Этот вопрос обращен не только к лечению алкогольной и наркотической зависимостей, но и к общей психологии аддиктивного поведения, и к глубинной психологии аддикции как таковой.
Аддикция — это процесс психологического порабощения, в результате которого человек становится рабом кого-то или чего-то, какой-нибудь формы поведения. Это может быть химическое вещество, работа, хобби, деньги, азартные игры, религия, физические упражнения или секс — все возможные объекты аддикции перечислить невозможно. Эффекты могут быть очевидными или почти незаметными; аддиктивная личность минимизирует и отрицает свою зависимость, и окружающие ее люди делают то же самое. Аддикция является необычайно распространенным явлением; ей подвержено гораздо больше людей, чем мы в состоянии распознать с первого взгляда. Основная особенность аддиктивного поведения ясно выражена в первом шаге программы восстановления “Анонимных Алкоголиков”: “Мы признаем, что бессильны перед алкоголем”.
Как же люди становятся бессильными рабами? Быть может, они попадаются “на крючок”, пробуя что-то, чему впоследствии оказываются не в состоянии противостоять? Действительно, в мире есть множество вещей, которым человеку очень сложно противостоять; хорошо известны некоторые химические вещества, употребление которых загоняет человека в психологическую ловушку. Однако похоже, что сам факт “заглатывания крючка” в значительной степени связан с самой аддиктивной личностью, с предрасположенностью человека к аддикции.
Было высказано предположение, что у некоторых людей связь “младенец-мать” или не достигла адекватного развития, или была преждевременно разрушена в ранний период жизни младенца. Поскольку наш вид замечателен своим длительным, симбиотическим, как у сумчатых животных, протеканием периода раннего развития, нам обязательно требуется заботливая фигура, которая смогла бы нас накормить, согреть, позаботиться о нашем теле, а также удовлетворить потребности нашей души: в любви и заботе, в другом человеке, — что необходимо, чтобы развить в нас способность устанавливать отношения, зачатком которой мы все наделены от рождения. Маргарет Малер (Mahler, Pine and Bergman, 1975) называет этот процесс взращивания (hatching) эмоциональным рождением “человеческого детеныша”.
Исследуя феномен госпитализма, Рене Спиц (Rene Spitz, 1945) показал, что без адекватного контакта ребенка с человеком, который заботится о нем с достаточной теплотой и сердечностью, при отсутствии кого-то, к кому можно прижаться, на кого можно положиться, у малыша развивается анаклитическая депрессия, биопсихологический уход в себя (withdrawal). У брошенного без должной опеки ребенка может возникнуть состояние общего истощения (marasmus), которое и приводит его к тяжелой форме депрессии, уходу в себя, а при неблагоприятном исходе — к смерти.
Дональд Винникотт (Winnicott, 1974) пошел гораздо дальше, сказав, что потребности младенца настолько велики, что его как такового просто нет: не существует такого явления, как младенец, есть лишь младенец и мать. Он считал связку “мать — младенец” биологической системой, в которой адекватное разворачивание процесса развития ребенка обязательно требует фигуры, адекватно проявляющей заботу о нем.
Малер (Mahler, Pine and Bergman, 1975), разрабатывая тему симбиоза, прояснила значимость постепенной сепарации и последующей индивидуации ребенка, с пробными уходами и возвращениями к заботящейся о нем фигуре.
Винникотт отмечал важность переходных феноменов для этого процесса. Ребенок пытается воплотить заботливую фигуру в некоторый персонализированный особый символический объект, которым может быть, например, старое одеяло. Одним из ранних переходных объектов может быть большой палец руки или другие пальцы, которые малыш сует в рот, чтобы отсрочить неприятное ощущение, пока не придет мама и не накормит его.
Создание переходного объекта представляет собой попытку взять мать с собой тогда, когда малыш удаляется от мамы, чтобы самостоятельно исследовать мир. Эти объекты служат напоминанием, утешением или талисманом, предоставляющим теплоту, уверенность и безопасность на протяжении всей жизни. Переходные объекты помогают поддерживать связь с заботящимся, любящим объектом, который дает чувство безопасности и благополучия.
Что случится, если сепарация ребенка не будет происходить постепенно, если у малыша не будет переходного периода, позволяющего создать переходные объекты? В подобных условиях, пишет доктор Кристал, ребенок отворачивается от матери и ищет что-то, что может утешить его, захваченного потоком безымянных аффектов. Младенец, если ему вообще удается выжить, действительно находит нечто в своем окружении, что не напоминает ему о матери, но заменяет мать. Не имея ничего, младенец или ребенок постарше сам становится как бы ничем; он должен приспособить что-нибудь для того, чтобы выжить, что-то, что может хоть немного его утешить при отступлении в его собственный, приватный мир. Этот объект внутри системы “я”, чьи функции не напоминают ребенку о матери, лучше описать как аутистический объект в традициях кляйнианских частичных объектов или я-объектов, внутри “я”, по Кохуту.
Многие клиницисты могут вспомнить фильм Джеймса Робертсона (Robertson, 1952), который показывали им во время обучения. Родители оставляют больного двухлетнего ребенка в больнице. После того как родители, с трудом оторвавшись от ребенка, все же уезжают, мы видим упорные требования малыша, чтобы папа и мама вернулись, его гнев, когда этого не происходит; его бурный протест, ведущий, в конечном счете, к депрессии, затем к отчаянию, безысходности, ощущению собственной беспомощности и, наконец, ко сну, вызванному общим истощением, бегству в сновидения. Энджел и Шмаль (Engel and Schmale, 1967) охарактеризовали такое состояние отчаяния как “безнадежное и беспомощное”.
В конечном счете ребенок в фильме приспосабливается к отсутствию заботливых родителей, подобрав успокаивающие объекты из окружающего его мира больничной палаты. Возможно, они не являются переходными объектами, потому что в этот момент мать кажется потерянной навсегда и воспоминания о ней не приносят утешения, скорее напоминая о печали и безысходности. Он потерял свои объекты и еще не приобрел новые. Может быть, это продлится всего лишь несколько дней, но каждая минута, прожитая в такой травмирующей ситуации, будет казаться вечностью. Ребенок пытается каким-либо образом утешить себя в отсутствие переходного объекта и новых объектов, возможно, используя в этот момент аутистические объекты.
Когда спустя четыре дня отец и мать, наконец, вернулись за сыном, казалось, что малыш их не узнавал. Он отворачивался от родителей, как будто они были фантомом, вызывающим боль, какой-то злой шуткой, которую сыграл над ребенком его детский разум, напоминая о постигшем его горе. Можно было видеть, как упорно пытался малыш исключить их из своего нового мира.
Столкнувшись с отказом признать их, родители проявили настойчивость, навязывая свое присутствие ребенку, на что тот ответил гневом: это были враги, причиняющие боль преследователи, которых он не помнил как любимых им. Но через некоторое время этот взгляд на них уступил место воспоминаниям о них как о любимых людях. Он стал наказывать их за то, что они были столь жестоки, бросив его одного, так что он думал, будто они никогда к нему не вернутся. Наконец, после достаточного наказания (на самом деле прошло всего несколько минут) ребенок вновь принял их в радостном воссоединении.
Описание параноидно-шизоидной и депрессивной позиций, сделанное Мелани Кляйн, помогает нам понять такое поведение ребенка. Параноидно-шизоидная позиция представляет собой закрытую систему, включающую одного-единственного человека с частичными объектами, которые играют аутистически обозначенные роли. Если в этих ролях его постигает неудача, они выплевываются как отравленное молоко, исключенные, ненавидимые, воспринимаемые как преследователи — по параноидному типу. Этот параноидный, аутистический мир является полезной моделью, которую следует держать в голове, занимаясь лечением людей с глубокими нарциссическими травмами. Большим шагом для таких пациентов является разрешение кому-нибудь из окружающих вернуться в их систему “я”, решиться довериться другому человеку и позволить ему обрести значимость для пациента.
Депрессивная позиция у Кляйн представляет собой систему из двух людей. Существование матери, пусть даже опасно изолированной, признается ребенком; она ему нужна, он к ней стремится. Такие отношения Спиц называл диатрофическими, чтобы показать, что каждая из сторон влияет на другую. Такое взаимодействие называется депрессивной позицией, поскольку сопровождается болезненным разочарованием в отношениях. В свою очередь, боль ведет к амбивалентным чувствам — ненависти к человеку, которого ребенок любит больше всего. Затем эта ненависть постепенно уходит, сменяясь воспоминаниями о проявлениях любви, которые малыш получал от этого человека; при этом не происходит психологического уничтожения объекта и ухода в параноидно-шизоидный мир одной персоны.
Может ли неадекватный симбиоз с преждевременным разрушением связи ставить ребенка в параноидно-шизоидную позицию, в то время как адекватный симбиоз направляет его к более жизнеспособной системе из двух людей — депрессивной позиции? И может ли параноидно-шизоидная позиция становиться основной системой для людей, переживших широкую травматизацию в попытке установить поддерживающую связь с заботящейся фигурой в свои ранние годы? Отступление в параноидно-шизоидную позицию в этом случае было бы попыткой адаптироваться к повреждениям, нанесенным появляющемуся ощущению “я”, и “я” в отношениях к другим человеческим существам, как это описал Дэниэл Стерн (Stern, 1985)?
Есть люди, которые не получили достаточно любви и не научились любить самих себя, развивая тем самым здоровую самооценку. Такие ранние нарушения в возникающем “я” вызывают специальные защиты. Такие люди должны защищать себя от переполняющих их чувств собственной “плохости”, никчемности, и даже чувства собственного несуществования, или хотя бы полезности для кого бы то ни было. Леонард Шенгольд (Shengold, 1989) назвал такое раннее злоупотребление и пренебрежение детьми убийством души.
Последующее развитие переживается ими через искажающую призму параноидно-шизоидной позиции. При этом такие дети преимущественно полагаются на установившиеся в своей системе аутистические объекты, а не на людей или переходные объекты, которые могут их напомнить. Очевидно, что аутистические объекты лучше поддаются контролю, они не так часто, как люди, вызывают разочарование и причиняют боль.
Можем ли мы заключить из всего этого, что аутистический объект является предтечей аддиктивного объекта и представляет собой его прототип? Мы знаем, как отношения аддиктивной личности с аддиктивным объектом поглощают его время и энергию; этот объект становится центром его жизни, заместив человеческие отношения. У аддикта нет веры в себя или в других, в нем постоянно живет идея о том, что свой мир можно контролировать с помощью объекта аддикции и этот объект снабдит его всем тем, что отсутствует внутри него.
Но это самообман, и аддикт знает, что дурачит себя. Объект аддикции приносит лишь временное успокоение, но человек вынужден отрицать, что это так, — ему больше не к чему обратиться, за исключением, разве что, лучшего аддиктивного объекта, другого наркотика или сексуального объекта.
Такая идеализация объектов, людей и поведения в символических целях и их компульсивное использование для контроля над миром обладают некоторыми характеристиками перверсии. Это хорошо показано во всех случаях, описанных доктором Майерсом, и в том, как представленная доктором Орнштейн пациентка пыталась использовать свои отношения с мужчинами. Видимая цель такого поведения может быть генитальной, но цель превращается (извращается) и компульсивно используется для удовлетворения некоторых настойчивых прегенитальных потребностей.
Превращение (извращение) обычного объекта или поведения в аддиктивный объект напоминает невротическое стремление избежать проверки реальности в области его симптома. Компульсивный невротический симптом предотвращения какой-либо катастрофы с помощью мытья рук основывается на магическом мышлении. В обоих случаях — при невротическом синдроме и при аддиктивном поведении — индивид знает, что ведет себя безрассудно, но чувствует непреодолимую потребность во что бы то ни стало сделать это по различным магическим, символическим причинам. Аддикт отделяет свое поведение от проверки реальности и идеализирует аддиктивный объект, как если бы его жизнь зависела от этого. Невротик, по существу, делает то же самое. Мне больше импонирует взгляд доктора Вёрмсера на аддиктивную личность как на случай тяжелого невроза с отыгрыванием вовне и признаками перверсии, чем на пограничное расстройство, вероятно, потому, что я нахожу диагноз “пограничной личности” диагностически бессмысленным и терапевтически бесполезным.
Благодаря чудесному историческому обзору доктора Сэбшин мы можем проследить идею о том, что аддиктивный объект не может быть отнят у аддикта без риска суицида. Зиммель (Simmel, 1927), Фенихель (Fenichel, 1945) и Найт (Knight, 1937) поддержали эту идею, с которой начался отсчет современного мышления в области терапевтического воздействия. Эта традиция, несмотря на свое неверное направление, имеет законные корни в наблюдении, что аддикту некуда обратиться и что без объекта аддикции он потерян; что как только он расстанется с существующим объектом аддикции, ему немедленно потребуется замена. Эту мудрую мысль можно найти в Программе восстановления “Анонимных Алкоголиков”, где говорится, что алкоголик перестанет пить, когда поймет, что Программе есть что предложить ему взамен: духовность и сообщество людей, которые борются с теми же проблемами. И эти люди не сомневаются, что он сможет постепенно перейти к воздержанию, хотя прекрасно понимают, насколько трудным может быть для алкоголика этот шаг.
Второй и третий шаги говорят об убежденности в том, что “Сила, более могущественная, чем мы, может возвратить нам здоровье”, и о принятии решения “препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его понимаем”. Остальные шаги показывают, как эта высшая сила превращается в хорошего и доброго партнера. Если мы договоримся с ней и вверим ей свою жизнь, она устранит изъяны нашего характера (шаг 6) и удалит наши недостатки (шаг 7). Исследуя личные качества людей, которым он причинил вред, пытаясь загладить свою вину и возместить нанесенный им ущерб (шаги 8 и 9), продолжая наблюдать и исследовать самого себя и признавая, если необходимо, свою неправоту (шаг 10), алкоголик ищет улучшения своего сознательного контакта с Богом, как он Его понимает (шаг 11). Это приводит к отношениям с новым (внутренним) объектом, с новой любящей и сильной родительской фигурой. Двенадцатый, и последний, шаг описывает “духовное пробуждение как результат этих шагов” и попытку “применять эти принципы во всех наших делах”.
“Анонимные Алкоголики” продемонстрировали великолепную работу с людьми, которые могут принимать и использовать принципы этой организации. Быть может, аддиктивный объект замещается новым внешним объектом и новым интернализованным объектом, по отношению к которому алкоголик переживает новое чувство себя как хорошего, нужного и достойного любви человека.
Возможно, именно так и работает психотерапия. Вместо веры в Бога мы пытаемся установить с пациентом терапевтические отношения, которые будут для него более надежными и заслуживающими доверия, более прощающими и менее осуждающими, чем те отношения, что были у него с окружающими до этого. Мы пытаемся войти в его систему одного человека и облегчить ее постепенное превращение в систему двух людей. Мы хотим, чтобы он полагался на нас и в конечном счете на себя, а не на химические вещества или другие аддиктивные практики. Поначалу мы можем стать для него новым аддиктивным объектом, но это нормальный шаг, который наш пациент делает в сторону становления нового объекта. Мы надеемся тем самым помочь пациенту развить веру в нас, в других людей и — что еще важнее — в себя самого.
Как для АА требуется наличие мотивации, принятие и преданность их принципам, так же и психотерапия требует чего-то подобного от своих участников. И те, и другие должны понимать, что они вступают в долгосрочные отношения, которые не принесут мгновенного облегчения; отношения, в которых встретятся всевозможные препятствия, ограничения и фрустрации. Основные провалы развития, из которых рождается аддиктивное поведение, поддаются изменениям очень медленно, путем частичных улучшений. Наша терапевтическая цель заключается в том, чтобы попытаться исправить, быть может, даже не фиксируемые, ранние переживания, обеспечивая такое человеческое отношение, к которому можно обратиться и встретить чуткость, отзывчивость и заботу.
Доктор Ханзян уравновешенно, тонко подчеркивает заботу о себе, но тем самым несколько умаляется важность самой атмосферы внешней заботы. Доктор Вёрмсер подчеркивает важность анализа подспудных конфликтов, в первую очередь конфликта в Супер-Эго, как только будут установлены безопасные отношения. Они подразумевают установление “рационального альянса”, терапевтической атмосферы доброжелательности и такта, а также проведение ряда дополнительных мер, необходимых вследствие крайней нетерпимости аддикта к аффектам и переполнения его эмоциями. Почти всегда к психоаналитической терапии необходимо добавлять лечение в других “модальностях”, включая медикаментозное лечение, семейную или супружескую терапию, группы самопомощи, а иногда и поведенческий подход.
Меня поразило сходство или, быть может, перекрывание этой популяции пациентов с взрослыми пациентами, которые подвергались насилию в детстве и имеют посттравматическое стрессовое расстройство. Эти люди похожи не только историями своего детства и симптоматикой, проявившейся во взрослом возрасте, но и защитным стилем личностной организации. Работа, которую доктор Кристал провел с алекситимией, подтверждает мою точку зрения.
Бессель Ван дер Колк (Bessel Van der Kolk, 1989), помимо прочего, установил у многих жертв травмы аддикцию к травме как таковой. С помощью статистики он показал, насколько часто травма происходит вновь и вновь и как жертва преследования может испытывать аддикцию к своему преследователю и к насилию. Здесь мы видим важную область для дальнейших исследований.
Несколько лет назад у меня произошел неожиданный телефонный разговор с Бертом, мужем моей пациентки Марджори, которая была восстанавливающимся алкоголиком. Он позвонил мне вечером и с ужасом в голосе рассказал, что у них Марджори, которая к тому времени не пила вот уже два года, утром произошла серьезная стычка. Придя с работы, Берт обнаружил суицидальную записку рядом с пустым пузырьком из-под антидепрессанта и полупустую бутылку скотча. В записке было написано, что Марджори хочет умереть, потому что она пила весь день напролет. Она много раз повторяла угрозу: “Если я выпью, тогда все кончено; я буду унижена и убью себя”. Берт не представлял, где находится жена, но был убежден, что она собирается выполнить свою угрозу. До этого у нее не было попыток суицида и она никогда не позволяла себе театральных сцен. Мы известили полицию.
Пребывая в тревожном ожидании, я размышлял о нашей работе с Марджори, которая продолжалась два с половиной года. Марджори, работавшую главной медсестрой в большой больнице, пережившую и повидавшую на своем веку немало, любили и уважали за ее справедливость, необыкновенный профессионализм и “золотое сердце”. Но она была импульсивной женщиной, способной неожиданно разгневаться или проявить мстительность; окружающие ее сослуживцы стали подозревать, что все это связано с неумеренным употреблением алкоголя. Однако поведение Марджори стало проблемой только после того, как ее мать умерла от передозировки барбитуратов. О профессиональной помощи не могло быть и речи: Марджори отрицала свои проблемы со спиртным и не доверялась никому. Берт, ее мягкий и пассивный супруг на протяжении вот уже двенадцати лет, был у нее под каблуком и тоже отрицал существование алкоголизма у жены. Главной проблемой был стыд, который она боялась пережить, оказавшись в глазах окружающих алкоголичкой, как и ее мать, как человек, выходящий из-под контроля и нуждающийся в помощи других.
Марджори направил ко мне ее интерн, и спустя четыре месяца, когда после рвоты кровью ее госпитализировали с диагнозом “гастрит”, она наконец позвонила. Она объяснила мне, что хочет вновь обрести контроль над своей страстью к выпивке и рассчитывает на краткосрочное лечение. Пациентка настаивала, что не нуждается ни в АА, ни в том, чтобы окончательно бросить пить. Она как настоящий диктатор объявила об условиях, в которых желает начать лечение; возможность контролировать собственное лечение была главным условием, не подвергающимся обсуждению.
Вскоре нам обоим стало очевидно, что Марджори не способна контролировать свою тягу к выпивке и нуждается в полоном отказе от нее. Она дала свое согласие с огромным нежеланием и сильным внутренним неприятием этого, несмотря на факты, подтверждающие, что алкоголь властвует над всей ее жизнью, разрушая ее здоровье, работу и отношения в семье.
Когда я порекомендовал Марджори использовать Антабус, для того чтобы помочь ей воздерживаться от алкоголя, она согласилась. Но чтобы доказать, что ничто и никто не может контролировать ее кроме нее самой, пациентка принимала Антабус и продолжала пить. Чувствуя себя никуда не годной и больной от Антабус-алкогольной реакции, с красным лицом, испытывая тошноту, тахикардию, гипертонию, она продолжала пить. Несколько подобных “экспериментов” показали мне, что возникающие у нее Антабус-алкогольные реакции были слишком опасны. Пациентка твердо объяснила мне, что ничто и никто, включая меня, не может ее контролировать. И мы прекратили курс Антабуса.
Утвердив себя, она со свойственной ей целеустремленностью попыталась добиться воздержания. Вскоре у нее начались приступы паники. Меня заинтересовало, не скрывалось ли под алкоголизацией аффективное расстройство. Употребление трициклических антидепрессантов улучшило ситуацию с паническими приступами, но пациентка все еще не могла воздерживаться от алкоголя.
С большой неохотой Марджори признала необходимость посещать группу АА и после ряда трудностей в поиске подходящей группы полностью прекратила прием алкоголя и продолжала воздерживаться от него на протяжении двух лет вплоть до того самого вечера, когда мне позвонил Берт.
Вкратце опишу режим ее амбулаторного лечения: помимо психотерапии я встречался с Марджори и Бертом (который активно посещал Аланон и группу “Взрослые дети алкоголиков”) и продолжал выписывать антидепрессанты. Кроме того, они посещали другого психотерапевта, который проводил с ними терапию пар. Сама Марджори посещала семь встреч группы АА в неделю, регулярно участвовала в небольших учебных группах с другими членами АА; у нее установились хорошие отношения с ее спонсором. Ее врач-интерн время от времени консультировал нас по вопросам применения различных лекарств.
Расписание наших терапевтических встреч было гибким и предполагало не менее двух сессий в неделю. Пациентка знала, что может обратиться ко мне в любое время, позвонив по телефону, и я готов провести очередную терапевтическую сессию в любой момент, когда она захочет меня увидеть. Уезжая из города, я оставлял ей номер телефона, по которому меня можно было найти; впрочем, она им никогда не пользовалась. Итак, она была абсолютно уверена в моей доступности.
Сеансы психотерапии были посвящены потребности Марджори в тотальном контроле и отрицании, ее недоверию, алкоголизму родителей, а также чувству вины и стыда и страху открыться и быть униженной. Нам также приходилось работать над ее изоляцией, одиночеством, страхом иметь детей и страхом остаться бездетной. Мы говорили о препятствиях к интимности, о том, каким образом химические вещества встают на место человеческих отношений, потому что их легче контролировать и они надежнее, чем люди. Мы разговаривали о ее внутренней потребности заполнить, по-видимому, бездонную яму внутри нее. Мы продвигались по пути построения доверительных терапевтических отношений.
Затем у Марджори возникли подозрения, что Берт начал встречаться с другой женщиной. Во время одной из совместных сессий он наотрез отрицал это перед ней и передо мной. Думаю, что моя пациентка сместила на Берта возрастающую уязвимость, позволяя себе зависеть от меня. Она согласилась с моей идеей, но ее подозрения не исчезли. Наконец Берт признал их правоту, попросил прощения и пообещал прекратить свой роман на стороне.
Таковы были обстоятельства, которые привели к утренней стычке, недопитой Марджори бутылке скотча и ее суицидальной записке.
Зазвонил телефон. Это опять был Берт, сказавший, что Марджори вернулась. Ее вырвало от передозировки, и она вернулась за новой порцией таблеток. Берт позвонил в полицию; полицейские приехали очень быстро и арестовали ее. Я почувствовал огромное облегчение, за которым последовала неожиданная волна ненависти — ее поступок был жестоким по отношению ко мне. Не заботился ли я о ней больше, чем она заботилась о своей жизни? Стал ли я по отношению к ней созависимым человеком? Или моя вовлеченность помогла ей получить все, в чем она нуждалась, а моя ранимость была той ценой, которую я должен был заплатить, если хотел помочь кому-либо в подобной ситуации?
Я попросил полицию привести Марджори в центр первой помощи госпиталя, где собирался встретиться с ней и оценить ее состояние. Она пребывала в состоянии тяжелой интоксикации, но была рада видеть меня. Поскольку она отказывалась от добровольной госпитализации, мне пришлось жестко настоять на том, чтобы перевести ее в закрытое психиатрическое отделение, где я встречался с ней ежедневно. Несмотря на протесты пациентки, я продолжал удерживать ее в отделении, поскольку оставался риск суицида. Я надеялся, что за жестким контролем она увидит во мне заботливую и защищающую фигуру.
Я попытался ввести ее в стационарную программу антиалкогольного лечения, но получил категорический отказ. Когда я уже не мог удерживать Марджори без ее согласия, она выписалась из госпиталя вопреки советам лечащего врача и вступила в лечебную антиалкогольную программу для амбулаторных пациентов, дав понять, что прекращает работать со мной. Я пытался письмами и по телефону пригласить ее на встречу, для того чтобы обсудить разрыв терапевтических отношений, но получил категорический и холодный отказ.
Марджори заявила мне, что лечение было неправильным, поскольку я давал ей антидепрессанты, поощряя дальнейшую зависимость от химических веществ, и вмешивался в ее программу восстановления в рамках АА, встречаясь с ней на индивидуальной терапии и не думая о том, какое значение имеют наши встречи для ее работы в группе. Тогда же я узнал, что Марджори разорвала свои отношения с учебной группой АА и со спонсором.
Думаю, что в день неудачной попытки суицида она выпила, чтобы досадить: Берту — за измену, а мне — за то, что я поставил ее в зависимую позицию по отношению к себе, в результате чего также мог причинить ей вред. Вероятно, в тот день Марджори вовсе не собиралась умирать, а просто решила наказать нас, и в этом случае мой контроль над ней в госпитале мог восприниматься как возмездие, причем с оттенком настоящего садизма. Мне также интересно знать, воспринимала ли она прекращение своего воздержания как неудачу — мою и ее спонсора в АА; в этом случае она должна была испытывать чудовищный стыд. Чувство, что мы потерпели неудачу, пытаясь ей помочь, могло быть проекцией ее собственного чувства неудачи. Была ли принудительная госпитализация непереносимой для нее, причинила ли она ей непоправимый вред? Чувствую, что так было необходимо, поскольку связывающие нас добровольные терапевтические отношения были разрушены в тот момент, когда Марджори, вместо того чтобы позвонить мне, попыталась покончить с собой, приняв большую дозу таблеток. В госпитале эта связь была восстановлена недостаточно, чтобы я мог чувствовать, что амбулаторное лечение, без постоянного наблюдения персонала, будет для нее безопасным.
В ее личности доминировали нарциссические защиты; грандиозность и перфекционизм, являющиеся результатом гиперкомпенсации, скрывали то, что отсутствовало внутри нее и заставляло ее чувствовать себя плохой и уродливой. Она чувствовала себя хорошо, лишь помогая людям, нуждающимся в этом. В детстве Марджори пережила предательство со стороны своих ненадежных, непредсказуемых родителей-алкоголиков, быть может, даже подвергалась сексуальному насилию, что вызвало глубокую травматизацию. Последующие отношения с учителями или попечителями постоянно вызывали разочарование, и Марджори постоянно вынуждена была сама решать все вопросы своего выживания. И мы вновь разыграли этот семейный сценарий.
Было ли ошибкой с моей стороны лечить ее с помощью психотерапии? Были ли антидепрессанты действительно полезны в данной ситуации? Мешали ли наши терапевтические сессии вовлеченности моей пациентки в программу АА? Преодолеет ли она свой гнев и ощущение неудачи в работе со мной, свою реакцию на мое принудительное лечение и попытку контролировать ее? Можно ли было избежать принудительной госпитализации? Можно ли было прибегнуть к ней, не отвратив от себя пациентку и не потеряв ее?..
10. Преимущества
полимодельного подхода
к пониманию
аддиктивного поведения
Джекоб Джекобсон
Лечение аддиктивных заболеваний, как и другие сферы лечебного воздействия, подвержено постоянным видоизменениям. В “Boston Globe” Эллен Гудман (Ellen Goodman, 1990) процитировала фразу, с которой начинается автобиография Китти Дукакис (Dukakis, 1990): “Я Китти Дукакис, наркоманка и алкоголичка”. Восхищаясь яростной честностью книги, Гудман сокрушается и сожалеет о том, что такое самоописание разрушает многогранную личность, которую она когда-то знала и которой восхищалась. Гудман говорит: “То, что беспокоит меня... больше всего... то, чего, похоже, требует культура лечения аддиктивных расстройств от тех, кого волнует эта область, — вашей целостной идентичности”. Нет никаких причин ждать от Эллен Гудман понимания поддерживающих и исцеляющих Эго аспектов этой болезни или постижения всей значимости того, что аддикт в конце концов признает свои отрицания и самообманы. Главное в том, что она озвучивает подход, иллюстрирующий меняющуюся моду в лечении аддиктивных проблем.
В истории психоанализа было время, когда пациенты и ситуации описывались исключительно в динамических терминах, и вредоносные эффекты химических веществ, вызывающих аддикцию, учитывались при оценке личности пациента или при планировании лечения крайне неадекватно. Пациентам ставились диагнозы расстройства характера, которые затем “лечили”, а они в это время могли страдать от несильной, но хронической интоксикации. Все это сопровождалось искренней верой в то, что наркотические эффекты никоим образом не приводят к осложнениям в диагнозе или лечении. Экспрессивная психотерапия некритически идеализировалась, ее считали лечением, подходящим для любого случая; она рассматривалась как взаимоисключающая по отношению к таким подходам, как АА, которые подчеркивали эффективность структуры, контроля и групповой поддержки.
Со временем мы хорошо выучили уроки и теперь в состоянии позволить себе уважать и адекватно оценивать другие факторы, расставляя приоритеты с учетом эффектов, вызванных химическими веществами, генетическими и биологическими факторами предрасположенности, социальными факторами, а также особыми потребностями этой группы пациентов. Теперь мы действительно понимаем, как перечисленные факторы объединяются с психологическими предпосылками и запускающими факторами, вызывая развитие и проявление аддиктивного поведения. Наш прошлый неоправданный скептицизм по поводу разнообразных форм контроля и контейнирования сменился смиренными попытками понять, с помощью каких средств можно помочь тем самым аддиктам, с которыми мы боролись все эти годы. Однако, обезопасив себя тем, что понимаем аспект злоупотребления химическими веществами как болезни, мы — такова человеческая природа — попали прямо в опасные объятия Харибды и теперь подвергаемся риску идеализировать эти соображения. При этом мы можем потерять понимание индивидуальных идентичностей и разнообразных психологических потребностей наших пациентов с аддиктивными симптомами. Именно об этом и предупреждала Эллен Гудман. Шесть авторов прояснили наши усилия, направленные на то, чтобы интегрировать концепцию болезни и психодинамический подход, и работать подходящим образом, совмещая их и даже ощущая удобство при использовании различных систем — “Двенадцати шагов” и самопомощи.
Каждый автор подчеркнул драгоценную индивидуальность своих пациентов. Проявляя интерес к поиску полезных обобщений, касающихся этой тяжелой группы больных, они в равной мере интересовались живыми особенностями той борьбы, в которую был вовлечен каждый из описанных пациентов.
Две статьи знакомят нас с членами группы людей, которые являются аддиктами вовсе не от химических веществ, а в метафорическом смысле — от определенной констелляции поведения, аффектов, состояний “я” или межличностных конфигураций, которые требуется контролировать или избегать любой ценой. Они проявляют в своих любовных отношениях, сексуальной жизни, манере питаться или в специфической активности (азартные игры) поведение, на которое мы вешаем ярлык “компульсивное”, “облигаторное”, “не терпящее возражений”, “непреодолимо побуждающее” — качества, заслуживающие того, чтобы закрепить за этим поведением ярлык “аддиктивный”, даже если речь не идет ни о каких химических веществах.
Каждый из авторов в своих терминах упоминает раннюю, архаическую, примитивную, доэдипову и довербальную локализацию борьбы жизни и смерти, проявляющуюся у людей, вовлеченных в такое поведение. Этот акцент перекликается с аргументацией Фрейда при исследовании им травматизированных индивидов и демонических самодеструктивных повторений в его книге 1920 г. “По ту сторону принципа удовольствия”. Мир желаний и их удовлетворения не будет адекватно развиваться, утверждает Фрейд, до тех пор, пока не будет решена определенная фундаментальная задача. Эта задача, лежащая, по определению Фрейда, по ту сторону принципа удовольствия, состоит в связывании потенциально травматического объема стимуляции. Лишь после решения этой задачи “станет возможным возобновление господства принципа удовольствия (т.е. желаний и их удовлетворения), а пока этого не произойдет, будет главенствовать иная задача ментального аппарата — задача подчинения или связывания возбуждений” (Freud, 1920). Иными словами, на языке того времени он говорит, что определенные первичные проблемы требуют разрешения перед тем, как смогут появиться понятные желания, которые можно будет удовлетворить. Я думаю, что каждый из докладчиков по-своему постарался описать ранние задачи, неспособность разрешить которые приводит к этому повторяющемуся, неумолимо побуждающему поведению, которое мы привыкли называть “аддиктивным” и при котором в химических веществах или повторяющихся поведенческих констелляциях ищут внешних заместителей отсутствующих или ущербных внутренних функций.
Невзирая на высказывание Фрейда из работы 1920 г., которое я привел, аналитики и аналитически ориентированные психотерапевты десятилетиями возвращались к еще более ранним формулировкам и неадекватно применяли, как указали некоторые докладчики, неподходящие и наивные теоретические и технические подходы к аддиктивной популяции.
Сдвиг, постепенно произошедший в наших взглядах на аддиктов, от ищущих удовольствие гедонистов до доведенных до отчаяния людей, занимающихся самолечением, хорошо проиллюстрирован во всех шести докладах. Ханзян, Вёрмсер и Кристал соглашаются с тем, что целью употребления наркотиков является облегчение или изменение аффектов, переживаемых как болезненные, непереносимые и подавляющие вследствие недостатка у аддиктивной личности способности модулировать свои аффекты или защищаться от них. Мы также получили описание различных вариантов индивидуального использования аддиктами конкретных химических веществ для достижения необходимого им уровня бодрости или успокоения, а также облегчения социализации.
Доктор Ханзян привел ясный и исчерпывающий случай аддиктивного поведения, основной целью которого было не страдание, не поиск удовольствия и даже не саморазрушение; скорее это поведение было представлено как следствие значительных нарушений функций саморегуляции, что проявлялось в области чувств, самооценки, объектных отношений и заботы о себе. Орнштейн и Майерс описывают похожие попытки оказания помощи самому себе не путем применения химических веществ, а через повторяющееся сексуальное или соблазняющее поведение. В обеих группах пациентов очевидно присутствуют экстернализация и повторения, к которым они прибегают, чтобы справиться с предшествующими травмами путем преобразования прошлого опыта пассивного переживания в опыт активного контроля, даже если результирующий сценарий окажется болезненным или саморазрушительным. Дополнительной мотивацией для этих повторений являются стремление сохранить безопасную привычность, описанное доктором Кристалом как борьба за поддержание статус-кво в попытке предотвратить периодическое повторение первичной младенческой травмы. Хорошей иллюстрацией к этому являются сновидения пациентки доктора Орнштейн, которая хватается за камни, представляющиеся ей последним катастрофическим решением, на которое она способна. Доктор Кристал отмечает, что аддикт, как и другие травмированные индивиды, живет в мире действия и склонен к импульсивным действиям и соматическим реакциям, вместо того чтобы переживать и описывать аффективные переживания как значимые психологические события; эту особенность он называет алекситимией. Доклад доктора Ханзяна содержит живой пример такого языка действий. Я также хочу предложить несколько примеров из моего собственного опыта.
Первый случай очень небольшой. Мужчина в возрасте 35 лет, испытывающий трудности аддиктивного свойства, не мог реагировать на любые перерывы в ходе лечения. В течение последней сессии перед моими каникулами он по обыкновению отказался выразить свои чувства по поводу будущего перерыва в работе, заявив, что это для него не имеет никакого значения. Он ушел, а вслед за ним вошла, смущенно посмеиваясь, очередная пациентка. На мой вопрос она ответила: “Раньше этот парень никогда не говорил со мной. А сегодня сказал: “Ну, я думаю, что мы встретимся через две недели”. Он мог справиться с чувством сепарации только с помощью отыгрывания, смещенного на эту пациентку, в котором сам играл активную роль.
Другой случай я опишу более подробно. Несколько лет назад мне довелось столкнуться с семьей, живущей в мире действий, члены которой практически не распознавали свои чувства. Я работал с дочерью из этого семейства, которая после окончания колледжа была подавлена непосильной необходимостью выйти во взрослый мир. Мисс Д. пыталась справиться с этим, принимая наркотики и выпивая (такой способ решения проблем был характерен для ее семьи); при этом у нее развилась депрессия и появились мысли о самоубийстве.
Я предложил пациентке госпитализировать ее в подходящий центр в другом городе. Она с готовностью приняла мои рекомендации, но предупредила, что убедить ее семью пойти на это будет крайне нелегко. Результат превзошел все мои ожидания. На следующий день пациентка привела с собой мать. Миссис Д., едва дослушав мои заключения и рекомендации, сделала заявление, которое поставило меня в тупик. “Дядя моей дочери, — заявила она, — в течение 12 лет сидел в своей комнате и, целясь себе в голову из ружья, орал распоряжения всей семье и грозился пристрелить себя, если ему не подчинятся. Ему не нужен был психиатр, так почему же вы думаете, что в этом нуждается моя дочь?” Последняя фраза была произнесена победным тоном и сопровождалась выразительным жестом в сторону пациентки. Моя клиническая проницательность подсказала мне, что дело, кажется, принимает серьезный оборот. Я еще раз объяснил этой даме, какую боль испытывает ее дочь, и серьезность ее состояния. Мы договорились о встрече на следующий день, чтобы продолжить наш разговор; каждую очевидную вещь приходилось доказывать с боем. В тот же вечер мне внезапно позвонила обезумевшая от горя миссис Д. За секунду до этого она поднялась в комнату дочери и увидела ее лежащей без сознания на полу, а рядом с ней пустой пузырек из-под таблеток. Я немедленно вызвал машину скорой помощи, которая привезла их обеих в местную больницу. Дочь все еще находилась без сознания. Мы промыли ей желудок и обнаружили изрядное количество виски, но никаких следов таблеток. Ее жизненные сигналы были хорошими и, пока я вез ее в палату, она пришла в себя и открыла глаза. Мне никогда не забыть, как она выглядела: одеяло, натянутое до подбородка, широко открытые темные глаза на абсолютно белом лице, — а затем она мне подмигнула! Тут я все понял. Она вовсе не собиралась убивать себя, придя в отчаяние от материнского непонимания; напившись до состояния ступора, она вовсе не пыталась загасить душевную боль; она просто перешла на разговорный язык своей семьи — язык действия; мы можем назвать это алекситимией.
Проще говоря: “Хотите, чтобы ружье к голове? Будет вам ружье к голове!” И послание дошло по адресу. К тому времени, когда я вернулся в комнату ожидания, у миссис Д. был ко мне только один вопрос: “Как нам лучше добраться до этого вашего госпиталя, док, — через Бостон или через Олбани?” Ко всему прочему я стал еще и турагентом! Хочу особенно подчеркнуть, что весь этот сложный комплекс аффективно заряженных взаимодействий на уровне жизни и смерти был разыгран без единого явного упоминания о чувствах — как со стороны матери, так и со стороны дочери.
Эдит Якобсон в своей книге “Я” и объектный мир” (Edith Jacobson, The Self and the Object World, 1964) описывала комплекс наблюдений, связанных с проблемой “безаффектного языка”. Она противопоставляет “широкую и богатую аффективную шкалу, многообразные и тонкие оттенки чувства, теплые и живые эмоциональные качества нормального развития и зрелой объектной любви” ограниченному кругу чувств при аутистически-шизоидном состоянии (когда личность, пережившая травматизацию, приостановилась в своем развитии, не достигнув состояния полной я-объект дифференциации). Она описывает чувства этой травматизированной группы как ограниченные узким кругом “холодной враждебности, тревоги, обиды, унижения, стыда или гордости, безопасности или опасности, высокой или низкой самооценки, грандиозности или неполноценности и вины”.
Все шесть статей наполнены примерами из этого перечня “удушенных” аффектов. Нам говорят, что некоторые аддикты используют химические вещества в попытке раздвинуть этот удушающий круг, сделать свой спектр аффективных переживаний более открытым и разнообразным. Доктор Кристал подчеркивает роль аффективной регрессии при психосоматических проблемах представителей аддиктивной группы и использование ими химических веществ как модификаторов собственных аффектов. Пережив травму в ранних отношениях, они, как образно описал доктор Кристал, “отдают предпочтение краткосрочным интоксикантам, не решаясь делать ставку на людей”. И мы должны постоянно держать в голове, что, приступая к терапии с аддиктивным пациентом, мы просим его “поставить” на нас.
Доктор Вёрмсер сделал ударение на аффектах и лексиконе темы стыда, а также архаической и мучительной вины от примитивного и брутального Супер-Эго. Во всех докладах говорилось о потребности в гибком подходе. Доктор Майерс, к примеру, использовал психотропные препараты, чтобы содействовать функции успокоения (soothing), которую он пытался обеспечить для своих пациентов, не развивших в себе этой способности. Доктор Ханзян подчеркивал значимость интегрирования концепции аддикции как болезни, в которой акцент делается на контейнировании и контроле, с психодинамической концепцией, которая обращается к специфической уязвимости функции саморегуляции у аддиктов. Другими словами, он побуждает нас стабилизировать меняющуюся форму лечебных подходов в срединной, интегративной точке. Его концепция первичной заботы терапевта представляет собой один из путей, чтобы попытаться ответить на многочисленные уровни потребностей, присущих этой группе пациентов.
Доктор Кристал преподнес нам одиссею своих переживаний как клинициста и как теоретика. Он отметил прошлые проблемы, которые возникли в результате длительного использования только одного клинического инструмента. Кто-то сформулировал удачный афоризм: если единственный инструмент, которым вы располагаете, — это молоток, любая встретившаяся проблема покажется вам похожей на гвоздь. И так же, как это описывают Кристал, Сэбшин и другие докладчики, мы десятилетие за десятилетием боролись изо всех сил, а прокрустово ложе — или кушетка, или молоток — всегда было с нами.
Как ни странно, даже эти неправильно используемые методы лечения работали — до тех пор, пока мы были новичками; видимо, “новичкам везет”. У каждого нового способа химического или психологического лечения в области психического здоровья есть свой период “удачи новичка” — восхитительное время, когда терапевтическое рвение приводит к значительному улучшению результатов. Эта тенденция создает оптимизм на ложной почве, пока, наконец, не исчезает фактор плацебо и не становятся понятными реальная эффективность и ограничения метода. Примером может служить первоначальная идеализация флуоксетина — сейчас мы уже пришли к более трезвому пониманию его настоящей эффективности и его ограничений.
Итак, это было время, когда у нас был свой молоток и мы делали им все лучшее, на что только были способны. Как только “молоток” перестал помогать, терапевты разлюбили работать с аддиктивными пациентами. А они были признательны нам за то, что мы наконец-то оставили их одних. Тем не менее за последние несколько десятилетий, в которые психоаналитическая структурная теория значительно развилась и расширилась, были созданы более “правильные” инструменты для понимания деталей таких функций Эго, как отсрочка (delay), рассудительность (judgement), память, модуляция и т.д., каждая из которых необходима для аффективной регуляции. Сигнальная модель тревоги, впервые представленная Фрейдом в 1926 г. и впоследствии расширенная до модели любого аффекта, заложила основу для понимания функционирования аффективной сферы через понимание и эмпатию.
Теории развития и отношений добавили другие измерения к структурной теории, которые были необходимы для понимания феноменов аддиктивного поведения. Первые исследования Маргарет Малер по сепарации-индивидуации появились в конце 1950-х гг. (например, Mahler, 1958) вместе с концепцией симбиоза, из которого разворачивается психологическое рождение и индивидуация. Вскоре после этого в нашу страну пришли теории Мелани Кляйн (Klein,1968), Винникотта (Winnikott, 1960) и Фэйрбейрна (Fairbairn,1954), добавив новые и весьма ценные концептуализации в объектные отношения. В 1960-е гг. Кохут начал представлять свою теорию Я-психологии (Kohut, 1968); примером эволюции его теории может служить работа доктора Орнштейн. В настоящее время многие аналитики используют разнообразные теории, чтобы объяснить разнообразные аспекты клинических феноменов, с которыми они сталкиваются, как показано в работе Джона Гедо (Gedo, 1979) или в подходе “Четырех психологий” Фреда Пайна (Pine, 1988). Другие расширили структурную теорию, встроив в нее концепции развития, Я-психологии и объектных отношений. Лэвальд (Loewald, 1960), Адлер и Бюйе (Adler and Buie, 1979), а также другие расширили нашу базу для понимания, концептуализации и эмпатической интерпретации феномена аддиктивного поведения. Отражая все эти подходы, доктор Ханзян и другие обсуждали преимущества полимодельного подхода.
Важный и полезный клинический вклад, имеющий ряд источников, заключается в том, что мы стали отдавать должное огромному терапевтическому воздействию признания и подтверждения пациенту реальности прошлой и настоящей травмы, насилия и пренебрежения. Было время, когда такого признания избегали, чтобы не смазать цельного понимания и проработки вызванных фантазийных элементов. Такое избегание, обусловленное благими намерениями, порой приводило к печальным последствиям, вызывая ретравматизацию пациента, который переживал свою неспособность подтвердить травму и убедить в ее реальности как недоверие к себе или даже обвинение; неумышленное повторение отрицания и лицемерия, окружавшего первоначальное пренебрежение или насилие в семье.
Неудачи психотерапии, которая не подходила для пациентов, страдавших тяжелыми ранними травмами, как оказалось, привели к ошибочному заключению, что динамическая психотерапия совершенно неэффективна для аддиктивных пациентов. Сегодня этот взгляд меняется по мере того, как терапевтические подходы становятся более сложными и тоньше настроенными, созвучными новому пониманию проблемы. Теперь гораздо большее значение придается гибкости, отзывчивости, эмпатии, безоценочному отношению к пациенту и необходимости видеть текущую реальность при работе с представителями этой группы пациентов.
Доктор Ханзян отмечает, что аддикты “нуждаются в большей поддержке, структуре, эмпатии и контакте”, чем классические пациенты психоаналитика. Полагаю, за прошедшие годы мы открыли, что все пациенты нуждаются в ангажированности терапевта или аналитика, находящегося в одной комнате с ними, о чем говорит доктор Ханзян, и, самое главное, наверное, все нуждаются в более эмпатичном и чутком взаимодействии для эффективной аналитической и психотерапевтической работы, чем мы считали раньше. Думаю, это делает находки и открытия, которые возникают из опыта лечения данной особенно требовательной группы подходящими и полезными для понимания всех категорий наших пациентов. В этом смысле, как сказала доктор Сэбшин, “история развития теории и лечения аддиктивного поведения отражает историю психоаналитического мышления”.
Похоже, что трудности, переживаемые и проявляемые этой группой пациентов, к которым мы пытаемся обратиться с помощью терапии, разбиваются на три большие области развития и функционирования личности.
Аффективная регуляция
Мы все согласны с тем, что уязвимость, дефициты и дефекты в сфере аффективной регуляции, которые проявляются как неспособность человека успокоить себя и контролировать свои импульсы, составляют решающий в данных условиях фактор предрасположенности. Вопросы аффективной толерантности и аффективной регрессии особенно подчеркиваются в докладе доктора Кристала. Пациенты доктора Майерса, Алекс и Бартон, очевидно, стремятся к показному сексуальному поведению с его непреодолимым влечением в своих попытках предотвратить кризис разрегулированности; пациентка доктора Орнштейн применяла мастурбацию для контроля уровня возбуждения, которое угрожало дезинтеграцией.
Область “я”
Вторая область трудностей связана с “я”: это переживания себя, структура “я”, дифференциация “я” и объектов и самооценка. Доктор Ханзян выразил это просто: “Аддикты страдают, потому что не ощущают себя хорошими”. Он указал на резкое чередование между лишенностью “я” (selflesness) и сосредоточенностью на себе (self-centeredness), что у других авторов описывается как колебание между состоянием униженности “я” и состоянием самовозвышения. Доктор Ханзян также отметил, что химические вещества “могут служить мощным противоядием от внутреннего чувства пустоты, дисгармонии и недостатка покоя и легкости, которые свойственно переживать подобным людям”. Эти колебания можно было легко наблюдать у миссис Холланд, пациентки доктора Орнштейн, которая переживала порочное “я” и возвышенное “я”. Согласуясь со своей Я-психологической теоретической ориентацией, доктор Орнштейн описала свой случай в терминах этой второй категории, понимая проблемы регуляции и повторяющегося поведения в терминах я-объектов и динамики состояния “я”. Доктор Вёрмсер говорит о размывании границы между “я” и объектами в состоянии слияния с другими, а у пациента доктора Майерса потребность вызывать восхищение бесспорно является противоядием против его раннего опыта невнимательного и нечуткого обращения, что привело его к ощущению себя минимизированным и не имеющим значения.
Объектные отношения
Третья категория наблюдений лежит в области объектных отношений и касается отношений между “я” и миром объектов.
Каждый доклад насыщен описаниями и указаниями непреклонно повторяющихся, часто самодеструктивных констелляций “я” и объекта, которые так характерны для жизни этой группы пациентов. С мучительной повторяемостью пациентке доктора Орншетйн необходимо было покорить мужчину, которым она быстро становилась одержима и от которого получала наполняющую ее жизненной энергией, буквально оживляющую реакцию страстного восхищения в рамках фантазии “вечного соединения”; вслед за этим наступает неизбежное разочарование, деидеализация, холодное отчуждение и затем — новое “вечное соединение”.
Моя пациентка с подобными проблемами, по мере того как начала понимать последовательность такого же рода, сообщила мне однажды с удивлением, что поймала себя на мысли: “Я должна получить этого мужчину!”, когда услышала, как друг ее мужа, с которым она должна была впервые познакомиться, идет по коридору, чтобы присоединиться к ней и ее подруге. “Я влюбилась в шаги...!” — в страхе восклицала она и таким образом сделала маленький шаг на своем пути от мучительных повторений своего сценария. У Алекса, пациента доктора Майерса, мы также обнаруживаем весьма характерную личную цель, преследуемую в ходе случайных сексуальных встреч — его чувство собственной ценности, по сути, само его существование, постоянно требовало, чтобы кто-то, ставший в этот момент значимой для пациента фигурой, выразил восхищение его эрегированным пенисом. То же самое мы видим у Бартона, который постоянно нуждается в демонстрации того, что женщина проявляет сексуальную благосклонность за деньги; то же мы видим у Чарльза, которого влечет стремление найти свою сестру на видеокассетах. Во всех этих случаях абсолютно очевидно проявляется потребность в экстернализации проблемы и повторении ее в попытке превратить пассивную младенческую беспомощность в активное обладание.
Мой бывший пациент, у которого проявлялся такой же повторяющийся паттерн, вышел за пределы той популяции пациентов, о которых мы сейчас говорим; он обнаруживал аддиктивное поведение как при наличии, так и в отсутствие злоупотребления химическими веществами. Это был ученый-исследователь тридцати с лишним лет, который обратился с жалобами на головную боль типа мигрени и ритуализированные анонимные гомосексуальные контакты в общественных уборных, имеющие императивный характер. Молодой человек часто посещал пункт скорой помощи для инъекций демерола, снимающих головную боль, который достаточно свободно получал от семейного врача, глубоко тронутого страданиями своего подопечного. Спустя несколько месяцев с начала анализа его головные боли потихоньку исчезли; пациент вошел в аналитический процесс. Тем не менее он продолжал обращаться в пункт скорой помощи, лишь ненамного снизив частоту посещений; было похоже, что мы столкнулись с ятрогенной демероловой аддикцией. Кроме того, по моему настоянию он охотно согласился попросить альтернативный ненаркотический препарат у врачей скорой помощи, который удовлетворял его “аддиктивные” потребности ничуть не хуже. В этот период травматические переживания пациента, стоящие за его аддикцией, о которой мы привыкли думать как о “процессе в пункте скорой помощи”, стали понемногу выходить на свет. В обычной на первый взгляд семье его родителей, принадлежавшей к низшей части среднего класса, между родителями регулярно разыгрывались титанические битвы; нечто похожее было в семье Виктора, пациента доктора Вёрмсера. Одним воспоминанием, возникшим через огромную боль и паническое состояние как организующий центр, был момент, когда его отец угрожал выброситься из окна пятого этажа. В ответ на это мать демонстративно подошла к окну, раскрыла его настежь и предложила супругу немедленно выполнить свою угрозу. Всю эту картину и наблюдал обезумевший от ужаса четырехлетний малыш, мой будущий пациент. После этого у него, ранее здорового ребенка, появились головные боли, которые стали ядром страха перед школой несколько лет спустя, из-за чего мать была вынуждена оставаться дома и сидеть с ним. Она могла успокоить его, когда наливала чашку чая и с любовью поила его из ложечки. Это время стало островком мира, покоя и безопасности в водовороте гнева и страха, в котором жил ребенок. Становится ясным, что основой сформировавшегося впоследствии процесса посещений пункта скорой помощи были эти переживания, когда мать нянчила его. Когда пациент начал это понимать и переживать анализ как помощь несколько иного, но близкого рода, констелляция, связанная с пунктом скорой помощи, и более позднее и сложное “аддиктивное” гомосексуальное поведение были отброшены и не возвращались в течение десяти лет после окончания лечения. Мне кажется, хороший результат в данном случае обусловлен тем, что тяжелая травма произошла в более позднем возрасте, при явно приемлемых уходе и заботе в младенчестве.
Очевидно, каждый бит клинических данных может и должен соответствовать всем трем областям: аффективной регуляции, сфере “я” и я-объект дифференциации, а также объектным отношениям. Полагаю, что любой психоаналитический подход, доступный нам на сегодняшний день, предлагает особую силу и ясность для понимания и обращения к тому или иному из этих трех измерений психологического функционирования. При этом то или иное направление может быть особенно полезным для лучшего понимания каждого конкретного случая и для клинической работы.
За последние годы наше понимание аспектов взаимодействия в ходе терапевтических отношений обогатилось исследовательскими наблюдениями за взрослыми и детьми. Обобщая вопросы, затронутые в недавних статьях на эту тему, я пришел к выводу, что обзор одного такого наблюдения младенческого развития может продвинуть нашу дискуссию по этому вопросу. Оно может служить достаточно простой парадигмой и предложить по меньшей мере гипотетически перспективный взгляд на один тип младенческой ситуации, о котором мы часто строим ретроспективные гипотезы в нашей работе с детьми более старшего возраста или взрослыми пациентами. Я думаю об экспериментах с “каменным лицом” или “застывшим лицом”, которые проводили Брэзлтон и Троник (Brazleton and Tronick, 1978), когда нормальные матери получали инструкцию делать “каменное лицо” вместо своих обычных спонтанных улыбок, когда их нормальные младенцы улыбались матерям открыто и приветливо. Результаты оказались просто драматическими. Малыш, столкнувшись с этим болезненным нарушением ритма взаимодействия, пытался делать повторные попытки добиться необходимой ему реакции — улыбки матери. Если мы будем помнить о том, как много значит для выживания грудного ребенка способность привлекать внимание заботящегося о нем взрослого, нам легко будет понять, насколько напряженной и биологически важной является для него подобная ситуация. Но даже тогда мы не можем быть готовы к тому, что происходит на самом деле.
Очень быстро, помимо непрерывных попыток получить от матери улыбку, младенец начинает проявлять дистресс, слегка нервничая и оглядываясь в надежде найти выход. Вскоре вслед за этим он начинает зевать, вздрагивать и судорожно дергаться, появляются гримасы, тупое выражение лица, он опускает голову, скрючивается, начинает сосать пальцы и делать качающиеся движения. Ни один из малышей из семи пар “ребенок-мать” не заплакал, хотя позже те же исследователи продемонстрировали в фильме Новы (Nova, 1986) “Первый год жизни” дальнейшее развитие этой последовательности, куда входила дезинтеграция регуляторных способностей, вегетативная буря, сопровождающаяся икотой и слюнями, а затем тотальное вовлечение тела в процесс отчаянного горестного плача. Эти впечатляющие реакции возникают у нормального ребенка, пережившего один эпизод отсутствия отклика на его улыбку обычно любящей и внимательной матери. А как же дети, которые переживают такие катастрофические эпизоды много раз в день в течение длительного времени, если мать переживает депрессию, подавлена происходящими с ней событиями, поглощена собственным нарциссизмом или психологически отделена от ребенка из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками? Мне приходит на ум жестокое и дисфункциональное окружение, описанное доктором Меерсом. При просмотре фильма про подобную ситуацию не перестаешь задаваться вопросом, что такие часто повторяющиеся аффективные бури и возникающее затем беспомощное отстранение могут делать с долгосрочной способностью к аффективной регуляции, с силой и здоровьем “я” и с базовым доверием к миру объектов. Хочется также узнать, что происходит внутри мучающегося младенца с норэпинефрином, дофамином, серотонином, со всеми нейротрансмиттерами и системой рецепторов. Эффективность трициклических препаратов и флуоксетина при панических приступах, равно как и при депрессии, предполагает значимость таких моментов психофизиологического крушения для возникновения уязвимости к панике и депрессии. Затем мы проходим полный круг для использования аддиктивных веществ, таких как протезол, для замены недостающих внутренних психологических функций.
Приводя данный пример, я не утверждаю, что это специфическая причина аддиктивной уязвимости, а скорее использую его для иллюстрации одной особенности взаимодействия между младенцем и заботящейся фигурой, способное привести к серьезным трудностям в сфере аффективной регуляции, которые демонстрируют наши взрослые пациенты. Обсуждение этого вопроса имеет тенденцию постоянно возвращаться к возможным организующим эффектам ответного взгляда матери и к возможным дезорганизующим эффектам отсутствия этого взгляда.
Что можно увидеть в эпизоде с “каменным лицом”, взглянув на него через три призмы: аффективной регуляции, “я” и я-объект дифференциации и объектных отношений?
1. В этой ситуации очевидно нарушение регуляции аффективной сферы. Интересно отметить, как пренебрежение младенцем может привести к промежуточному шагу, который мы иногда наблюдаем, травматической гиперстимуляции, ведущей к отстранению и последующим состояниям пустоты и мертвенности. Хотя каждая из наших теорий постулирует свою собственную систему причин нарушения аффективной регуляции, долгие годы исследований и изучения регуляторных функций Эго в рамках структурной теории дали более детальное понимание самой дисрегуляции, чем все другие точки зрения.
2. Посмотрим теперь на проблему с точки зрения развития “я” и я-объект дифференциации. В плане развития привлекает внимание недостаточная чуткость родителей, преждевременное и неуместное в данной фазе развития травматическое прерывание того, что доктор Кристал назвал “иллюзией симбиоза” и что Малер и другие постулировали как ключевой этап развития. Эго-психолог должен обратить внимание на неспособность заботящейся фигуры обеспечить модель регуляторных функций, которые младенец мог бы интернализовать посредством идентификации. Я-психолог увидит здесь несостоятельность функции отзеркаливания я-объекта, препятствующую преобразующей интернализации. Последователи Винникотта увидели бы в подобном взаимодействии неуспех развивающего (facilitating) материнского окружения, в ответ на который, скорее всего, сформируется ложное “я”, изолированное от внутренних чувств, появление которых будет угрожать повторением потенциально травматического перевозбуждения. Для Балинта (1968) здесь была бы представлена первая трещина, которая разовьется в “базовый разлом” (basic fault). Каждая из ныне доступных нам систем психоаналитической концептуализации может иначе, чем другие, охарактеризовать такой эпизод и каждая будет по-своему обращаться с ним и его последствиями для формирования структуры “я” и чувства “я”. И каждая система детально освещает свой особенный, важный и клинически полезный нюанс опыта; именно поэтому так ценен для нас полимодальный подход.
3. Рассмотрим наш пример с точки зрения объектных отношений. Не столь очевидные при непосредственном наблюдении за младенцами, но предсказуемые в своем дальнейшем развертывании, это будут без конца повторяющиеся, обычно саморазрушительные усилия индивида, направленные либо на повторение такого младенческого травматического состояния, либо на поиск противоядия от него. Пациентка доктора Орнштейн находилась в тисках попыток вновь пережить раннее кризисное состояние недостаточной стимуляции и пренебрежения и в то же время научиться им управлять, ища для этого страстные привязанности как дающее энергию противоядие от ее внутренней мертвенности. Можно легко представить младенца, постоянно сталкивающегося с эквивалентом “каменного лица”, нуждающегося, как пациентка доктора Орнштейн, в том, чтобы вызвать любой ценой выражение интенсивного участия и страстные взгляды, которые миссис Холланд получала от соблазненных ею мужчин. По словам доктора Орнштейн, мужчина должен был быть “полностью сосредоточен на ней”. Для нас также не было удивительным, что восхищенный взгляд мужчин в достаточной степени не компенсировал столь массивный, заложенный в период младенчества дефицит, что рано или поздно его интенсивность на мгновение исчезала и травматическая нехватка ответного взгляда угрожала повториться. Не удивительно для нас и то, что мужчина снова и снова начинал становиться ненавидящим и пугающим “каменным лицом”, требующим разрушать его значимость с помощью деидеализации и нахождения недостатков, и что она затем нуждалась в движении к следующей победе и следующему восхищенному взгляду. Подобным образом можно понять и Алекса, пациента доктора Майерса, который искал восторженные взгляды в своих преходящих гомосексуальных партнерах. В обоих примерах другие люди были втянуты в ситуацию как персонажи в повторяющейся психологической драме, чьей задачей было замещать недостающую внутреннюю структуру.
Описанный мною вариант можно наблюдать у родителей, которые обеспечивают некоторую “ответность” и подстройку, необходимую ребенку, но которым поначалу требуется, чтобы ребенок их активировал, вытянув из той или иной формы депрессии или нарциссической озабоченности. Терапевт, работая с таким пациентом, будет объектом лести или идеализации со стороны этого пациента, который усвоил, что только с помощью такого поведения он имеет некоторую надежду получить что-то из того, чего ему не хватает изнутри. Это своего рода выстраданная теория человеческого взаимодействия, с которой они растут; и она образует одну из форм созависимости, на которой так часто делают ударение многие подходы самопомощи*.
Я попытался отсортировать некоторые общие темы шести докладов, проиллюстрировать их клиническими примерами и сгруппировать их так, чтобы облегчить понимание. Я также представил простые иллюстративные примеры из данных по наблюдению за младенцами, которые могут служить парадигмой для обсуждения тех видов младенческих травм, которые, как полагают многие из нас, являются предпосылками аддиктивного поведения.
Литература
Abend, S., Porder, M., & Willick, M. (1983), Borderline Patients: Psychoanalytic Perspectives. New York: International Universities Press.
Abraham, K. (1908), The psychological relation between sexuality and alcoholism. In: Selected Papers of Karl Abraham. New York: Basic Books, 1960.
____ (1916), The first pregenital stage of the libido. In: Selected Papers on Psychoanalysis, Vol. 1. New York: Basic Books, 1954.
____ (1924), The influence of oral eroticism on character formation. In: Selected Papers on Psychoanalysis, Vol. 1. New York: Basic Books, 1954.
Adler, G., &: Buie, D. (1979), Aloneness and borderline psychopathology: The possible relevance of child developmental issues. Internal. J. Psycho-Anal., 60:83—86.
Alcoholics Anonymous World Services (1952), Twelve Steps and Twelve Traditions. New York: Alcoholics Anonymous World Services.
____ (1975), Living Sober. New York: Alcoholics Anonymous World Services.
____ (1976), Alcoholics Anonymous, 3rd ed. New York: Alcoholics Anonymous World Services.
American Psychiatric Association (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. (DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Press.
Archibald, W. C., Long, D. M., Miller, C., & Tuddenham, R. D. (1962), Gross stress reaction to combat: Fifteen year follow-up. Amer. J. Psychiatry, 119:317—322.
____ & Tuddenham, R. D. (1965), Persistent stress reaction after combat. Arch. Gen. Psychiatry, 12:475—481.
Arvanitakis, K. (1985), The third Soter who ordaineth all. Internal. Rev. Psychoanal., 12:431—440.
Balint, M. (1968), The Basic Fault: Therapeutic Aspects of Regression. London: Tavistock.
Blatt, S. J., Berman, W., Bloom-Feshback, S., Sugarman, A., Wilber, C., &: Kleber, H. (1984), Psychological assessment of psychopathology in opiate addicts. J. New. Ment. Dis., 172:156—165.
Blumenthal, S. (1988), A guide to risk factors, assessment and treatment of suicidal patients, Med. Clin. N. Amer., 72:937—971.
Bowlby, J. (1961), Processes of mourning. Internal. J. Psycho-Anal., 42:317—340.
____ (1969), Attachment and Loss, Vol. 1. New York: Basic Books.
____ (1977), The making and breaking of affectional bonds. Brit. J. Psychiatry, 130:201—210.
____ (1980), Information processing approach to defense. In: Attachment and Loss, Vol. 2. New York: Basic Books, pp. 44—74. Brazelton, T. B., &: Cramer, B. G. (1990), The Earliest Relationship. Reading, MA: Addison Wesley Publishing.
____ Tronick, E. (1978), The infant’s response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction. J. Amer. Acad. Child Psychiatry, 17:1—13.
Breasch, L. D. (1990), Book review of “Integration and Self-Healing”. Psychoanal. Quart., 49:157—159.
Brenner, C. (1982), The Mind in Conflict. New York: International Universities Press.
Brill, A. H. (1922), Tobacco and the individual. Internal. J. Psycho-Anal., 3:430—444.
Brill, N. Q., & Beebe, G. W. (1955), A Follow-Up Study of War Neuroses. Veterans Administration Medical Monograph. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
Brown, S. (1985), Treating the Alcoholic: A Developmental Model of Recovery. New York: John Wiley.
Calef, V., & Weinshel, E. M. (1984), Anxiety and the restitutional function of homosexual cruising. Internal. J. Psycho-Anal., 65:45—53.
Campbell, J. (1989), The Hero with a Thousand Faces. Los Angeles, CA: Audio Renaissance Tapes.
Cohen, J. (1980), Structural consequences of psychic trauma: A new look at beyond the pleasure principle. Internal. J. Psycho-Anal., 61:421—454.
____ (1987), Trauma and repression. Psychoanal. Inqu., 5:163—189.
____ Kinston, W. (1984), Repression theory: A new look at the cornerstone. Internal. J. Psycho-Anal., 65:411—422.
de M’Uzan, M. (1974a), Analytical process and the notion of the past. Intern. Rev. Psycho-Anal., 1:461—480.
____ (1974b), Psychodynamic mechanisms in psycho-somatic symptom formation. Psychother. Psychosom., 23:103—110.
Deri, S. K. (1984), Symbolization and Creativity. New York: International Universities Press.
Desmers-Derosiers, L. A. (1982), Influence of alexithymia on symbolic function. Psychother. & Psychosom., 38:103—120.
Dodes, L. M. (1984), Abstinence from alcohol in long-term individual psychotherapy with alcoholics. Amer. J. Psychother., 38:248—256.
____ (1988), The psychology of combining dynamic psychotherapy and Alcoholics Anonymous. Bull. Menninger Clinic, 52:283—293.
____ (1990), Addiction, helplessness, and narcissistic rage. Psychoanal. Quart., 59:398—419.
____ (1991), Psychotherapy is useful, often essential, for alcoholics. Psychodynamic Letter, 1(2):4—7.
____ Khantzian, E.J. (1991), Individual psychodynamic psychotherapy. In: Clinical Textbook of Addictive Disorders, ed. R. J. Frances & S. I. Miller. New York: Guilford Press.
Dorpat, T. L. (1985), Denial and Defense in Therapeutic Situations. Northvale, NJ: Jason Aronson.
Dorsey, J. M. (197la), Psychology of Emotion: Self Discipline by Conscious Emotional Continence. Detroit, MI: Wayne State University Press.
____ (1971b), Psychology of Language: A Local Habitation and a Name. Detroit, MI: Wayne State University Press.
Dorus, W., & Senay, E. (1980), Depression, demographic dimension and drug abuse. Amer. J. Psychiatry, 137:699—704.
Dowling, S. (1977), Seven infants with esophageal atresia: A developmental study. The Psychoanalytic Study of the Child, 32:215—256. New Haven, CT: Yale University Press.
____ (1986), Discussion of the various contributions. In: The Reconstruction of Trauma, ed. A. Rothstein. Madison, CT: International Universities Press, pp. 205—217.
Duffy, E. (1951), The concept of energy mobilization. Psychol. Rev., 58:30—40.
____ (1957), The psychological significance of the concept of “arousal” or “activation.” Psycholog. Rev., 64:265—275.
____ (1972), Activation. In: Handbook of Psychophysiology, ed. M. S. Greenfield & R. A. Steinback. New York: Holt, Rein-hart &: Winston.
____ Freeman, G. L. (1933), The facilitative and inhibitory effects of muscular tension on performance. Amer. J. Psychol., 45:17—52.
____ (1948), The Energetics of Behavior. Ithaca, NY: Cornell University Press.
____ Malmo, R. B. (1959), Activation: A neurophysiological dimension. Psychol. Rev., 66:367—386.
____ Pribram, K. H. & McGuinnes, D. (1975), Arousal, activation, and effort in the control of attention. Psychol. Rev., 32:116—140.
Dukakis, K., with J. Scovell (1990), Now You Know. New York: Simon & Schuster.
Edgecumbe, R. (1983), On learning to talk to oneself. Bull. Brit. Psychoanal. Soc., 5:1—13.
Engel, G. L. (1962a), Anxiety and depression-withdrawal: The primary affects of unpleasure. Intemat. J. Psycho-Anal., 43:89—98.
____ (1962b), Psychological Development in Health and Disease. Philadelphia: Saunders.
____ (1963), Toward a classification of affects. In: Expression of Emotion in Man, ed. P. H. Knapp. New York: International Universities Press, pp. 262—293.
____ (1967), Ego development following severe trauma in infancy. Bull. Assn. Psychoanal. Med., 6:57—61.
____ Reichsman, F. (1956), Spontaneous and experimentally induced depression in an infant with gastric fistula. J. Amer. Psychoanal. Assn., 4:428—453.
____ Schmale, A. (1967), The giving-up given-up complex illustrated on film. Arch. Gen. Psychiatry, 17:135—145.
Fairbairn, W. R. D. (1954), An Object Relations Theory of the Personality. New York: Basic Books.
Fenichel, 0. (1931), Outline of clinical psychoanalysis. Psychoanal. Quart. 2:583—591, 1933.
____ (1945), The Psychoanalytic Theory of the Neuroses. New York: W.-W. Norton.
Fingarette, H. (1988), Heavy Drinking: The Myth of Alcoholism as a Disease. Berkeley, CA: University of California Press.
Freeman, G. L. (1948), The Energetics of Behavior. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Freud, A. (1965), Normality and pathology in childhood: Assessments of development. The Writings, Vol. 6. New York: International Universities Press.
Freud, S. (1893—1895), Studies on Hysteria. Standard Edition, 2:1—240. London: Hogarth Press, 1955.
____ (1905), Three essays on the theory of sexuality. Standard Edition, 7:125—243. London: Hogarth Press, 1955.
____ (1911), Psycho-analytic notes on an autobiographical account of a case of paranoia. Standard Edition, 12:9—82. London: Hogarth Press, 1958.
____ (1914), On narcissism. Standard Edition, 14:67—102. London: Hogarth Press, 1957.
____ (1916), Some character types met with in psychoanalytic work. Standard Edition, 14:309—333. London: Hogarth
Press, 1957.
____ (1920), Beyond the pleasure principle. Standard Edition, 18:3—64. London: Hogarth Press, 1955.
____ (1924), Neurosis and psychosis. Standard Edition, 19:149—156. London: Hogarth Press, 1961.
____ (1926), Inhibitions, symptoms, and anxiety. Standard Edition, 20:77—175. London: Hogarth Press, 1959.
Frosch, W. (1970), Panel: Psychoanalytic evaluation of addiction and habituation. J. Amer. Psychoanal. Assn., 18:209—218.
Gadini, R. (1975), The concept of the transitional object. J. Amer. Acad. Child Psychiatry, 14:731—736.
____ (1987), Early care and the roots of internalization. Intern. Rev. Psycho-Anal., 14:321—333.
Gawin, F. H., & Kleber, H. D. (1984), Cocaine abuse treatment. Arch. Gen. Psychiatry, 41:903—908.
____ (1986), Pharmacological treatment of cocaine abuse. Psychiatric Clin. N. Amer., 9:573—583.
Gay, P. (1988), Freud: A Life far Our Time. New York: W. W. Norton.
Gedo, J. (1979), Beyond Interpretation. New York: International Universities Press.
____ (1986), Conceptual Issues in Psychoanalysis: Essays in History and Method. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
Glover, E. (1931), The prevention and treatment of drug addiction. Brit. J. Inebriety, 29:13—18.
____ (1932), On the etiology of drug addiction. In: On the Early Development of Mind. New York: International Universities Press, 1956.
____ (1949), Psycho-Analysis. New York: Staples Press.
Goodman, E. (1990), The missing picture of Kitty Dukakis. Boston Globe, September 16, p. A25.
Gottschalk, L. A. (1978), Content analysis of speech in psychiatric research. Comprehen. Psychiatry, 19:387—392.
Gray, P. (1973), Psychoanalytic technique and the ego’s capacity for viewing interpsychic activity. J. Amer. Psychoanal. Assn., 21:474—494.
____ (1986), On helping analysands observe intra-psychic activity. In: Psychoanalysis: The Science of Mental Conflict. Essays in Honor of Charles Brenner, ed. A. Richards &: M. Willick. Hills-dale, NJ: Analytic Press.
____ (1987), On the technique of analysis of the superego—An introduction. Psychoanal. Quart., 56:130—154.
____ (1990), The nature of therapeutic action in psychoanalysis. J. Amer. Psychoanal. Assn., 38:1083—1097.
____ (1991), On transferred permissive or approving superego functions: Analysis of the ego’s superego activities. Part II. Psychoanal. Quart., 60:1—21.
Greenspan, S. I. (1981), Psychopathology and Adaptation in Infancy and Early Childhood. New York: International Universities Press.
____ (1987), Early care and the roots of internalization. Internal. Rev. Psychoanal., 14:321—333.
Grunbaum, A. (1984), The Foundations of Psychoanalysis. Berkeley, CA: University of California Press.
Hadley, J. (1983), The representational system: A bridging concept for psychoanalysis and trauma physiology. Internal. Rev. Psychoanal., 10:13—30.
____ (1985), Attention, affect, and attachment. Psychoanal. & Contemp. Thought, 8:529—550.
Hering, A. M. (1987), Alexithymia: A Developmental View Using a Differentiation Model of Affect Maturity. Unpublished doctoral dissertation, University of Michigan.
Hesselbrock, M. N., Meyer, R. E., & Keener, J.J.(1985), Psychopathology in hospitalized alcoholics. Arch. Gen. Psychiatry, 42:1050—1055.
Hofer, M. A. (1978), Hidden regulatory processes in early social relationship. In: Perspectives in Ethology, Vol. 3, ed. P. G. Bate-son & P. H. Klopfer. New York: Plenum Press.
____ (1981a), Toward a developmental basis for disease predisposition: The effect of early maternal separation on brain, behavior, and cardiovascular system. In: Brain, Behavior, and Bodily Disease, ed. H. Wemer, M. A. Holdes, & A.J. Stunkard. New York: Raven Press.
____ (1981b), The Roots of Human Behavior. San Francisco: W. H. Freeman.
____ (1982), Some thoughts on “the transduction of experience” from a developmental perspective. Psychosom. Med., 44:19—28.
____ (1983), On the relationship between attachment and separation processes in infancy. In: Emotion: Theory, Research and Experience: Emotions in Early Development, Vol. 2, ed. R. Pluchik. New York: Academic Press.
____ (1990), Early symbiotic processes: Hard evidence from a soft place. In: Pleasure Beyond The Pleasure Principle, ed. R. A. Glick & S. Bone. New Haven, CT: Yale University Press, pp. 55—78.
____ Weiner, H. (1971), The development and mechanism of cardio-respiratory responses to maternal deprivation in rat pups. Psychosom. Med., 33:353—363.
Hoppe, K. D. (1977), Split brain and psychoanalysis. Psychoanal, Quart., 46:220—244.
____ (1978), Split brain—Psychoanalytic findings and hypotheses. J. Amer. Acad. Psychoanal., 6:193—213.
____ (1984), Severed ties. In: Psychoanalytic Reflections on the Holocaust: Selected Essays, ed. S. A. Luel & P. Markus. New York: Ktav Publishing House, pp. 113—133.
Horton, P. L., &: Sharp, S. L. (1981), Solace: The Missing Dimension in Psychiatry. Chicago: University of Chicago Press.
____ (1984), Language, solace, and transitional relatedness. The Psychoanalytic Study of the Child, 39:167—194. New Haven, CT: Yale University Press.
____ Gewirtz, H. E., &: Kreutter, K. L., eds. (1988), The Solace Paradigm. Madison, CT: International Universities Press.
Jacobson, E. (1964), The Self and the Object World. New York: International Universities Press.
____ (1971), Depression: Comparative Studies a/Normal, Neurotic and Psychotic Conditions. New York: International Universities Press.
Jacobson, J. G. (1993), Developmental observation, multiple models of the mind, and the therapeutic relationship in psychoanalysis. Psychoanal. Quart., 62:523—552.
Joffe, W.G. (1969), A critical review of the status of the envy concept. Internal. J. Psycho-Anal; 50:533—545.
Jones, E. (1953), The Life and Work of Sigmund Freud, Vol. 1. New York: Basic Books.
____ (1955), The Life and Work of Sigmund Freud, Vol. 2. New York: Basic Books.
Jones, J. M. (1982), Affects: A nonsymbolic information processing system. Paper presented at the American Psychoanalytic Association as a precirculated paper, December.
Kernberg, 0. (1975), Borderline Conditions and Pathological Narcissism. New York: Jason Aronson.
____ (1976), Object-Relations Theory and Clinical Psychoanalysis. New York: Jason Aronson.
____ (1984), Severe Personality Disorders. New Haven, CT: Yale University Press.
Khantzian, E. J. (1972), A preliminary dynamic formulation of the psychopharmacologic action of methadone. Proceedings of the Fourth National Methadone Conference, San Francisco.
____ (1974), Opiate addiction: A critique of theory and some implications for treatment. Amer. J. Psychotherapy, 28:59—70.
____ (1975), Self selection and progression in drug dependence. Psychiatry Digest, 10:
19—22.
____ (1978), The ego, the self and opiate addiction: Theoretical and treatment considerations. Internal. Rev. Psychoanal., 5:189—198.
____ (1985a), The self-medication hypothesis of addictive disorders. Amer. J. Psychiatry, 142:1259—1264.
____ (1985b), Psychotherapeutic intervention with substance abusers—The clinical context. J. Substance Abuse Treatment, 2:83—88.
____ (1986), A contemporary psychodynamic approach to drug abuse treatment. Amer. J. Drug Alcohol Abuse, 12(3):213—222.
____ (1987), Substance dependence, repetition and the nature of addictive suffering. Typescript.
____ (1988), The primary care therapist and patient needs in substance abuse treatment. Amer. J. Drug Alcohol Abuse, 14(2):159—167.
____ (1989), Substance dependence, repetition and the nature of addictive suffering. Typescript.
____ (1990), Self-regulation and self-medication factors in alcoholism and the addictions. In: Recent Developments in Alcoholism, Vol. 8, ed. M. Galanter. New York: Plenum, pp. 225—271.
____ (1991), Self-regulation factors in cocaine dependence—a clinical perspective. In: The Epidemiology of Cocaine Use and Abuse, ed. S. Schober & C. Schade. Research Monograph #110. Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse, pp. 211—226.
____ Halliday, K. S., & McAuliffe, W. E. (1990), Addiction and the Vulnerable Self: Modified Dynamic Group Therapy for Substance Abusers (MDGT). New York: Guilford Press.
____ Mack, J. E.(1983), Self-preservation and the care of the self-ego instincts reconsidered. The Psychoanalytic Study of the Child, 38:209—232. New Haven, CT: Yale University Press.
____ (1989), Alcoholics Anonymous and contemporary psychodynamic theory. In: Recent Developments in Alcoholism, Vol. 7, ed. M. Galanter. New York: Plenum, pp. 67—89.
____ (1994), How AA works and why clinicians should understand. J. Substance Abuse Treatment, 11:77—92.
____ Treece, C. (1985), DSM-III psychiatric diagnosis of narcotic addicts: Recent findings. Arch. Gen. Psychiatry, 42:1067—1071.
____ Wilson, A. (1993), Substance abuse, repetition, and the nature of addictive suffering. In: Hierarchical Conceptions in Psychoanalysis, ed. A. Wilson & J. E. Gedo. New York: Guilford Press.
Kinston, W., & Cohen, J. (1986), Primal repression: Clinical and theoretical aspects of the mind: The realm of psychic states. Intemat. J. Psycho-Anal., 67:337—355.
____ (1987), Primal repression and other states of the mind: The realm of psychostatics. Paper presented to the German Psychoanalytic Association.
Kleber, H. D., &: Gold, M. S. (1978), Use of psychotherapeutic drugs in the treatment of methadone maintained narcotic addicts./. Amer. Acad. Sci., 331:81—98.
Klein, M. (1946), Notes on some schizoid mechanisms. Intemat. J. Psycho-Anal., 27:99—110.
____ (1968), Contributions to Psychoanalysis 1921—1945. London: Hogarth Press.
Knight, R. (1937), The dynamics and treatment of chronic alcoholic addiction. Bull. Menninger Clinic, 1:233—250.
Kohut, H. (1968), The psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders. The Psychoanalytic Study of the Child, 23:86—113. New York: International Universities Press.
____ (1971), The Analysis of the Self. New York: International Universities Press.
____ (1972), Thoughts on narcissism and narcissistic rage. The Psychoanalytic Study of the Child, 27:360—400. Chicago: Quadrangle.
____ (1977), The Restoration of the Self. New York: International Universities Press.
____ (1984), How Does Analysis Cure? Chicago, IL: University of Chicago Press.
____ Wolf, E. S. (1978), The disorders of the self and their treatment: An outline. Internal. J. Psycho-Anal; 59:413—425.
Kris, A. 0. (1990), Helping patients by analyzing self-criticism. J. Amer. Psychoanal. Assn., 38:605—636.
Krystal, H. (1959), The physiological basis of the treatment of delirium tremens. Amer. J. Psychiatry, 116:137—147.
____ (1961), The management of alcoholism in medical practice. Mich. State Med. Soc., 60:73—78.
____ (1962), The opiate withdrawal syndrome as a state of stress. Psychoanal. Quart., (Suppl.) 36:53—65.
____ (1963), Social forces and the management of alcoholic patients. Mich. State Med. Soc., 62:500—505.
____ (1964), Therapeutic assistants in psychotherapy with regressed patients. In: Current Psychiatric Therapies, ed. J. Masserman. New York: Grune & Stratton, pp. 230—232.
____ (1966), Withdrawal from drugs. Psychosomatics, 7:199—302.
____ (1968), Studies of concentration camp survivors. In: Massive Psychic Trauma, ed. H. Krystal. New York: International Universities Press, pp. 256—276.
____ (1970), Trauma and the stimulus barrier. Paper presented to meeting of American Psychoanalytic Association, New York.
____ (1971), Trauma: Consideration of its intensity and chronicity. In; Psychic Traumatization, ed. H. Krystal &: W. G. Nied-eriand. Boston: Little, Brown, pp. 11—28.
____ (1974), The genetic development of affects and affect regression. The Annual of Psychoanalysis, 2:98—126. New York: International Universities Press.
____ (1977a), Aspects of affect theory. Bull. Menninger Clinic, 41:1—26.
____ (1977b), Self-representation and the capacity for self-care. The Annual of Psychoanalysis, 6:209—246. new York: International Universities Press.
____ (1977c), Self and object-representation in alcoholism and other drug dependence: Implications of therapy. In: Psychoanalytic Memos of Drug Dependence, ed. J. D. Blaine & D. A. Julius. NIDA Research Management 12. Washington, DC: Department of Health, Education and Welfare/U.S. Public Health Service, pp. 98—100.
____ (1978a), Trauma and affect. The Psychoanalytic Study of the Child, 33:81—116. New Haven, CT: Yale University Press.
____ (1978b), Catastrophic psychic trauma and psychogenic death. In: Psychiatric Problems in Medical Practice, ed. G. U. Balis, L. Wurmser, E. McDaniel, &: R. G. Grenell. Boston: Butterworth, pp. 79—97.
____ (1978c), Self representation and the capacity for self care. The Annual of Psychoanalysis, 6:209—246. New York: International Universities Press.
____ (1979), Alexithymia and psychotherapy. Amer. J. Psychother., 33:17—31.
____ (1981), The hedonic element in affectivity. The Annual of Psychoanalysis, 9:93—115. New York: International Universities Press.
____ (1982a), The activating aspect of emotions. Psychoanal. & Contemp. Thought, 5 (4):605—642.
____ (1982b), Adolescence and the tendencies to develop substance dependence. Psychoanal. Inqu., 2:581—617.
____ (1982—1983), Alexithymia and the effectiveness of psychoanalytic treatment. Internal. J. Psychoanalytic Psychother., 9:353—388.
____ (1985), Trauma and the stimulus barrier. Psychoanal. Inqu., 5:131—161.
____ (1987), The impact of massive trauma and the capacity to grieve effectively: Later life sequelae. In: Treating the Elderly with Psychotherapy, ed. J. Sadavoy & M. Leszcz. New York: International Universities Press, pp. 67—94.
____ (1988a), Integration and Self-Healing: Affect, Trauma, Alexithymia. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
____ (1988b), Book review of A. Rothstein (ed.), The Reconstruction of Trauma, Its Significance in Clinical Work. J. Nerv. & Ment. Dis., 176:641—642.
____ (1988c), On some roots of creativity. In: Hemispheric Specialization, ed. K. Hoppe. Philadelphia: Saunders, pp. 475—492.
____ Niederland, W. G. (1968), Clinical observations of the survivor syndrome. In: Massive Psychic Trauma, ed. H. Krystal. New York: International Universities Press, pp. 327—348.
____ eds. (1971), Psychic Traumatization. Boston: Litde, Brown.
____ Raskin, H. (1963), Addiction and pain. Mimeographed.
____ (1970), Drug Dependence, Aspects of Ego Functions. Detroit: Wayne State University Press.
____ (1981), Drug dependence: Aspects of ego functions. In: Classic Contributions in the Addictions, ed. H. Shaffer & M. Burglass. New York: Brunner/Mazel, pp. 161—172.
Krystal, J. H. (1988), Assessing alexithymia. In: Integration and Self-Healing, ed. H. Krystal. Hillsdale, NJ: Analytic Press, pp. 286—310.
Kubie, L. S. (1937), The fantasy of dirt Psychoanal. Quart., 6:338—425.
____ (1947), The fallacious use of quantitative concepts in dynamic psychology. Psychoanal. Quart., 16:507—518.
____ (1954), The fundamental nature of the distinction between normality and neurosis. Psychoanal. Quart., 23: 167—204.
____ (1978), Symbol and Neurosis. Selected Papers of Lawrence S. Kubie, ed. H. J. Schlesinger. Psychological Issues, Monograph 44. New York: International Universities Press.
Lacey, J. I. (1967), Somatic response patterning and stress: Some revisions of activation theory. In: Psychological Stress: Issues in Research, ed. M. H. Appley & R. Trumbull. New York: Apple-ton-Century-Crofts, pp. 14—42.
Lagerkvist, P. (1966), Pilgrimen. Stockholm: Bonniers.
Levy, L. (1925), The psychology of the effect produced by morphia. Internal. J. Psycho-Anal; 6:313—316.
Lichtenberg, J. D.(1983), Psychoanalysis and Infant Research. Hills-dale, NJ: Analytic Press.
Lifton, R. J. (1968), Observations on Hiroshima survivors. In: Massive Psychic Trauma. H. Krystal. New York: International Universities Press.
____ (1976), The Life of the Self. New York: Simon & Schuster.
____ (1979), The Broken Connection. New York: Simon & Schuster.
Loewald, H. (1960), On the therapeutic action of psychoanalysis. Internal. J. Psycho-Anal., 41:16—33.
Luborsky, L., Woody, G. E., Hole, A., & Velleco, A. (1977), A Treatment Manual for Supportive-Expressive Psychoanalytically Oriented Psychotherapy: Special Adaptation for Treatment of Drug Dependence. (Unpublished manual, 4th ed., 1981).
Mack, J. E. (1981), Alcoholism, A.A. and the governance of the self. In: Dynamic Approaches to the Understanding and Treatment of Alcoholism, ed. M. H. Bean &: N. E. Zinberg. New York: Free Press, pp. 128—162.
MacLean, P. D. (1949), Psychosomatic disease and the “visceral brain”. Psychosom. Med., 11:338—353.
Mahler, M. S. (1958), Autism and symbiosis: two extreme disturbances of identity. Internal. J. Psycho-Anal. 39:77—83.
____ Pine, F., & Bergman, A. (1975), The Psychological Birth of the Human Infant. New York: Basic Books.
Marty, P., & De M’Uzan, M. (1963), La pensee operatoire. Rev. Psychoanalytique (Suppl.) 27:345—356.
____ David, C. (1963), L’investigation Psychosomatique. Paris: Presses Universitaires Paris.
McDougall. J. (1974), The psychosoma and psychoanalytic process. Internal. Rev. Psychoanal., 1:437—454.
____ (1984), The “dis-affected” patient: Reflections on affect pathology. Psychoanal. Quart., 53:386—409.
Meers, D. R. (1970), Contributions of a ghetto culture to symptom formation. The Psychoanalytic Study of the Child, 25:209—230. New York: International Universities Press.
____ (1972), Crucible of ambivalence: Sexual identity in the ghetto. The Psychoanalytic Study of Society, 5:109—135. New York: International Universities Press.
____ (1973a), Psychiatric ombudsmen for day care. In: Head-start, Child Development Legislation, Joint Hearings (March 17, 1972) before the Subcommittee on Children and Youth and the Subcommittee on Employment, Manpower and Poverty of the Committee on Labor and Public Welfare, United States Senate, Ninety Second Congress, 1973.
____ (1973b), Psychoanalytic research and intellectual functioning of ghetto-reared, black children. The Psychoanalytic Study of the Child, 28:395—417. New Haven, CT: Yale University Press.
____ (1974), Traumatic and cultural distortions of psychoneurotic symptoms in a black ghetto. The Annual of Psychoanalysis, 2:368—386. New York: International Universities Press.
Menninger, K. A. (1938), Man Against Himself. New York: Harcourt, Brace.
Milkman, H., &: Frosch, W. A. (1973), On the preferential abuse of heroin and amphetamine.J. Nerv. Ment. Dis., 156:242—248.
Minkowski, E. (1946), L’anesthesie affective. Ann. Medicopsycholog-ique, 104:8—13.
Mirin, S. M., Weiss, R. D., Solloqub, A., & Jaqueline, M. (1984), Affective illness in substance abuse. In: Substance Abuse and Psychopathology, ed. S. M. Mirin. Washington, DC: American Psychological Press Clinical Insights, pp. 57—78.
Modell, A. H. (1984), Psychoanalysis in a New Context. New York: International Universities Press.
Myers, W. A. (1990), A case of photoexhibitionism in a homosexual male. In: The Psychotherapeutic Treatment of the Homosexualities, ed. V. Volkan & C. Socarides. Madison, CT: International Universities Press.
Nagera, H., Baker, S., Edgcumbe, R., Holder, A., Laufer, M., Meers, D., & Rees, K. (1970), Basic Psychoanalytic Concepts of the Theory of Instincts. London: George Alien & Unwin.
Nemiah, J. C. (1970), The psychological management and treatment of patients with peptic ulcer. Adv. Psychosom. Med.,6:169—173.
____ (1975), Denial revisited: Reflections on psychosomatic theory. Psychother. & Psychosom., 26:140—147.
____ (1977), Alexithymia: Theoretical considerations. Psychother. & Psychosom., 28:199—296.
____ (1978), Alexithymia and psychosomatic illness. J. Continuing Ed. Psychiat., October 18, pp. 25—37.
____ Sifneos, P. E. (1970a) Affect and fantasy in patients with psychosomatic disorders. In: Modem Trends in Psychosomatic Medicine, ed. 0. W. Hill. London: Butterworth.
____ (1970b), Psychosomatic illness: A problem in communication. Psychother. Psychosom., 18:154—160.
____ (1977), Affect and fantasy in psychosomatic disorders. In: Modem Trends in Psychosomatic Medicine, Vol. 2, ed. 0. W. Hill. London: Butterworth.
Niederland, W. G. (1961), The problem of the survivor./. Hillside Hosp., 10:233—247.
____ (1964), Psychiatric disorders among persecution victims: A contribution to the understanding of concentration camp pathology and its aftereffects. J. Nerv. Ment. Dis., 139:458—474.
NIH Consensus Statement (1991), Treatment of panic disorder. NIH Consensus Dev. Conf. Concens, Statement September 25—27, 1991; 9(2). Bethesda, MD: Office of Medical Applications of Research, NIH.
Nova (1986), Life’s First Feelings. Boston: WGBM.
Novick, K. K., & Novick, J. (1987), The essence of masochism. The Psychoanalytic Study of the Child, 42:353—384. New Haven, CT: Yale University Press.
____ (1991), Some comments on masochism and the delusion of omnipotence from a developmental perspective. J. Amer. Psychoanal. Assn., 39:307—332.
Overbeck, G. (1977), How to operationalize alexithymic phenomena: Some findings from speech analysis and the Giesen Test (GT). Psychother. &f Psychosom., 28:10&—117.
Person, S. E. (1988), Dreams of Love and Fateful Encounters. New York: W.W. Norton.
Pine, F. (1988), The four psychologies of psychoanalysis and their place in clinical work. J. Amer. Psychoanal. Assn., 36:571—596.
Rado, S. (1926), The psychic effect of intoxicants: An attempt to evolve a psychoanalytic theory of morbid craving. Internal. J. Psycho-Anal., 7:396—413.
____ (1933), The psychoanalysis of pharmacothymia. Psychoanal. Quart., 2:1—23.
____ (1964), Hedonic self-regulation of the organism. In: The Role of Pleasure in Behavior, ed. R. Heath. New York: Harper &: Row, pp. 257—264.
____ (1969), The emotions. In: Adaptational Psychodynamics: Motivation and Control. New York: Science House, pp. 21—30.
Rangell, L. (1963a), The scope of intrapsychic conflict: Microscopic and macroscopic considerations. The Psychoanalytic Study of the Child, 18:75—102. New York: International Universities Press.
____ (1963b), Structural problems in intrapsychic conflict. The Psychoanalytic Study of the Child, 18:103—138. New York: International Universities Press.
____ (1974), A psychoanalytic perspective leading currently to the syndrome of the compromise of integrity. Internal. J. Psycho-Anal., 55:3—12.
____ (1980), The Mind of Watergate. New York: W. W. Norton. Richter, C. P. (1957), On the phenomena of sudden death in animals and men. Psychosom. Med., 19:
191—198.
Robertson, J. (1952), Film: A Two-Year-Old goes to Hospital.
Rothstein, A., ed. (1986), The Reconstruction of Trauma. Workshop series of American Psychoanalytic Association, Vol. 2. New York: International Universities Press.
Rounsaville, B. J., Weissman, M. M., Crits-Cristoph, K-, Wilber, C., & Kleber, H.(1982a), Diagnosis and symptoms of depression in opiate addicts: Course and relationship to treatment outcome. Arch. Gen. Psychiatry, 39:151—156.
____ Kleber, H., & Wilber, C.(1982b), Heterogeneity of psychiatric diagnosis in treated opiate addicts. Arch. Gen. Psychiatry, 39:161—166.
Ruesch, J. (1948), The infantile personality: The case problem of psychosomatic medicine. Psychosom. Med., 10:134—142.
Savitt, R. (1963), Psychoanalytic studies on addiction: Ego structure in narcotic addiction. Psychoanal. Quart., 32:43—57.
Schafer, R. (1960), The loving and the beloved superego. The Psychoanalytic Study of the Child, 15:163—188. New York: International Universities Press.
Schiffer, F. (1988), Psychotherapy of nine successfully treated cocaine abusers: Techniques and dynamics. J. Subst. Abuse Treatment, 5:133—137.
Schmale, A. H., Jr. (1964), A genetic view of affects. The Psychoanalytic Study of the Child, 3/4:253—270. New York: International Universities Press.
Schur, M. (1953), The ego in anxiety. In: Drives, Affects, Behavior, ed. R. Lowenstein. New York: International Universities Press, pp. 67—104.
____ (1955), Comments on the metapsychology of somatization. The Psychoanalytic Study of the Child, 10:119—164. New York: International Universities Press.
____ (1972), Freud: Living and Dying. New York: International Universities Press.
Seligman, M. E. R. (1975), Helplessness. San Francisco: W. H. Freeman.
Shands, H. C. (1958), The infantile personality: The case problem of psychosomatic medicine. Psychosom. Med., 10:134—142.
____ (1971), The War with Words: Structure and Transcendence. The Hague: Mouton.
____ (1976), Suitability for psychotherapy I: Transference and formal operations. Paper presented at 10th Congress of the International College for Psychosomatic Medicine, Paris.
____ (1977), Suitability for psychotherapy II: Unsuitability and psychosomatic diseases. Psychother. & Psychosom., 28:28—35.
Shengold, L. (1989), Soul Murder. New Haven, CT: Yale University Press.
Sifneos, P. (1967), Clinical observations on some patients suffering from a variety of psychosomatic diseases. Acta Med. Psychosom. Proceedings.
____ (1967), Clinical observations on some patients suffering from a variety of psychosomatic diseases. In: Proceedings of the Seventh European Conference on Psychosomatic Research. Basel: S. Karger.
____ (1972), The prevalence of “alexithymic” characteristics in psychosomatic patients. In: Topics in Psychosomatic Research, ed. H. Freyberger. Basel: S. Karger.
____ (1972—1973), Is dynamic psychotherapy contraindicated for a large number of patients with psychosomatic diseases? Psychother. & Psychosom., 21:133—136.
____ (1973), The prevalence of “alexithymic” characteristics in psychosomatic patients. Psychother. & Psychosom., 22:255—262. (1974), A reconsideration of psychodynamic mechanisms in psychosomatic symptom formation in view of recent clinical observations. Psychother. & Psychosom., 14:151—155.
____ (1975), Problems of psychotherapy with patients with alexithymic characteristics and physical disease. Psychother. & Psychosom., 26:65—70.
Simmel, E. (1927), Psychoanalytic treatment in a sanatorium. Internal. J. Psycho-Anal., 10:70—89.
____ (1930), Morbid habits and cravings. Psychoanal. Rev., 17:48—54.
____ (1948), Alcoholism and addiction. Psychoanal. Quart., 12:6—31.
Socarides, C. (1978), Homosexuality. New York: Jason Aronson.
Southwick, S. H., &: Satel, S. L. (1990), Exploring the meaning of substance abuse: An important dimension of early work with borderline patients. Amer. J. Psychotherapy, 44:61—67.
Spitz, R. A. (1945), Hospitalism. The Psychoanalytic Study of the Child, 1:53—74. New York: International Universities Press.
____ (1946), Hospitalism: A follow-up report. The Psychoanalytic Study of the Child, 2:113—117. New York: International Universities Press.
Spotts, J. V., & Shontz, F, C. (1987), Drug induced ego states: A trajectory theory of drug experience. Soc. Pharmacol., 1:19—51.
Stern, D. N. (1974), Mother and infant at play: The diadic interaction involving facial, vocal and gaze behavior. In: The Effect of the Infant on Its Caregiver, ed. M. Lewis & L. Rosenblum. New York: Wiley.
____ (1983), Implications of infancy research for psychoanalytic theory and practice. In: Psychiatry Update II, ed. L. Greenspoon. Washington, DC: American Psychiatric Press, pp. 8—12.
____ (1985), The Interpersonal World of the Infant. A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. New York: Basic Books.
Stoller, R.J. (1975), Perversion. The Erotic Form of Hatred. New York: Pantheon Books.
____ (1985), Observing the Erotic Imagination. New Haven, CT: Yale University Press.
Stone, L. (1967), The psychoanalytic situation and transference: Postscript to an earlier communication. J. Amer. Psychoanal. Assn., 15:3—58.
Stowasser (Der kleine Stowasser) (1940), Lateinisch-deutsches Schulworterbuch, bearb. v. M. Petschenig. Berlin: Freitag.
Strachey, A., & Tyson, A. (1959), Editor’s introduction to inhibition, symptoms, and anxiety. Standard Edition, 20:77—86. London: Hogarth Press.
Taylor, G. J. (1977), Alexithymia and the countertransference. Psychother. & Psychosom., 28:141—147.
____ (1984), The boring patient. Can.J. Psychiatry, 29:217—222.
____ (1986), The psychodynamics of panic disorder. Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychiatric Association, Washington, DC, May, 1986.
____ (1989), Psychosomatic Medicine and Contemporary Psychological Analysis. Madison, CT: International Universities Press.
____ Doody, K. (1982), Psychopathology and verbal expression for psychosomatic and psychoneurotic patients. Psychother. & Psychosom., 38:121—127.
Taylor, G. T. (1984), Alexithymia: Concept, measurement, and implications for treatment. Amer. J. Psychiatry, 141:725—732.
Ten Houten, W. D., Hoppe, K. D., Bogen, J.E., & Walter, D. O. (1985a), I Alexithymia and the split brain. II Sentential-level content analysis. Psychother. & Psychosom., 44:1—5.
____ (1985b), Alexithymia the split brain III. Global level content analysis of fantasy and symboliza-don. Psychother. & Psychosom., 44:89—94.
____ (1985c), Alexithymia and the split brain IV. Gotschalk-gleser content analysis, an overview. Psychother. & Psychosom., 44:113—121.
Thompson, A. E. (1981), A Theory of Affect Development and Maturity. Applications to the Thematic Apperception Test. Unpublished doctoral dissertation, University of Michigan, Ann Arbor, MI.
Traube-Wemer, D. (1990), Affect deficit: a vicissitude of the phenomenon and experience of affect. Internal. J. Psycho-Anal., 71:141—150.
Tustin, F. (1980), Autistic objects. Internal. Rev. Psychoanal., 7:30—38.
____ (1981), Autistic States in Children. London: Routledge & Kegan Paul.
Ullman, R. B., & Brothers, D. (1988), The Shattered Self: A Psychoanalytic Study of Trauma. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
Vaillant, G. E. (1981), Dangers of psychotherapy in the treatment of alcoholism. In: Dynamic Approaches to the Understanding and Treatment of Alcoholism, ed. M. H. Bean & N. E. Zinberg. New York: Free Press.
Valenstein, A. F. (1962), The psychoanalytic situation: Affects, emotional reliving, and insight in the psychoanalytic process. Internal. J. Psycho-Anal., 43:315—324.
Van der Kolk, B. (1989), The compulsion to repeat the trauma. Treatment of Victims of Sexual Abuse, 12:389—411.
Von-Rad, M., ed. (1983), Alexithymie. Berlin: Springer.
Waelder, R. (1951), The structure of paranoid ideas. In: Psychoanalysis: Observation, Theory, Application, ed. S. A. Guttman. New York: International Universities Press, 1976.
Weiss, K.J., & Rosenberg, D.J.(1985), Prevalence of anxiety disorder among alcoholics. J. Clin. Psychiatry, 46:3—5.
Weiss, R. D., &: Mirin, S. M.(1984), Drug, host and environmental factors in the development of chronic cocaine abuse. In: Substance Abuse and Psychotherapy, ed. S. M. Mirin. Washington, DC: American Psychiatric Press.
____ (1986), Subtypes of cocaine abusers. Psychiatric Clinics N. Amer., 9:491—501.
____ Griffin, M. L., & Michaels, J. K. (1988), Psychopathology in cocaine abusers: Changing trends. J. New. Ment. Dis., 176(12):719—725.
Westerlundh, B., & Smith, G. (1983), Percept genesis and the psychodynamics of perception. Psychoanal. & Contemp. Thought, 6:597—640.
Wieder, H., & Kaplan, E. (1969), Drug use in adolescents. The Psychoanalytic Study of the Child, 24:399—431. New York: International Universities Press.
Willick, M. S. (1988), Dynamic aspects of homosexual cruising. In: Fantasy, Myth and Reality. Essays in Honor of Jacob A. Arlow, M.D., ed. H. Blum, Y. Kramer, A. K. Richards, & A. D. Richards. Madison, CT: International Universities Press, pp. 435—449.
Wilson, A., Passik, S. D., Faude, J., Abrams, J., & Gordon, E. (1989), A hierarchical model of opiate addiction: Failures of self-regulation as a central aspect of substance abuse. J. New. Ment. Dis., 177:390—399.
Winnicott, D.W. (1960), Ego distortion in terms of true and false self. In: The Maturational Processes and the Facilitating Environment. New York: International Universities Press, 1965.
____ (1965), The Maturational Processes and the Facilitating Environment. New York: International Universities Press.
____ (1971), Mirror-role of mother and family in child development. In: Playing and Reality. New York: Basic Books.
____ (1974), Through Paediatrics to Psychoanalysis. New York: Basic Books.
Woody, G. E., O’Brien, C. P., & Rickels, K. (1975), Depression and anxiety in heroin addicts: A placebo-controlled study of doxepin in combination with methadone. Amer. J. Psychiatry, 132:447—450.
____ McLellan, A. T., Luborsky, L., & O’Brien, C. P. (1986), Psychotherapy for substance abuse. Psychiatric Clin. N. Amer., 9:547—562.
Wurmser, L. (1974), Psychoanalytic considerations of the etiology of compulsive drug use. J. Amer. Psychoanal. Assn., 22:820—843.
____ (1978), The Hidden Dimension. Psychodynamics in Compulsive Drug Use. New York: Jason Aronson.
____ (1980), Phobic core in the addictions and the addictive process. Internal. J. Psychoanal. Psychother., 8:311—337.
____ (198 la), The Mask of Shame. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
____ (1981b), The question of specific psychopathology in compulsive drug use. Annals NY Acad. Sci., pp. 33—43, 1982.
____ (1984a), More respect for the neurotic process. J. Subst. Abuse Treatment, 1:
37—45.
____ (1984b), The role of superego conflicts in substance abuse and their treatment. Internal. J. Psychoanal. Psychother., 10:227—258.
____ (1987a), Shame: The veiled companion of narcissism. In: The Many Faces of Shame, ed. D. L. Nathanson. New York: Guilford Press, pp. 64—92.
____ (1987b), Flucht vor dem Gewissen. Analyse von Uber-Ich und Abwehr bei schweren Neurosen. Heidelberg: Springer.
____ (1987c), Flight from conscience: Experiences with the psychoanalytic treatment of compulsive drug abusers. J. Subst. Abuse Treatment, 4:157—179.
____ (1988a), Die zerbrochene Wirklichkeit. Psychoanalyse als das Studium von Konflikt und Komplementaritat. Heidelberg: Springer.
____ (1988b), “The Sleeping Giant”: A dissenting comment about “borderline pathology.” Psychoanal. Inqu., 8:373—397.
____ (1989), “Either-Or”: Some comments on Professor Grun-baum’s critique of psychoanalysis. Psychoanal. Inqu., 9:220—248.
____ (1990), Die Maske der Scham. Die Psychoanalyse von Schamaf-fekten und Schamkonflikten. Heidelberg: Springer.
____ (1993), Das Ratsel des Masochismus. Heidelberg: Springer.
____ Zients, A. (1982), The “return of the denied superego”—A psychoanalytic study of adolescent substance abuse. Psychoanal. Inqu., 2:539—580.
Zetzel, E. (1949), Anxiety and the capacity to bear it In: The Capacity for Emotional Growth. New York: International Universities Press, 1970, pp. 33—52.
____ (1955), The incapacity to bear depression. In: The Capacity for Emotional Growth. New York: International Universities Press, 1970, pp. 82—114.
Zinberg, N. E. (1975), Addiction and ego function, the Psychoanalytic Study of the Child, 20:567—588. New York: International Universities Press.
Об авторах
Леон Вёрмсер. Нью-йоркское Фрейдовское общество (подготовка и супервизия аналитиков); Университет Западной Виргинии (профессор психиатрии).
Джекоб Джекобсон. Денверский институт психоанализа (обучающий и супервизирующий аналитик); отделение психиатрии университета Колорадо (профессор психиатрии).
Лэнс М. Додс. Бостонское психоаналитическое общество, Бостонский психоаналитический институт (профессор психиатрии).
Генри Кристал. Мичиганский государственный университет (почетный профессор); Мичиганский психоаналитический институт (руководитель лекционного курса).
Уэйн А. Майерс. Корнеллский университетский медицинский центр (профессор психиатрии); Колумбийский университетский центр психоаналитических исследований и обучения (подготовка и супервизия аналитиков).
Дейл Р. Меерс. Институт психоанализа Балтимора (отделение психоанализа); Консультативно-лечебная служба Балтиморского отделения Колумбийского института психоанализа (экс-президент).
Анна Орнштейн. Университет Цинциннати (профессор детской психиатрии); Международный центр исследований психологии self (содиректор).
Эдит Сэбшин (умерла 23.03.1992 г.). Вашингтонский психоаналитический институт, округ Колумбия (подготовка и супервизия аналитиков); Джорджтаунский университет (руководитель лекционного курса).
Эдвард Дж. Ханзян. Американская академия психиатрического лечения алкоголизма и аддикций (президент); Гарвадский медицинский институт (профессор психиатрии); госпиталь Тьюксбери, Массачусетс (заведующий психиатрическим отделением); Кембриджский госпиталь, Массачусетс (главный психиатр отделения химических зависимостей).
Дэвид М. Херст. Американская психоаналитическая ассоциация (секретарь); Денверский психоаналитический институт (директор, обучающий и супервизирующий аналитик); медицинский факультет университета Колорадо (профессор психиатрии).
СОДЕРЖАНИЕ
Неистребимая аддикция к жизни. Предисловие А.Ф. Ускова........ 5
Введение...........................................................................................................
Часть I. Случаи из клинической практики.......................... 11
1. Эдит Сэбшин. Психоаналитические исследования
аддиктивного поведения: обзор.............................................................. 13
2. Эдвард Дж. Ханзян. Уязвимость сферы саморегуляции
у аддиктивных больных: возможные методы лечения...................... 28
3. Леон Вёрмсер. Компульсивность и конфликт: различие
между описанием и объяснением при лечении аддиктивного
поведения..................................................................................................... 55
4. Генри Кристал. Нарушение эмоционального развития
при аддиктивном поведении................................................................... 80
5. Анна Орнштейн. Эротическая страсть: еще одна форма
аддикции..................................................................................................... 119
6. Уэйн А. Майерс. Сексуальная аддикция........................................ 134
Часть П. Обсуждение........................................................................ 149
7. Лэнс М. Додс. Психическая беспомощность и психология
аддикции..................................................................................................... 151
8. Дейл Р. Меерс. Аддиктивное поведение глазами детского
аналитика................................................................................................... 165
9. Дэвид М. Херст. “Переходные” и “аутистические”
феномены при аддиктивном поведении............................................ 183
10. Джекоб Джекобсон. Преимущества полимодельного
подхода к пониманию аддиктивного поведения............................... 196
Литература................................................................................................ 213
Об авторах.................................................................................................. 227
ПСИХОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
Под редакцией Скотта Даулинга
Перевод с английского
Р.Р. Муртазина
Научный редактор
А.Ф. Усков
Редактор
М.О. Торчинская
Ответственная за выпуск
И.В. Тепикина
Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев
Главный редактор и издатель серии
Л.М. Кроль
Научный консультант серии
Е.Л. Михайлова
Изд. лиц. № 061747
Гигиенический сертификат
№ 77.99.6.953.П.169.1.99. от 19.01.1999 г.
Подписано в печать 12.04.2000 г.
Формат 60Ѕ88/16
Усл. печ. л. 15. Уч.-изд. л. 12,4
ISBN 0-8236-5562-8 (USA)
ISBN 5-86375-028-6 (РФ)
М.: Независимая фирма “Класс”, 2000.
103062, Москва, ул. Покровка, д. 31, под. 6.
www.igisp.ru E-mail: igisp@igisp.ru
www.kroll.igisp.ru
Купи книгу “У КРОЛЯ”
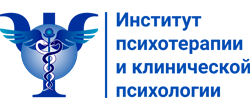

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству



 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
