Библиотека » Общий подход в психотерапии и коррекции » Уэлвуд Западный и восточный подход к психотерапии и терапевтическим отношениям
Автор книги: Уэлвуд
Книга: Уэлвуд Западный и восточный подход к психотерапии и терапевтическим отношениям
Уэлвуд - Уэлвуд Западный и восточный подход к психотерапии и терапевтическим отношениям читать книгу онлайн
ПРОБУЖДЕНИЕ СЕРДЦА
ЗАПАДНЫЙ И ВОСТОЧНЫЙ ПОДХОД КПСИХОТЕРАПИИ
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
Составитель и редактор Джон Уэлвуд
Перевел Н.В. фон Бок
Боулдер, 1983
Вводные замечания
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ И ДУХОВНОСТЬ
Вступление
Глава1.
Дж. Нидлмэн. ПСИХИАТРИЯ И СВЯЩЕННОЕ
Глава2.
Р. Скиннер. ПСИХОТЕРАПИЯ И ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Глава3.
Дж. Корнфилд и др. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ - НЕОСВОБОЖДЕНИЕ
Глава4.
Дж. Уэлвуд. О ПСИХОТЕРАПИИ И МЕДИТАЦИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАБОТА НАД СОБОЙ
Вступление
Глава5.
Э. Фромм. ПРИРОДА БЛАГОПОЛУЧИЯ
Глава6.
Р.Д. Сасаки. ГДЕ НАХОДИТСЯ "Я"?
Глава7.
К. Шпербер. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
Глава8.
Дж. Уэлвуд. ДРУЖБА С ЭМОЦИЯМИ
Глава9.
А. ван Кам. ГНЕВ И МЯГКОСТЬ
Глава10.
Р. Уолш. ВЕЩИ - НЕ ТО, ЧЕМ ОНИ КАЖУТСЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РАБОТА С ЛЮДЬМИ
Вступление
Глава11.
Ч. Трунгпа. СТАТЬ ВПОЛНЕ ЧЕЛОВЕКОМ
Глава12.
Т. Хора. ЗАДАВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Глава13.
Д. Брэндон. ПОГРУЖЕННОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПОМОЩИ
Глава14.
Дж. Уэлвуд. УЯЗВИМОСТЬ И СИЛА В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ
Глава15.
Д. Шайнберг. НАУЧИТЬ ТЕРАПЕВТОВ ПРЕБЫВАНИЮ С КЛИЕНТАМИ
Глава16.
Р. Хеклер. ВОЙТИ В МЕСТО КОНФЛИКТА
Глава17.
Э. Подволл. ОТКРЫВАТЬ ИСТОРИЮ ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА
Глава18.
Э. Кэсон, Викториа Томпсон. РАБОТА СО СТАРИКАМИ И УМИРАЮЩИМИ
Словарь
Эта книга посвящается великой линии бодхисаттв, чьи неустанные усилия, направленные на благо всех живых существ, послужили вдохновением для предлагаемой работы
Вводные замечания
Традиции и дисциплины Востока, пустившие за последние несколько десятилетий глубокие корни в западной культуре, начали в конце концов оказывать влияние и на практику психотерапии. Это происходит по мере того, как все большее число профессиональных целителей практикует медитацию и использует опыт медитации в своей работе с людьми.
Возрастающая привлекательность учений Востока проистекает из широкого уяснения того факта, что психология и медицина Запада проявили несостоятельность как в понимании человеческой природы, так и в способности содействовать здоровью и благополучию. Западная психология сделала только одно хорошее дело: она описала и проанализировала невротическое поведение прежде всего в понятиях обусловленности периодом детства и семейной динамикой, а также выработала терапевтические методы, рассчитанные на то, чтобы помочь людям освободиться от рабства своего прошлого. Однако о действительной работе человеческого ума, о том, как человек может внутренне увековечить свой невроз или освободиться от него, западная психология знает гораздо меньше. Наше всеобщее невежество относительно находящихся внутри нас источников здоровья способствовало кризису современного здравоохранения, так что больницы обычно оказываются слишком безжизненными и неспособными создать подлинно целительное окружение, а главной формой терапии больных с психическими расстройствами остается лекарственная; многие целители сами страдают от душевной опустошенности, а процент самоубийств среди психиатров приобрел печальную известность одного из самых высоких среди всех профессиональных групп.
Настоящая книга открывает новые перспективы в вопросе о здоровье и о взаимоотношениях в процессе лечебного воздействия; эти перспективы возникли из взаимно плодотворных принципов медитационных дисциплин Востока и психологической практики Запада. Ее отдельные главы имеют прежде всего практический и личный характер и не являются теоретическими или техническими. Ибо главная ориентация книги заключается в том, чтобы исследовать взаимоотношения лечебного процесса как интимную встречу, способную пробудить сердце как самого терапевта, так и его клиента. Такая перспектива открылась большинству авторов благодаря их собственным попыткам перенести в терапию и использовать в ней то, чему они научились из медитации и учений Востока. Возможно, не все авторы сборника разделяют эту точку зрения; однако приводимые здесь работы отбирались в свете того, насколько они содействуют пониманию подхода именно такого типа.
Но что же это значит - "пробудить сердце"? Несомненно, эта фраза может звучать непривычно для тех, кто воспитан в духе традиционной психологии Запада, которая, говоря о целях терапии, пользуется гораздо более техническими терминами, например: "сила 'я"', "испытание реальности", "контролирование импульса". Слово "сердце" в западной культуре имеет несколько сентиментальный отзвук; кажется, что оно свойственно любовной лирике и кино-продукции Голливуда и чуждо контексту психотерапии, которая с самого своего начала стремилась к достижению определенной технической компетентности и научной респектабельности. В западной культуре "сердце" считается чем-то совершенно отличным от "ума"; а последнее понятие обычно относится к рациональной, мыслительной способности. Напротив, в традициях Востока слово "сердце" относится не к эмоциям, не к сентиментальным чувствам. В буддизме слова "сердце" и "ум" суть части одной и той же реальности, именуемой на санскрите "читта". Фактически, говоря об уме, буддисты указывают не на голову, а на грудь. Тот ум, который более всего представляет интерес для восточных традиций, - это не мыслительная способность, а скорее то, что мастер дзэн роси Судзуки называл "большим умом". Это фундаментальная открытость и ясность, непосредственно резонирующая на окружающий нас мир. Такой "большой ум" не создан чьим-то "я", не является чьим-то обладанием; это скорее вселенская пробужденность, в которую способен проникнуть каждый человек. В этой перспективе аппарат рационального мышления, так хорошо известный на Западе, оказывается "малым умом". Ум, единый с сердцем, являет собой гораздо более широкий вид осознания, которое как бы окутывает собой нормальный узкий фокус нашего мышления.
Мы могли бы здесь определить сердце как ту "часть" нашего существа, где мы можем быть затронуты миром и другими людьми. Когда мы позволяем себе оказаться затронутыми в сердце, это дает начало возникновению широких чувств понимания, относящихся к другим людям. Именно здесь сердце связано с большим умом. Потому что мы способны понять других лишь в том случае, если сумеем прежде всего ясно увидеть их такими, каковы они есть, во всей их человечности, вне связи с нашими идеями и предвзятыми мнениями о них. Видя человечность других людей, позволяя себе проникнуться этой человечностью, мы приходим к пониманию того факта, что в глубине сердца сами не слишком отличаемся от них; а это дает начало подлинному состраданию, которое многие традиции Востока считают самым благородным из человеческих чувств. Стало быть, пробуждение сердца заключает в себе двойное движение: мы открываем для других доступ внутрь себя, что позволяет нам понять их человечность; и мы как бы выходим наружу, чтобы встретиться с ними во всей полноте. Ведь так и говорят: "Я принял ее всем сердцем" или "Мое сердце сразу устремилось к нему". Сердце - это не только открытое, воспринимающее измерение нашего существа, но также и активное, широкое раскрытие по отношению к миру.
Тогда каким же образом встреча между психотерапевтом и клиентом может способствовать пробуждению сердца? Как могут психотерапевт и его клиент способствовать пробуждению друг друга, как бы высекать искры друг из друга и вдохновлять друг друга на полное раскрытие?
Прежде всего важно отметить то обстоятельство, что терапевтическая встреча подобна любым интимным взаимоотношениям: она полна тайн, неожиданностей, непредсказуемых поворотов. Сколь бы хорошо подготовленным в теоретической психологии и лечебной технике ни был психотерапевт, это не имеет значения: встреча с другим человеком, который ищет избавления от страданий, неизменно оказывается для него вызовом - и таким вызовом, к которому его не подготовила клиническая специализация. В большинстве своем психотерапевты признают, по крайней мере в частных беседах, что они часто не понимают, что происходит с их клиентами, испытывают неуверенность и растерянность в вопросе о том, как помочь таким клиентам. Если психотерапевт воспримет эту неуверенность как угрозу своей компетентности, тогда он может усмотреть в ней признак неудачи или поражения. Но когда в лечебном процессе видят взаимную возможность подлинного раскрытия, психотерапевт способен подойти к таким моментам неуверенности по-иному. Ибо в действительности они призывают психотерапевта хоть на мгновенье отложить в сторону свои теории и убеждения и обратить более пристальное внимание на клиента и на собственные реакции, чтобы лучше почувствовать то, что происходит.
Эти промежутки неуверенности, когда психотерапевту нужно освободиться от перечней симптомов, хранящихся в уме, могут вынудить его вступить в более непосредственные взаимоотношения с пациентом. Если психотерапевт, не зная, что делать дальше, не отступит к теории и технике, в подобные мгновенья может проявиться новое качество обостренного восприятия, "единство" с клиентом. По мере того как ослабляется потребность психотерапевта контролировать ситуацию, он становится способным присутствовать в этой ситуации с более открытым сердцем.
Неумеренный страх перед такими секундами неуверенности обычно испытывают начинающие психотерапевты. Имеется один существенный ингредиент, на обучение которому в большинстве высших учебных заведений не обращают внимания: это способность терапевта прибегать к своей интуитивной реакции на клиента. Таким образом, когда терапевты обнаруживают внезапное сомнение в том, что им делать или говорить в следующую секунду, они склонны подыскивать что-то в своем наборе технических средств или переводить внимание клиента на более безопасную и знакомую почву; следовательно, они оставляют далеко позади настоящий момент с его угрожающей неуверенностью. Однако, избирая такой путь, они упускают самые реальные творческие возможности, находящиеся прямо перед ними. Когда мы не знаем, что делать, мы вынуждены замедлить темп действий, стать более внимательными и ждать - а это освобождает внутри нас пространство для проявления более обширного разума.
Много было написано о том, как преодолеть сопротивление клиента терапии; но еще больше можно сказать о противодействии психотерапевта собственному раскрытию. Факт заключается в том, что во время своих встреч как психотерапевты, так и клиенты часто заходят дальше, чем рассчитывали, глубже, чем считают удобным. Однако наиболее действительное исцеление происходит, кажется, именно тогда, когда терапевт раскрывается перед клиентом так же широко, как раскрывается сам клиент для терапевтической работы. Боль и тревога клиента - это как бы призыв к терапевту оставить свою привязанность к положению эксперта и вместо этого проникнуть в мир психики клиента и разделить с ним его горести.
Разумеется, такой подход может вызвать подлинное чувство испуга: страхи, беспокойства и проблемы пациента зачастую отражают как в зеркале сферы нерешенных вопросов и в собственной жизни психотерапевта. Поскольку лишь немногие из психотерапевтов победили все свои страхи и слабости, допущение в свой внутренний мир реальности психики клиента нередко способно заставить психотерапевта прямо взглянуть на свои "неоконченные дела" и заняться ими. Все же, хотя подобная связь с пациентом может показаться угрожающей, она вполне может обогатить также и психотерапевта. Работая со страхом пациента, психотерапевт находит, что и сам получает возможность дальнейшей работы над собственным страхом. Помогая кому-то исследовать чувство пустоты и одиночества, лежащее в глубине даже самых интимных его взаимоотношений, одновременно получает шанс заметить эту часть собственной психики и тоже установить с ней взаимоотношения. В действительности существует только один ум. Хотя для некоторых людей это может звучать какой-то непонятной мистикой, тем не менее: в момент подлинного контакта осознание пациента и осознание психотерапевта оказываются двумя концами одного континуума. В психотических, невротических и "нормальных" формах деятельности ум работает в соответствии с некоторыми регулярными стандартами и стереотипами, хотя, пожалуй, с разной интенсивностью спутанности. Страх по сути дела и есть страх, сомнение в себе есть сомнение в себе, подавленное желание и есть подавленное желание; но, конечно, они могут принимать множество разнообразных форм. Тот факт, что во время работы с другими людьми мы пользуемся общим с ними умом, поддерживает наше сердце в состоянии раскрытия, несмотря на все наши старания уйти в себя и отступить на некоторое расстояние.
Если психотерапевт способен работать с собственным противодействием подобного рода общению с пациентом, это может открыть для него новую радость в работе, новое наслаждение. К несчастью, многие профессиональные целители безоговорочно принимают распространенный в западной культуре подход к помощи другим людям: они видят в ней какой-то долг, а не источник радости. Часто они не разрешают себе понять то, чему научаются и что приобретают, работая с пациентами, не знают, как получить от этой работы удовольствие. Конечно, это верное средство для душевной опустошенности, ибо то, что психотерапевт получает от подобной интимной связи при встрече, - так это возможность по-настоящему раскрыться, расширить репертуар ощущений и выражений своей подлинной человечности.
Короче говоря, получить наибольшее удовольствие от работы и оказать наибольшую помощь другим людям можно именно тогда, если дать им возможность взволновать себя. Это не значит, что психотерапевту следует отождествлять себя с их проблемами или оказаться захваченным их неврозами. Существуют способы, при помощи которых пациенты пытаются втянуть психотерапевта в свой мир, оказывая на него особое влияние; и этому влиянию действительно нужно противодействовать. Однако психотерапевт все-таки может оставаться открытым для того, чтобы увидеть, какими чувствуются эта тяга и эти манипуляции; ибо тогда психотерапевт располагает существенной информацией, которая подскажет ему, как реагировать на данную личность с наибольшей для нее пользой. Это умение, не выходя из собственных границ, дать себе возможность пережить чувство реальности другого человека.
Если психотерапевт сможет выслушать слова другого человека не откуда-то издалека, не из отдаленности клинициста, а так, чтобы они тронули его и резонировали внутри него, тогда он сумеет привнести в переживание другого человека связанное с ним вполне живое, человеческое присутствие; а это обстоятельство с гораздо большей вероятностью способно создать внешние условия, при которых может произойти исцеление. Исход терапии определяется также и многими другими факторами; но без такого рода подлинного присутствия со стороны психотерапевта вряд ли произойдет действительная перемена. Подлинное присутствие сверкает в психотерапевтах, когда они позволяют себе быть затронутыми пациентами, когда они могут по-настоящему почувствовать, на что похоже пребывание в мире пациента, а потому и оказываются способными реагировать, исходя из истинного сопереживания и сострадания.
Как люди, мы обладаем двумя типами осознания, доступными нам в любой данный момент: мы сосредоточены на личных проблемах, нуждах и чувствах; в то же время мы способны прийти и к более обширному осознанию, которое позволяет нам, хотя только на короткое время, выйти за пределы этих проблем, принять по отношению к ним более широкую перспективу и почувствовать некоторую свободу от связанности ими.
Подлинная перемена и действительный рост происходят в психотерапии тогда, когда мы обращаемся к обоим этим видам осознания, а именно: когда мы прежде всего относимся с уважением к своим потребностям и чувствам, видим то, что они нам говорят, а не принижаем их, не избегаем; далее когда мы также способны привнести в эти личные проблемы влияние нашего более обширного осознания. Тогда мы начинаем видеть: мы представляем собой нечто гораздо более широкое и глубокое, чем все проблемы, которые мы несем с собой. В большинстве своем западные системы психотерапии сосредоточивают внимание на личных потребностях и чувствах; в восточных традициях преобладает упор на большой ум, окружающий наш личный мир. Подход к психотерапии, общий для Запада и Востока, будет заключать в себе оба рода осознания. Двигаясь к ядру того фактора, который наиболее глубоко затрагивает человека в его жизненных ситуациях, оба - и психотерапевт, и клиент - получают напоминание о том, что это такое - быть человеком. Именно в момент пробуждения удается сплести и связать две эти половины нашей природы, личное и нечто более чем личное; и как раз в момент их сплетения сердце начинает биться и пробуждаться.
Если психотерапевт способен стать восприимчивым и войти в мир пациента, если он расширяется и выходит наружу для встречи с пациентом, если он подходит к проблемам пациента с более широкой перспективой - это приносит помощь в пробуждении сердца пациента. Часто на пациентов оказывает наибольшее воздействие именно знание того обстоятельства, что психотерапевт действительно допускает внутрь себя их реальность; большую роль играет также ощущение присутствия психотерапевта, в котором они могут исследовать, распутывать и разрешать свои проблемы. Пациент имеет возможность двигаться сквозь проблему с большей готовностью тогда, когда психотерапевт позволяет себе "включиться в нее", т.е. разделяет с пациентом подлинные его чувства и проблемы, не будучи, однако, "проникнут" ими, иначе говоря, когда он вносит в проблему влияние более обширного пространства и осознания, не допуская захваченности самой проблемой.
Переживание пациента всегда содержит элементы как заблуждения, так и ясности. Для психотерапевта "находиться в заблуждении" означает желание выслушать и принять на себя путы наиболее интимных мыслей и чувств пациента, даже позволить себе при необходимости ощутить смятение. Однако для того, чтобы избегнуть "захваченности заблуждением", психотерапевту также необходимо оставаться настроенным на глубинный разум пациента и на положительную направленность его жизни, находящиеся под глубиной всего невроза и смятения. Когда психотерапевт способен сохранить более обширное осознание глубинного добра и благополучия пациента, позволяя ему самому прийти к этому осознанию по всем необходимым ступеням, такой образ действий может стать моделью подхода к пациенту, при котором последний начинает приобретать доверие к самому себе. Открывая внутри себя более великое сердце и более глубокий ум, пациент начинает устанавливать связь с собственной мудростью, и это помогает ему увидеть, что он гораздо более обширен, нежели те истории, хорошие или плохие, которые он рассказывает о себе.
Однако для того, чтобы пациент сделал такие открытия, самому психотерапевту существенно необходимо обладать этим видом уверенности - не в форме убеждения, а в форме живого опыта. Как раз здесь для психотерапевта или профессионального целителя может оказаться особенно ценной практика медитации. Медитация предлагает нам весьма прямой практический способ раскрытия внутри себя более обширного осознания ощущения жизненности, учит нас доверяться их естественной направленности в сторону благополучия. Медитация также привлекает внимание к обоим аспектам, о которых говорилось выше как о существенных для терапевтической перемены. Она помогает нам культивировать дружеское отношение ко всем явлениям ума; так что внутреннюю борьбу и конфликт, вызванные старанием избавиться от невротических стереотипов, можно заменить тем, что в буддизме носит название "майтри", т.е. безусловной дружественностью к самому себе. В то же время медитация дает человеку возможность проникнуть в более обширное осознание, откуда обычная эмоциональная спутанность видится в иной перспективе - как облака на небе, а не как само небо. Далее, медитация обеспечивает нас основной практикой для пробуждения сердца, заключает в себе теплоту и сострадание по отношению ко всем нашим страхам, неуверенности, эмоциональной стесненности, а также раскрывает для нас находящиеся под ними глубинную доброту и открытость.
Ни в одной высшей школе не учат, как развить у себя "безусловно положительное отношение" к пациенту, хотя это существенная сторона дела. Очевидно, предполагается, что психотерапевт будет способен испытывать эти чувства к любому человеку, входящему ко нему в кабинет. Именно медитация предлагает конкретный оперативный метод для выработки как раз тех ингредиентов приязни и безусловного дружелюбия, которые наиболее существенны для успешной психотерапии. Психотерапевт, который ясно видит тонкие, сложные изгибы и повороты собственных мыслей и чувств, вряд ли найдет многие проблемы своего пациента целиком чуждыми, неприятными или незнакомыми. Чем больше такой психотерапевт полагается на собственное глубинное добро, скрытое под слоем заблуждения, тем более он способен помочь пациентам найти их собственный путь между этими двумя аспектами самих себя. И чем более ему удается видеть непосредственно собственный страх, тем более бесстрашно сумеет он подойти и к проблемам пациентов; а это, возможно, окажет им помощь в самостоятельном развитии уверенности в себе. Медитация это прямое переживание того факта, что изменение психики в большей мере зависит от того, какими мы пребываем с самими собой, нежели от того, что мы делаем, стараясь улучшить себя. Таким образом, традиционные практические методы медитации Востока предоставляют нам немедленный и удобопонятный способ изучения мышления и эмоций и развития сострадания ко всему, что возникает внутри ума.
Как же далеко способна пойти психотерапия в пробуждении сердца и в освобождении нас от искажающей деятельности заблуждающегося ума? Первая часть настоящей книги разбирает этот вопрос с большой глубиной, исследуя и положительные стороны психотерапии, как пути освобождения, и ее ограничения. Вторая ее часть исследует вопрос о работе над собой как необходимом основании работы с другими людьми. Здесь первостепенную важность приобретает проблема отношения к "я" и эмоциям. Третья часть обращена к рассмотрению главной задачи книги здесь выясняется, каким образом открытость сердца, возникшая благодаря практике медитации, может оказать влияние на работу с людьми.
Все авторы данной книги практиковали тот или иной вид медитации; большинство из них - это психотерапевты в настоящем или в прошлом. Они получили широкую подготовку в области различных западных дисциплин, в которых представлены такие разные подходы, как психоанализ, христианское созерцание, гештальт-психология, айкидо, индуистская девоционная медитация и разнообразные стили буддийской медитации. Особенно интересным оказывается то обстоятельство, что практикующие такие различные духовные традиции вполне способны на взаимное понимание и хорошо дополняют друг друга по многочисленным аспектам работы над собой и с людьми.
Предлагаемая книга свидетельствует о том, как быстро разрастается направление научного исследования в области психологии Востока и Запада. Сейчас существует по крайней мере одна зарекомендовавшая себя программа научной работы по этой теме; имеется несколько институтов, где желающие могут изучать применение созерцательных дисциплин в практике психотерапии.
Это первая книга, где конкретно исследуется вопрос о том, как методы практики медитации могут информировать нас о более обширном контексте взаимоотношений лечебного процесса, а также создавать такой контекст. Содержащиеся в ней очерки представляют весьма человечную картину психотерапии, которую не так уж часто встретишь в традиционной терапевтической литературе. Исследуя границу между психикой и духом, между индивидуальной, личной жизнью и более обширными измерениями нашего существа, эта книга должна принести пользу не только психотерапевтам, не только изучающим психотерапию и другим профессиональным целителям, но также и всем, кого интересует возможность узнать больше о себе, о своих взаимоотношениях и о бездонном качестве человеческого переживания.
Составитель и редактор настоящего сборника, автор вводных замечаний к каждой его части, а также нескольких опубликованных в нем статей Джон Уэлвуд - частнопрактикующий психолог-клиницист, директор программы "Психология Востока и Запада" при Калифорнийском Институте интегральных исследований в Сан-Франциско. Преподавал в Чикагском университете, в Калифорнийском университете и в школе профессиональных психологов. Редактор "Журнала трансперсональной психологии", автор книги "Встреча путей: исследования в области психологии Востока и Запада. Готовится к печати его книга о близких отношениях.
Примечание вебмастера. В 1998 г. этот сборник был издан минским издательством "Вида-Н" под названием "Психотерапия и духовные практики" снаглым копирайтом "СоставительВ.Хохлов, 1998".
Часть Первая
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: ПСИХОТЕРАПИЯ И ДУХОВНОСТЬ
Вступление
Западные психологи все более и более начинают усваивать то, на что в течение тысячелетий указывали великие созерцательные традиции во всем мире: в человеческом развитии существуют как бы две различные кривые, соответствующие двум разным наклонностям человеческой природы. С одной стороны, мы хотим постичь нашу собственную индивидуальную природу; с другой - нам также хочется установить связь с чем-то более великим, нежели мы сами, стать частью этой большей реальности. Само положение в этом мире, где наши ноги крепко стоят на земле, а голова устремлена вверх, к открытому небу, это положение в совершенстве выражает нашу двойственную природу. Наше зрение видит гораздо дальше того, что находится непосредственно перед нами, оно как бы позволяет нам выйти за пределы самих себя, отдать себя другим, раскрыться, для того чтобы принять новые возможности. Однако при всем этом ноги привязывают нас к земле, мы не в состоянии ускользнуть от своей кармы - от личных потребностей, чувств, привычных стереотипов, а также от стремления найти собственный путь в этом мире.
Западная психология занята личностью, восточная сосредоточена на выходе за пределы личности. Один из первых вопросов, с которым мы встречаемся при сближении Запада и Востока, - это вопрос о том, как личное развитие и личные достижения совпадают с созерцательным странствием к открытию более широкого осознания, с пребыванием в глубине самих себя, превыше своих чисто личных забот.
В своей книге "На Восток" теолог Харви Кокс предупреждает об опасности возникновения путаницы, если психологи и ученые будут пытаться присвоить идеи и практику восточных традиций, которые сами они не вполне понимают:
Западная психология все еще остается сосредоточенной на "я"... обращая лишь второстепенное внимание на интегральную связанность "я" его обществом и космосом, на гигантские орнаменты, которыми окружена его жизнь... В результате некоторые психологи, включая все возрастающее число клиницистов, начинают чувствовать, что зашли в тупик... Неудивительно поэтому, если мы обнаруживаем, что ныне западная психология (обращается) к Востоку, чтобы влить в себя свежую энергию.
(Однако) эта нынешняя любовная интрига западной психологии с Востоком кажется мне... опасной. Опасность заключается в огромной силе тех психологических способов мышления, которые в настоящее время используются в нашей культуре; их сила столь велика, что теперешняя психологизация восточных созерцательных дисциплин, если ей не воспрепятствует коренная революция в самой западной психологии, окажется способной настолько их извратить, что они превратятся в игрушки западного типа - и вследствие этого не смогут внедрить в нашу культуру резко противоположный ей взгляд на жизнь, который в состоянии нам принести только они.
Чтобы не лишить созерцательные дисциплины возможности помочь нам увидеть ситуацию за пределами самих себя, следует внести ясность в вопрос о различиях в функциях психотерапии и медитации. Лишь после этого мы сумеем хоть немного понять, как эти два пути могут частично совпадать или дополнять друг друга. Разграничение этих двух путей и дисциплин представляет собой центральный пункт первой части данной книги.
В первой главе Джэкоб Нидлмэн поднимает важный вопрос о различиях между стремлением к личным достижениям и желанием преображения. Статья Нидлмэна ясно определяет основное противоречие: задача психотерапии состоит в том, чтобы построить устойчивую и определенную личность, тогда как созерцательный путь показывает нам, что энергия, затраченная на поддержание устойчивости личности, отвлекает нас от достижения более широкого типа целостности.
Робин Скиннер дает обстоятельный ответ на многие опасения Нидлмэна относительно смешения этих двух путей, серьезно разбирает действительные заслуги психотерапии, исследует частичное совпадение между личным ростом и практикой созерцания, равно как и подлинные их различия. Затем, совершив удивительный диалектический поворот, Скиннер подвергает сомнению самую возможность найти простые ответы в этой области и напоминает нам, что задача человеческого бытия состоит в том, чтобы никогда не терять из виду неопределенный характер жизни в двух разных мирах. Те же самые проблемы рассматриваются по-иному в следующей главе, написанной тремя людьми, получившими основательную подготовку как в области западной психологии, так и в практике восточной медитации. Дискуссия сосредоточена на вопросе о том, где кончается психологический рост и начинается духовная практика.
В заключительной главе первой части я рассматриваю более конкретно процесс переживания в психотерапии и в медитации. Здесь выясняются подлинные различия между ними, а также общая центральная задача - выработка дружелюбного отношения к собственному опыту.
Глава 1
Джэкоб Нидлмэн
ПСИХИАТРИЯ И СВЯЩЕННОЕ
Дж.Нидлмэн - профессор философии государственного университета в Сан-Франциско и директор Центра по изучению новых религий при аспирантуре Теологического Союза в Беркли. Получил подготовку по клинической психологии и работал младшим научным сотрудником в Рокфеллеровском научно-исследовательском институте. Среди его книг: "Новые религии", "Чувство космоса", "Утраченное христианство", "Сознание и традиция", "Сердце философии".
Современная психиатрия возникла из понимания того факта, что человек должен измениться самостоятельно и не зависеть от помощи какого-то воображаемого Бога. Более полувека назад, главным образом благодаря прозрениям Фрейда и энергии людей, испытавших его влияние, человеческая психика была вырвана из неуверенных рук организованной религии и перемещена в мир природы в качестве предмета научного исследования. Этот толчок в сфере культуры вызвал огромные и долговременные волны; равным им по силе стало чувство надежды, постепенно пустившее корни во всем западном мире. Для всех, включая и лиц, предлагавших теории, противоречащие психоанализу, главная перспектива казалась нерушимой: наука принесла невероятную власть над внешней природой и теперь способна заняться объяснением внутреннего мира человека и его подчинением.
Родилась эра психологии. К концу второй мировой войны многие из лучших умов нового поколения попали под власть очарования этой новой науки о душе. Как следствие убежденности в том, что ныне открылась дорога к облегчению смятения и страданий человечества, в американских университетах изучение работы психики человека стало стандартным курсом. Ширились ряды психиатров; провозвестие психиатрии донеслось и до широкой публики благодаря все новым и новым формам литературы, искусства, педагогических теорий. Организованная религия оказалась бессильной перед этим Джаггернатом новой надежды. Понятия о природе человека, которые в течение двух тысячелетий основывались на иудейско-христианской традиции, теперь должны были изменяться и исправляться, подобно тому как тремястами годами раньше христианская схема космоса отступила под натиском научной революции.
Но хотя психиатрия в своих многообразных формах пронизывает нашу нынешнюю культуру, некогда содержавшаяся в ней надежда постепенно как-то схлынула. Психоаналитик, в прошлом обладавший харизмой, замкнулся внутри ежедневной рутинной медицинской работы и сам превратился в объект возрастающего публичного цинизма. Бихевиорист, когда-то ошеломлявший мир, определяя человека как пучок управляемых реакций, ныне ограничивается простым философствованием и практикой частичной психологической косметики. В расширяющемся поле психофизиологии мы слышим восклицания о "прорыве" в тайны внушающей благоговенье таинственной структуры человеческого мозга, однако в них нет подлинной убежденности. Что же касается экспериментальной психологии, то она просто онемела, и масса накопленных за целые десятилетия исследовательских данных, полученных при наблюдениях над животными, не имеет никакой связи (кажется, эта связь так никогда и не будет установлена) со страданиями, страхами и разочарованиями повседневной жизни человека.
Растущее чувство беспомощности среди психиатров и призывы о помощи со стороны широких масс современного человечества составляют разительный контраст постоянному психологизированию средств информации. Из "ответов" различных степеней сложности, какие дают печатные издания от "Ридерс дайджест" до "Сайколоджи тудей", миллионы читателей, видимо, без всяких возражений приняли идею о том, что их жизнь лишена какой бы то ни было значительной направленности; они нуждаются в помощи лишь для того, чтобы как-нибудь пережить ночь. Прежние чудесные обещания психиатрии преобразить ум человека потихоньку исчезли.
Конечно, вопросы о смысле жизни и смерти, об отношении человека ко вселенной все еще продолжают терзать внутренний мир отдельных индивидов. Но теперь уже ни психиатрия, ни церковь не в состоянии дать ответы на подобные вопросы даже на том примитивном уровне, на каком они могут возникнуть, тем не менее на уровне интуитивных взаимоотношений и универсального знания, которое в некоторых призывах о помощи усматривает селена желания преобразить себя.
Никто так не страдает от своей беспомощности, как сами психиатры; их все более и более охватывает отчаянье при виде своей неспособности оказать другим людям ту фундаментальную помощь, которую они когда-то считали возможной. Столкнувшись лицом к лицу с возрастающим давлением техники на нормальные стереотипы человеческой жизни, с результатами широкого распространения ненормальных взаимоотношений между современным человечеством и природой, со стремлениями найти понятную цель жизни, они обнаруживают, что находятся в том же самом положении, что их пациенты и все остальные люди.
Такова вкратце та почва, на которой ныне возникает новый вопрос - о скрытой структуре психики человека и ненормальностях его внутренней жизни. В течение последнего десятилетия в нашей культуре получило широкое распространение тяготение к идеям и духовным методам, берущим начало в древних традициях Азии и Среднего Востока. Это движение появилось в Калифорнии и сперва получило клеймо причуды, юношеской реакции против чрезмерной наукообразности и технократии. Эта "духовная революция" и посейчас сохраняет многие признаки наивного энтузиазма. Однако тенденция к мобилизации рассеянных обрывков древних религиозных учений распространилась далеко за пределы так называемой "обетованной земли Калифорнии" и ныне проявляет свое действие в той самой области, где едва ли одно поколение назад религия отвергалась под ярлыком невроза. Ныне множество психотерапевтов убеждено в том, что восточные религии предлагают нам гораздо более полное понимание структуры ума, чем любая из теорий, принимавшихся до сих пор наукой Запада; и число убежденных в этом психотерапевтов все возрастает. В то же время сами вожди новых религий, многочисленные гуру и духовные учителя, ныне обитающие на Западе, заново формулируют традиционные системы и приспосабливают их к языку и атмосфере современной психологии.
К примеру, летом 1973 и 1974 гг. в Беркли тибетский лама Тартанг Тулку провел шестинедельные семинары по упражнениям в медитации и по буддийской философии, предназначенные для профессионалов-психологов. "Главное, что я там усвоил, отметил один из участников, - это то, каким ограниченным было мое представление о терапии. Девяносто процентов тех вещей, которыми мы занимаемся, для ринпоче было бы смешным". Другой участник, психоаналитик-фрейдист из Нью-Йорка, уехал убежденный в том, что тибетский буддизм способен предотвратить "отвердение артерий", свойственное практике психоанализа.
Еще один тибетский учитель Чогьям Трунгпа работает в таком же направлении даже в более широком масштабе. Он разработал программу по психологии, где древние тибетские методы связаны с современной психотерапевтической техникой.
Вдохновляемый элементами традиции суфиев, мистического ядра исламской религии, психолог Роберт Орнстейн пишет:
Для жителей Запада, изучающих психологию и другие науки, настало время возникновения нового синтеза; надо "перевести" некоторые понятия и идеи традиционных систем психологии на язык современной психологической терминологии, - восстановить утраченное равновесие. Для того чтобы сделать это, мы должны прежде всего расширить границы исследования современной науки, расширить наши представления о том, что возможно для человека.
Недостаток места позволяет здесь упомянуть лишь о части той деятельности и теоретической работы, которая ныне ведется психологами, тяготеющими к дзэн и тибетскому буддизму, суфизму, индуизму в его многочисленных формах, наконец, даже к практике раннего монашеского и восточного христианства и некоторых дошедших до нашего времени составных частей мистической традиции иудаизма - каббалы и хасидизма. Работают также школы гуманистической и экзистенциальной психологии, начало которым положили исследования А. Маслоу; эти школы сосредоточивают свои усилия на исследовании мистического, или, как они его называют, "трансперсонального", измерения психологии. Все чаще и чаще исследования состояний сознания, переживаний биологической обратной связи, наивысшего напряжения, психофизиологии йоги и средств, "расширяющих границы ума", производятся в контексте идей и систем, перекликающихся с древними интегративными науками о человеке. Наконец, возрастает интерес к учениям Карла Юнга, который с самого начала отошел от чрезмерной научности своего ментора Фрейда и двинулся в сторону древних символов и метафизических понятий эзотеризма и оккультизма.
Поэтому неудивительно, что перед лицом всех этих отдельных движений тысячи мужчин и женщин во всей Америке более не знают, какая помощь им нужна - психологическая или духовная. Линия, отделяющая психотерапевта от духовного руководителя, стала неясной. Как заметил один наблюдатель и это замечание лишь наполовину было шуткой, "психотерапевты начинают говорить языком гуру, а гуру языком психотерапевтов".
Но разве так легко провести различие между поисками счастья и стремлением к преображению? Разве психотерапия и духовная традиция - просто два различных подхода к одной и той же цели, два разных понятия о том, что необходимо для благополучия, для спокойствия ума и завершенности личности? Или это два диаметрально противоположных направления, по которым может двигаться человеческая жизнь? В чем же заключается подлинное различие между священной традицией и психотерапией?
Стоит подумать об отрывке из старой шотландской сказки, приписываемой еще дохристианским кельтам. Сказка повествует о том, как на склоне волшебной горы встретились два брата. Один взбирается на гору, а другой спускается с нее; первого ведет наверх чудесный журавль, к которому человек прикреплен длинной золотой нитью; второго тащит вниз на железной цепи оскалившийся черный пес. Братья останавливаются, чтобы поговорить о своем путешествии и сравнить трудности пути. Каждый описывает те же опасности и препятствия - пропасти, громады отвесных скал, дикие звери - и те же самые радости - чудесные просторы, прекрасные, благоухающие цветы. Они решают продолжать путешествие вместе; но тут журавль немедленно тянет первого брата наверх, а пес тащит второго вниз. Первый юноша перерезает золотую нить и пытается идти вверх самостоятельно, руководствуясь исключительно тем, что услышал от второго. Но хотя все препятствия оказываются в точности такими, какими их описывал второй брат, обнаруживается, что их охраняют непредвиденные злые духи, и без водительства журавля путник постоянно увлекается в них и в конце концов сам превращается в духа, обязанного вечно стоять на страже внутри зияющей расщелины.
Более широкий контекст этой сказки неизвестен; но и она может служить прекрасной иллюстрацией для раскрытия вопроса о взаимоотношениях между психиатрией и священным. Из всего множества легенд, сказок и мифов, затрагивающих так называемые "два пути жизни" (иногда называемые "путем падения" и "путем возвращения"), этот отдельный отрывок уникальным образом сосредоточен на том пренебрегаемом пункте, где идет речь о различиях между препятствиями к пробуждению и препятствиями к счастью. Сказка утверждает, что, какими бы сходными ни казались препятствия к этим двум целям, в действительности они весьма различны. И горе тому, кто не сможет принять во внимание оба возможных движения внутренней жизни человека! Горе тому, кто не обращает внимания ни на божественный, ни на животный аспект внутри себя. Он никогда не подвинется ни к "земному счастью", ни к преображению самого себя.
Сказка как будто составлена специально для того, чтобы показать нашу нынешнюю неуверенность относительно так называемой "духовной психологии". Рассмотрите идеи, проистекающие из древних традиций Востока, которые в настоящее время вливаются в поток языка современной психологии, - идеи "состояний сознания", "просветления", "медитации", "свободы от 'я'", "самореализации" - назовем лишь немногие из них. Возможно ли.понять каждый этот термин с двух разных углов зрения? Например, для чего человек практикует медитацию - для того ли, чтобы разрешить проблемы жизни, или для того, чтобы осознать автоматическое движение сил внутри самого себя? Но наш вопрос касается психиатрии, которую считают средством для достижения некоторой цели, средством, устраняющим препятствия на пути к счастью. Я пользуюсь словом "счастье" только ради краткости; мы могли с таким же правом в качестве цели психиатрии назвать полезную жизнь, способность человека стоять на собственных ногах, уменье приспособиться к требованиям общества. Эти препятствия к счастью - наши страхи, неосуществленные желания, бурные эмоции, разочарования, поведение, не соответствующее ситуации, суть "грехи" нашей современной психиатрической "религии". Но теперь нас просят понять тот факт, что существуют учения о вселенной и о человеке, придерживаясь которых можно принимать и исследовать, как материал для развития, силы сознания, наши психологические препятствия, эти "грехи против счастья".
Пожалуй, в данном пункте полезно сделать краткую остановку и поразмыслить над общей идеей трансмутации сознания. В настоящее время слово "сознание" употребляется в столь многих значениях, что возникает искушение выделить какой-то один или другой аспект сознания в качестве его первоначального характерного признака. Трудность вызывается самим тем обстоятельством, что наше отношение к знанию о самих себе подобно нашему отношению к новым открытиям, касающимся внешнего мира. Мы чрезвычайно легко теряем равновесие, когда в науке происходит какое-нибудь экстраординарное открытие, когда мы встречаемся с новым, волнующим истолкованием наших понятий; тогда немедленно в ход приводится весь механизм систематизирующего мышления. Возникает энтузиазм, сопровождаемый изобилием утилитарных объяснений, которые затем становятся помехами для непосредственной встречи с реальным, движущимся миром.
Подобным же образом новое переживание личности вводит нас в искушение поверить в то, что мы открыли единственное направление для развития сознания, живой жизни или, как это иногда называют, "присутствия". В движение приводится тот же самый механизм объясняющего мышления в сопровождении прагматических программ "действия". Жертвой такой склонности могут оказаться не только последователи новых религий, которые хватаются за обрывки традиционных учений, принесших им новое переживание самих себя, и строят вокруг этих обрывков особую религию; эта свойственная нам тенденция в значительной мере ответственна также за фрагментарность современной психологии и вообще естественных наук.
Для того чтобы обратить внимание на подобную тенденцию нашей внутренней функции, традиционные учения, например "Бхагавадгита", проводят фундаментальное различие между сознанием и содержанием сознания. В свете такого различия все, что мы обычно принимаем за сознание (или за свое подлинное "я"), в действительности определяется как содержание сознания: здесь наши восприятия вещей, наше чувство личной неизменности, наши эмоции и мысли во всех их оттенках и градациях.
Это древнее различие несет нам две существеннейшие вести. С одной стороны, оно говорит нам, что доступный нашему переживанию лучший аспект самих себя, как человеческих существ, представляет собой только часть тотальной структуры, в которой содержатся целые слои ума, чувств и ощущений, которая гораздо более активна, тонка и интегративна, нежели то, что мы считаем лучшей своей частью. Эти слои невероятно многочисленны, и их надо как бы счищать один за другим на пути внутреннего роста (или на пути "вверх" нашей сказки), пока мы внутри себя не соприкоснемся с фундаментальной разумной силой космоса.
В то же самое время это различие подчеркивает тот факт, что пробуждение сознания требует постоянных усилий. Оно говорит нам, что все находящееся в нашей внутренней жизни, каким бы тонким, прекрасным или разумным оно ни было, каким бы близким, реальным или благородным ни казалось, каким бы тихим или бурным ни являлось, - любое действие, любая мысль, любая интуиция, любое переживание, - немедленно пожирается нашим сознанием и автоматически преобразуется в его содержание, вокруг которого собирается множество мнений, чувств, искаженных ощущений, поддерживающих полученное нами из вторых рук чувство личности. Видимое в таком свете, наше сознание являет собой не концентрические слои человеческого осознания, которые необходимо счищать, подобно слоям кожицы лука, а только одну кожу, одну завесу, находящуюся в состоянии непрерывного движения и формирования независимо от качества психического поля в любой данный момент.
В традиционных культурах это качество самопознания, связанное с непосредственным участием человека в более высокой всеохватывающей реальности, окружено особыми понятиями. Существование таких специальных терминов, как дзэн-буддийское "сатори", мусульманская "фана", христианская "пневма" и многие другие, может служить для нас признаком того, что это усилие тотального осознания всегда отличалось от нормальных, повседневных качеств социально-организованной жизни. И в то время как традиционные учения говорят нам о том, что каждый человек может заняться исканиями этого качества присутствия, повсеместно признано также и то обстоятельство, что сделать это действительно пожелают лишь немногие; потому что здесь налицо особая борьба, которая при последнем анализе оказывается предпринятой исключительно ради самой себя, без признанной психологической мотивированности. И вот выясняется, что глубоко внутри всякой традиционной культуры скрыт так называемый "эзотерический" внутренний путь, который могли открыть только люди, жаждущие чего-то невыразимо превышающего обязанности и удовлетворенность религиозной, интеллектуальной, моральной и социальной жизни.
То, что мы можем считать психиатрическими методами в традиционных культурах, конечно, необходимо понимать именно в этом свете. Психозы и неврозы, очевидно, были известны в древнем мире, как известны они сейчас в немногих оставшихся традиционными обществах, которые и ныне продолжают существовать в отдаленных уголках земли, разбросанных по всему свету. Итак, в традиционной культуре психотерапия притязала на то, чтобы вернуть.пациента к нормальной жизни, повернуть так, чтобы в процессе лечения не был подавлен этот врожденный импульс к преображению. Для этого практикующему психотерапию необходимо было признать существование внутри человека различия между нарушением нормальных психических функций и неудовлетворенной жаждой эволюции сознания, которая "приходит ниоткуда", как выразился один учитель-суфий. Несомненно, здесь и заключалась одна из причин, почему согласно традиции "психопата" лечил священнослужитель. Вероятно, по той же причине так называемые "неврозы" лечили внутри нетронутой семейной структуры, ибо она была пропитана религиозными учениями той культуры.
Было отмечено, что современная психиатрия смогла занять свое нынешнее место только после разрушения патриархальной структуры семьи; а оно датируется началом записанной истории. Но современный психиатр встречается с невероятно трудной задачей, выступая в качестве суррогата родителя даже вне тех проблем, которые были так основательно описаны в психоаналитическом понятии переноса. Ибо за трудностями и терапевтическими возможностями классической ситуации психоанализа с явлениями переноса может находиться нечто гораздо более глубокое, более тонкое, обладающее более интенсивной человечностью, нечто, дающее отзвук "космического измерения". Мы уже дали название этому скрытому "нечто" - здесь проявляется желание преобразить себя. В структуре древней патриархальной семьи (а мне говорили, что кое-где она сохранилась и до сих пор, например среди брахманских семей в Индии) вопросы о том, как прожить нормальную, полную жизнь, никогда не отделяются от чувства более высокого измерения человеческого существования. То, что мы назвали бы психотерапевтическими советами, дается в этих условиях членами семьи или друзьями, однако таким образом, что страдающий индивид никогда не ошибется относительно двух возможных направлений, которые может принять его жизнь. Ему помогают увидеть, что препятствия к счастью не обязательно оказываются помехами для "духовного прозрения", как это состояние называется в подобных традициях.
Очень многие, на наш взгляд, нетерпимые ограничения такие, как подбор партнера для брака или предрешенное жизненное призвание, - связаны с этим духовным фактором в определении традиционного уклада семейной жизни.
Может ли современный психиатр дублировать этот аспект семейного влияния? Почти наверняка, нет. Прежде всего, он, видимо, и сам не воспитывался в такой семейной обстановке; пожалуй, никто в нашем современном мире ее не знал. Поэтому задача, с которой он сталкивается, является даже более трудной, нежели это понятно большинству из нас. Он может считать, что религия стала разрушительным фактором, что она оказывает вредное влияние на жизнь людей, поскольку предлагаемый традициями путь преображения оказался покрыт идеями и доктринами, которых мы не понимаем и не чувствуем. Возможно, он даже видит, что этот самый процесс увлечения непонятными духовными идеями и методами имеет место среди многих последователей новых религий. Но в то же время он, пожалуй, видит и то, что у невротиков и нормальных людей может существовать это скрытое желание внутренней эволюции. Как можно привести пациента к нормальной, счастливой жизни, не разрушая этот другой, скрытый импульс, который способен ввести человеческую жизнь в радикально иное измерение, независимо от того, будет или нет такой человек когда-нибудь счастлив, самодостаточен или приспособлен к жизни в обычном смысле этих слов? Ибо развитие сознания в человеке, вероятно, необязательно включает в себя развитие таких качеств, которые можно назвать "нормальной", "хорошо приспособленной" или "самодостаточной" личностью.
Посмотрим теперь более пристально на процесс современного психотерапевтического воздействия на фоне древнего традиционного понимания природы человека.
Как духовный руководитель, так и психотерапевт подходят к индивиду, пребывающему в состоянии скрытой разорванности и разноречивых устремлений. Человек не в состоянии быть тем, чем хочет. Его поведение, его чувства, сами его мысли причиняют ему боль или, что еще хуже, влекут его по бесконечному кругу пустой удовлетворенности и невыносимых страхов. Как сказано, "он не знает, кто он такой". Вложенные в него обществом и воспитанием чувства личности не согласуются с тем, что он чувствует сам по себе - с его инстинктами, глубинными потребностями и глубочайшими устремлениями.
Под этим хрупким чувством личной подлинности индивид в действительности представляет собой бесчисленный рой разрозненных импульсов, мыслей, реакций, мнений и ощущений, приводимых в действие причинами, которых он совершенно не осознает. Однако в каждое мгновенье индивид отождествляет себя с тем фактором из этого роя импульсов и реакций, которому случится оказаться активным; он автоматически утверждает в каждом из них "себя" и затем выступает за или против этого "я" в зависимости от тех особых воздействий, которые с самого детства производило на него социальное окружение.
Традиции гласят, что этот процесс утверждения и отрицания и есть подлинный источник несчастий человека, главное препятствие для развития его внутренних глубоких возможностей. Благодаря таким утверждениям и отрицаниям вокруг каждого из преходящих импульсов, возникающих внутри различных частей человеческого организма, строится особая форма. И такое непрерывное бессознательное утверждение личности улавливает определенное количество драгоценной психической энергии в своеобразном процессе инцистирования, который оказывается столь же химико-биологическим, сколь и психологическим. Сами нервы и мускулы тела вызваны к жизни для защиты и поддержки этого утверждения "я" вокруг каждой из бесчисленных групп импульсов и реакций по мере их активизации.
Несколько лет назад, когда я председательствовал на семинаре психиатров и клиницистов, нам стали понятны подлинные размеры этого процесса утверждения; понимание оказалось весьма простым и мощным. Мы обсуждали вопрос о применении гипноза в терапии. Дискуссия пришла к некоторому пункту; и тут один из участников начал говорить в такой манере, которая привлекла всеобщее внимание. Это был психоаналитик, старейший и наиболее уважаемый член группы.
Только раз в жизни, - сказал он, - я применил гипноз для лечения одного пациента; это случилось во время второй мировой войны, когда я служил в швейцарской армии. Передо мной оказался этот бедный солдат; и вот по какой-то причине я решил испытать его восприимчивость к постгипнотическому внушению. Я легко привел его в состояние транса и, просто в виде опыта, внушил ему, что после пробуждения он должен будет сделать три шага на месте всякий раз, когда я щелкну пальцами. Все составляло вполне стандартную процедуру. Я вывел его из транса, мы немного поговорили, а затем я отпустил его; и вот как раз в тот момент, когда он выходил из комнаты, я щелкнул пальцами. Он немедленно прореагировал и зашагал на месте в соответствии с внушением.
"Минутку! - крикнул я. - Скажите, почему вы шагали на месте?" Его лицо неожиданно покрылось густым румянцем. "Черт побери! - ответил он. - Что-то попало в башмак!"
Говоривший медленно попыхивал трубкой, его лицо стало чрезвычайно серьезным. Мы все не могли понять, почему он придает такое большое значение этому хорошо известному явлению постгипнотической структуры. Но он хранил молчание и грустно поглядывал на свою трубку. Никто из нас не произнес ни слова - было очевидно, что он старается сформулировать какую-то мысль, которую считает очень важной. И вот его лицо внезапно стало открытым) как у ребенка, он взглянул на меня и спросил: "Не кажется ли вам, что вся наша психическая жизнь напоминает этот случай?"
Последовало странное и довольно неловкое молчание. Кое-кто из присутствующих, видимо, почувствовал, что этот человек, которого каждый признавал большим практиком, допускает временную ошибку в рассуждениях; но другие, в том числе и я, были поражены необыкновенным выражением, вложенным в этот простой вопрос, как если бы в это самое мгновенье он подвергал внутреннему пересмотру все свое прежнее понимание ума.
Все глядели на меня, ожидая моего ответа. В самом деле, то, к чему он вел, уже неясно вырисовывалось передо мной. Но прежде чем я смог заговорить, он продолжил свою мысль совершенно в такой же манере; только теперь его лицо отражало не только изумление, но и нечто близкое к ужасу.
Не думаете ли вы, - говорил он, - что любое сделанное нами движение, любое сказанное слово, любая мысль похожи на этот случай? Не может ли быть так, что мы всегда сплетаем что-то в состоянии своеобразной постгипнотической дремы низшего уровня? Потому что есть одна вещь, в которой я уверен, хотя увидел ее важность только сейчас: в тот момент, когда я спросил солдата, почему он шагал на месте, на какую-то долю секунды он понял, что совсем ничего не сделал. В этот момент он понял, что фактически его нога сама по себе несколько раз шагнула на месте. Спросив его, почему он шагнул таким образом, я в действительности внушил его уму, что он сделал нечто. Короче говоря, я все еще продолжал гипнотизировать его, вернее, продолжал принимать участие в том всеобщем процессе гипноза, который беспрерывно сопровождает нас от колыбели до могилы. Противоречие заставило его покраснеть, а истинные факты относительно ходьбы на месте были вычеркнуты из осознания.
Я с захватывающим интересом следил за тем, куда ведет говорившего его мысль. Некоторое время он продолжал рассуждать о том, что психическая жизнь человека в ее целостности может оказаться продуктом внушений, проистекающих из разных источников; некоторые из них являются непосредственно внешними, другие хранятся в механизмах памяти. И весь этот процесс, заключил он, постоянно оказывается скрытым от нашего осознания убежденностью, которая у нас тоже обусловлена; мы уверены в том, что действуем, что мы являем собой индивидуальную личность. Наша так называемая свобода воли есть всего лишь последующее отождествление с процессами, которые происходят "сами по себе".
Из более ранних бесед с этим психиатром я знал, что он никогда чересчур не углублялся в изучение духовных традиций, даже западных. Например, он ничего не знал о буддийском диагнозе состояния человека - состояния, пропитанного заблуждением о существовании "я".
Итак, какую же картину природы человека мы здесь видим?
В силу социальных условий, в силу воспитания, влияния разных доктрин, религии, искусства и семьи индивид оказывается вынужден в очень раннем возрасте принять утверждение о том, что он представляет собой единое целое, устойчивое во времени, обладающее подлинным существованием и определенной психической структурой. Однако взрослый человек фактически образует целую тысячу слабо связанных между собой психофизических "клеток". Покидая состояние детства и подтверждая это социально обусловленное устойчивое состояние, человек на самом деле лишается и возможности роста своего внутреннего существа. Эволюция подлинной психической ценности прекращается, ибо она требует той самой энергии, которая ныне отвлекается на поддержание чувства "я" и поглощается этим чувством. Индивид становится ложью - ложью, которая теперь въедается даже в нервные пути организма. Он привычно, автоматически притворяется единым и целостным, потому что этого от него требуют и сам он требует этого от себя. Однако фактически он представляет собой лишь множество рассеянных элементов.
Но теперь такой человек не в состоянии помочь самому себе. Бесполезно осыпать его моральными императивами. Ибо в нем не существует "управляющего принципа"; таким образом, ничто не может изменить курса его внутреннего состояния. Поток воспринимающих чувств, который предназначен для того, чтобы проникать во все бытие в качестве незаменимого органа познания и воли, вместо этого направляется по особому каналу в "эмоции", свойственные "я", такие, как страх, самоудовлетворенность, жалость к себе и дух соперничества. Смешиваясь с чрезвычайно изменчивыми и комбинативными энергиями пола, эти эмоции делаются настолько всепроникающими, что их принимают за подлинную природу человека - "бессознательную" или "животную" природу, реальность, лежащую позади видимости. В древних учениях подлинным бессознательным является скрытая психическая целостность; она оказывается забытой и оставленной еще в детстве; для своего развития этот элемент требует не эгоистических удовлетворений, не "признания со стороны других", не сексуального или либидинального наслаждения, даже не физической безопасности, пищи или жилища. Это "первоначальное лицо" человека, и оно требует только энергии истины - иначе говоря, истинных впечатлений внешнего и внутреннего мира, приносимых к эмбрионической сущности человека способностью свободного внимания. Таким образом, согласно традиции, внутри человека существует нечто потенциально божественное, рожденное вместе с рождением его физического тела, но требующее для своего роста пищи, совершенно отличной от той, которая необходима для физического тела или социального "я".
В великих традициях термин "познание себя" обладал необыкновенным значением. Это не приобретение какой-то информации о самих себе, не глубоко ощутимое прозрение, не мгновенья узнавания на основе психологической теории. Это самое важное средство, при помощи которого эволюционирующая часть человека может питаться энергией, такой же реальной или даже еще более реальной, - как энергия, сообщаемая организму пищей, которую мы едим. Итак, вопрос заключается совсем не в том, чтобы приобрести силу, независимость, самоуважение, безопасность, "осмысленные взаимоотношения" или любые иные блага, на которых основан социальный порядок и которые определены как компоненты психологического здоровья. Единственное, что важно, - это усвоить глубинные впечатления о самом себе, каким я являюсь в действительности от мгновенья к мгновенью: здесь налицо разрозненное беспомощное скопление импульсов и реакций, образующее существо с дисгармонией ума, чувств и инстинкта.
В сердце великих традиций скрыта идея о том, что искание истины, в конце концов, предпринимается ради него самого. Эти традиционные учения предполагают показать человеку природу такого искания и скрытые за ним законы; как я указал, эти законы слишком часто оказываются утраченными в нашем энтузиазме по отношению к идеям и объяснениям, которые мы не впитали глубоко в пламени самой жизни и ее страданий и заблуждений. С другой же стороны, психотерапия - это, несомненно, средство для достижения некоторой цели. В отличие от пути, предложенного традицией, терапия никогда не была целью самой по себе, никогда не была образом жизни. Она просто мотивирована направлением и целями, которые психотерапевт часто видит более ясно, нежели его пациент. Психотерапевт может даже экспериментировать, подбирая новые методы для достижения определенных целей, и нередко это ему удается. Но не следует ли признать, что в процессе терапии возможен успех двух видов? С одной стороны, успешным результатом может оказаться такой, когда у пациента желание эволюции устранено намеренным пробуждением в самом себе той самой эгоистической эмоции, которую традиции стремятся разрушить и растворить. Но в некоторых случаях бывает возможен успех и другого рода - появляется пациент, у которого теперь налицо даже большая чувствительность, жажда более глубокого контакта с самим собой. Наблюдателю со стороны может показаться, что такой человек выработал некоторую "внутреннюю направленность"; а в действительности здесь как раз появилась такая личность, которая способна ощущать отчаянную необходимость в том влиянии, какое стремится передать традиция. Усилие современных учителей Востока передать свое послание этим людям в таких понятиях, которые не отягощены мертвой древностью и не скомпрометированы современными психологизмами, составляет подлинную духовную драму нынешней эпохи.
Я подозреваю, что психиатры ощущают возможность существования двоякого рода успеха в процессе психотерапии. Но пациент второго рода оставляет психотерапевта еще до того, как лечение продвинулось далеко вперед, тогда как пациенты первого рода остаются на лечении так долго, как только могут. Поэтому второй род пациентов, по-видимому, сознательно или официально не признан профессиональной психиатрией.
Итак, вопрос заключается в следующем: какого вида помощи добиваюсь я в случае кризиса моей личной жизни? Кто из вас, духовных учителей и психотерапевтов, может обратиться к обеим сторонам моей природы, к тем двум сторонам, которые, как нам говорят, созданы в человеке для борьбы друг с другом, так, чтобы из этой борьбы могло родиться новое существо, подлинное "я"? Потому что "третий брат" так говорит нам традиция - может появиться и двигаться вперед только из борьбы между двумя другими.
Поэтому я вижу, что в последнем анализе названия "духовный руководитель" и "психотерапевт" несущественны. Я вижу, что даже идеи и методы, предлагаемые мне каким-нибудь духовным учителем, могут стать достоянием моего эгоистического "внутреннего руководства" и использоваться им так, чтобы вести меня лишь к меньшей согласованности в социальном счастье и независимости. А что можно сказать о помощи, предлагаемой мне под названием психотерапии? Существуют ли среди вас, психотерапевтов, люди, чувствующие эти две стороны человеческой природы, восприимчивые по отношению к их одновременным требованиям и возможной борьбе между ними, к возникновению внутри человека того. мира, среднего между небом и землей, где, говоря классическим языком и пользуясь древними выражениями алхимии, добро и зло, активное и пассивное, мужское и женское заняты войной, которая может открыть мгновенье внутренней любви, внутреннего обмена субстанцией, ведущего к рождению нового вида человеческого существа?
Духовные руководители и психотерапевты, что означают ваши названия? Как нам принимать их? Кто скрывается за этими названиями? Кто из вас окажется подлинным духовным руководителем, кто - подлинным психотерапевтом? Нам нужно это знать. Мне нужно знать.
Глава 2
Э.С. Робин Скиннер
ПСИХОТЕРАПИЯ И ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Робин Скиннер - психотерапевт; в течение одиннадцати лет преподавал психиатрию в Институте психиатрии и в госпитале им. Модсли, главном центре подготовки психиатров Великобритании. Был первым председателем Лондонского Института семейной терапии. Автор "Системы семейной и супружеской психотерапии".
Надеюсь, вы не станете возражать, если я буду говорить в несколько личной манере. К сожалению, я не ученый, а простой ремесленник; и даже во время профессионального преподавания я обнаруживаю, что мне легче всего добиться общения, когда я говорю на основе собственного опыта. Скоро мне стало ясно, что такое положение является единственным, на основе которого я способен подойти к рассматриваемому мной здесь вопросу. Мне можно было бы только постараться жить с этим вопросом более напряженно, чем раньше, привести его в соприкосновение с максимально доступной частью своего повседневного опыта и оставаться внимательным и открытым по отношению к приносимой мне им информации. Еще раз приходится признать, что такой вопрошающий подход и немедленная восприимчивая реактивность на явления своей жизни, которые приносит этот подход, будут, пожалуй, единственным полезным ответом на наш вопрос, если даже сама идея "вопроса" вообще окажется здесь уместной, поэтому я переношу свой подход и сюда - в надежде, что некоторые из присутствующих разделят его со мной.
Итак, мне, пожалуй, следовало бы вначале сообщить вам некоторые сведения о пути, который привел меня сюда; тогда вы лучше сможете судить о том, насколько можно доверять тому, что я должен сказать. В предыдущей главе профессор Нидлмэн говорил о кельтской сказке, в которой двое братьев встречаются на горе; одного тащит вниз на железной цепи черный пес, а другого тянет на золотой нити вверх находящийся где-то выше таинственный журавль. Этот рассказ глубоко заинтересовал и взволновал меня с самого начала, может быть потому, что я сам - кельт, и мои кельтские псы особой породы: они крупнее и чернее прочих, а справиться с ними труднее, чем с большинством других собак.
Разумеется, меня привлекала к изучению психиатрии необходимость найти способ как-то справиться с собственными проблемами. И мой нынешний интерес к подготовке профессионалов душевного здоровья привел меня к убеждению, что такая мотивация не только является обычной для работы психотерапевта, но также, сознательно или бессознательно, оказывается наилучшей при условии, что она приведет профессионала к подлинному, прямому и естественному систематическому изучению самого себя, а не к косвенному подходу к себе через изучение пациентов.
Несомненно, знания, приобретенные мною благодаря изучению психотерапии, как-то помогли мне найти иные взаимоотношения с этим беспокойным животным. Даже до того, как начался мой собственный групповой анализ, первая попытка самоанализа в студенческие годы, основанная сперва на идеях некоторых ваших так называемых "неофрейдистов", в особенности Хорни, Фромма и Салливана, привела пса к началу необыкновенной серии перемен, продолжающихся и до сего времени. Я упоминаю об этом потому, что идеи, способные произвести такое действие, должны обладать некоторой жизненностью. Чувствую, важно прибавить к сказанному, что эти последствия казались связанными с пониманием истинности многих основных концепций фрейдизма, в особенности детской сексуальности и эдипова комплекса; это привело к простому приятию обычной сексуальности и наслаждению ею не только в постели, но и во всех взаимоотношениях, поскольку они пронизаны этой тонкой энергией. Помню также удивительное признание одного обстоятельства, касающегося ноты насилия, которой была проникнута моя семейная история; ее следовало скорее приветствовать, нежели спасаться от нее, как от страшного, не поддающегося приручению животного; это насилие можно было использовать в качестве источника энергии, если бы удалось установить с ним правильные взаимоотношения.
В то время я был агностиком, подлинным и весьма воинствующим атеистом, регулярно помещавшим свои статьи в "Ежегоднике рационалиста". Но случилось так, что я вместе с другими студентами принял участие в качестве объекта исследования в изучении действия препаратов ЛСД, только ставших доступными в Англии. У некоторых из моих товарищей появились ужасные параноидные галлюцинации, которые продолжали преследовать их еще некоторое время спустя. Мой собственный опыт оказался более счастливым: это было восприятие последовательно возвышающихся уровней реальности и сознания, восприятие взаимосвязи и осмысленности всего существующего; все это я сохранил впоследствии как несомненный факт, в точности совпадающий с описаниями мистического опыта и религиозного экстаза, которые я раньше отбрасывал как фантастические. Я увидел, что именно этого искал все время. И хотя я понимал, что наркотики способны дать не более чем проблеск таких возможностей, а потому и не пользовался этим средством повторно, переживание привело меня к глубокому и растущему интересу к -проблеме реальных основ священной традиции.
Мой собственный анализ, явившийся сочетанием группового и индивидуального, имел место через некоторое время после того, как у меня развился этот интерес, так что мое переживание оказалось, пожалуй, несколько необычным - я находился одновременно под влияниями священной традиции и психотерапии. И с того времени я работаю в качестве психотерапевта с индивидами, группами, семьями и институтами, продолжая в то же время искать более глубокий духовный смысл в собственной жизни под руководством учителя.
Что же делает психотерапевт? Конечно, я постоянно убеждаюсь, особенно благодаря знакомствам, приобретаемым на том или ином из традиционных путей, в том, что хотя люди считают нас способными облегчать их страдания при помощи лекарств и суррогатов успокоения, они уверены, что у нас нет возможности добиться подлинной устойчивой перемены в состоянии тех, кто обращается к нам за помощью, такой перемены, которая принесла бы им облегчение. Конечно, это вздор, такая же неправда, как и противоположное утверждение о том, что мы способны Изменить весь мир.
Изменение особого рода, которое часто происходит в результате психотерапии, можно проиллюстрировать открыткой, полученной мною от одной бывшей пациентки. Это была молодая замужняя женщина, лишенная какого бы то ни было устойчивого чувства постоянства, настолько неспособная контролировать свои отрицательные эмоции, что мне было трудно находиться с ней в одной комнате; и я по своей воле не взялся бы лечить ее, если бы она не добивалась моей помощи с большой настойчивостью. Как часто бывает в подобных случаях, она упорно работала и за год добилась необычайного успеха в лечении. Я процитирую полученную от нее открытку, потому что она хорошо передает то значение, какое имел для нее процесс психотерапии:
Считаю нужным сказать самое важное: находясь в общении с вами, я получила огромную помощь в течение труднейшего периода перестройки. Я по-настоящему ношу вас всех с собой и способна без всякого сомнения в себе принимать подъемы и падения с гораздо большим душевным равновесием, нежели раньше. Теперь я могу оставаться более открытой и честной; меня не поглощают и не угнетают сомнения. Я думаю, что никогда не буду жить общепринятой жизнью, однако теперь я способна лучше воспринимать ее реальность, не пугаясь ее и не тревожась из-за нее (полагаю, что здесь скрыт намек на ее бисексуальность); теперь я могу даже наслаждаться ее хорошей стороной. Шлю вам всем большую любовь и горячо желаю постоянных успехов в той работе, какая дала мне способность овладеть собственной жизнью и не чувствовать себя совершенно беспомощной.
Этой типичной психотерапевтической пациентке не удавалось выработать адекватное чувство устойчивости (по Эриксону); в своем раннем семейном окружении она не сумела построить адекватные внутренние "модели" поведения и взаимоотношений, которые впоследствии могли бы служить надежным руководством к действию. Перемена произошла благодаря осознанию имевшихся несоответствующих "моделей"; вместе с тем при помощи психотерапевта и других членов группы она усвоила новые "модели", и это стало как бы своеобразным вторичным корректирующим семейным опытом. Последнее видно с большой ясностью из приведенного выше замечания пациентки, когда она говорит: "Я по-настоящему ношу вас всех с собой".
И вот эта самая пациентка во время терапии не выказала никакого подлинного интереса к более глубокому смыслу своей жизни на нашей планете, которая в это историческое время вращается вокруг Солнца внутри нашей галактики. Обычно те пациенты, которые позднее будут искать духовный путь, дают мне ясные указания на это уже в раннем периоде. Они в какой-то мере более открыты и ранимы, более осознают себя частью всего человечества, частью вселенной, "листьями дерева". Их более беспокоит и глубже интересует смысл собственного существования внутри целого, нежели смысл того, что произошло с ними вчера или в детстве, нежели опасения и надежды по поводу того, что случится с ними завтра. Они ведут себя так, как будто когда-то получили возможность взглянуть вниз с высокой горы; неясное воспоминание об этом зрелище впоследствии приводит их к поискам того, что они уже давно увидели. Такие пациенты проявляют более глубокий интерес к лечению; они также оказываются более интересными для лечения - не в последнюю очередь и потому, что представляют собой более прямой стимул для меня, как личности, и для моей практики, как психотерапевта. Работая с ними, я как бы участвую в совместном предприятии, где подвергаюсь большей проверке и вследствие этого получаю большую пользу для себя.
В некотором пункте - зачастую в поздний период терапии таким пациентам обычно начинает казаться, будто бы я что-то от них скрываю, будто бы я обладаю иного рода пониманием, которое подразумевается во всем, что я говорю и делаю, но не передается прямо. С другими пациентами ничего подобного никогда не происходит. В данном пункте я могу стать более откровенным, хотя всегда в контексте терапии, которая остается моей центральной заботой, а также в контексте уже достигнутого ими понимания. Некоторые пациенты, скажем, те из них, которые были членами какой-либо официальной церкви, возможно, в конце концов опять вернутся к своей вере, но с более зрелым отношением к ней; часто это происходит в раннем периоде психотерапии, когда обратившиеся за помощью отвергают религию, вернее, отвергают детское, магическое отношение к ней. Другие находят собственный путь к учениям Востока, появившимся в Англии; например, некоторые пациенты безо всякой рекомендации с моей стороны ушли в монастырь тибетских буддистов в Шотландии.
Этим я не хочу сказать, что другие пациенты, по крайней мере те, чье лечение оказывается успешным, не вырабатывают у себя более глубокого самоощущения как части чего-то более обширного. Альфред Адлер настоятельно утверждает, что подобная утрата эгоцентризма неизбежно сопровождает любое улучшение психического здоровья и, пожалуй, является самой фундаментальной переменой из всех. Но для меня всегда существовало ясное различие между этими пациентами и теми, - которые не могут забыть однажды пережитый ими иной смысл жизни и ведут себя так, как если бы они были в каком-то Смысле "детьми Божьими".
Почему же вообще смешивают эти два вида исследования? Вероятно, нам следовало бы сначала бросить взгляд на те их черты, которые кажутся общими; ибо именно такая видимость может привести к некоторому заблуждению.
Прежде всего, как в психотерапии, так и в традиции наличествует идея о том, что восприятие человека затуманено и искажено, что он видит вещи не такими, каковы они есть, а какими хочет их видеть. В духовных учениях существует идея сансары, ложного мира видимости, мира теней в пещере Платона, а в психотерапии у нас есть идея защитных средств отрицания, проецирования, идеализации и ухода в фантазию.
Во-вторых, в обоих случаях человека видят в состоянии разделенности; полагают, что его проблемы и его страдания уходят корнями в эту разорванность, в эту невозможность стать целостным и самому позаботиться о себе.
В-третьих, познание себя, благодаря которому он способен найти утраченные части самого себя и опять стать целостным, считается ключом ко вторичному открытию целостности, так что он сумел бы более не оставаться разделенным на "я" и "не-я", не отождествлять себя с некоторыми частями своего существа и не отвергать другие, которые затем проецируются - и воспринимаются в отрицательной форме у окружающих его лиц.
В-четвертых, в обоих процессах ожидается, что такое вторичное открытие и вторичное приятие окажутся болезненными; однако эти процессы считаются горьким лекарством, которое способно в конце концов излечить пациента и привести его к росту. В индивидуальной и групповой психотерапии, в технике встреч и в стимулирующих конфронтациях семейной и брачной терапии мы находим систематическое выявление мысленных ассоциаций или спонтанных эмоциональных реакций, а также и действий в таких ситуациях, когда, несмотря на их содержательный и подкрепляющий характер, невозможно уклониться от решения и рано или поздно приходится признавать истину. Сходные процессы, кажется, происходят во время "раскаянья в грехах", во время приятия всех возникающих в тишине медитации внутренних проявлений, в состоянии открытости по отношению ко внутреннему голосу совести, к чему мы стремимся во время сосредоточенной молитвы. Бессознательное становится сознательным, "я" расширяется до отрицания, проекции уменьшаются, и возвращаются к единству разрозненные части; заблудшая овца оказывается найденной, блудный сын возвращается, и его встречают с приветствиями. Как в духовных традициях, так и в психотерапии можно увидеть, что за этим более глубоким приятием самого себя и более глубокой объективностью следует более ясное восприятие мира и повышение способности понимания.
В-пятых, оба процесса видят человека обладающим скрытыми ресурсами, которые без этого более глубокого познания себя и целостности остаются недостижимыми. Впрочем, масштаб этого скрытого потенциала в различных школах психотерапии воспринимается по-разному; а между психотерапией вообще и духовными традициями в данном вопросе существуют даже еще большие расхождения.
В-шестых, как естественное следствие предыдущих пунктов, большая часть боли и страдания человека в обоих процессах не считается необходимой; это продукт неведенья и слепоты, заблуждения и усложненности, являющихся результатами внутреннего разделения, обмана и хитрости, необходимых для сохранения некоторой иллюзии связности; это интеллектуализация, фантазия; это "персона" Юнга, "я" в обычном понимании; это "идеальный образ" Хорни; то, что Кришнамурти называет "мыслью". Поэтому следует ожидать (и в этом заключается все дело), что отрицательные чувства, страдания и боль, по крайней мере те из них, которые не служат полезной цели, постепенно уменьшатся и исчезнут в течение курса компетентной психотерапии, как и при следовании какой-нибудь священной традиции.
Наконец, в-седьмых, оба процесса требуют, чтобы ищущий находился в регулярном личном контакте с учителем, гуру, психотерапевтом, психоаналитиком или руководителем, который уже прошел через тот же самый процесс, обладает тем же опытом, т.е. кто увидел, понял и принял, по меньшей мере, некоторые аспекты самого себя, избавился от какой-то части собственной разорванности, заблуждений и искаженных восприятий, а потому, будучи способным воспринимать ищущего более объективно, мог бы, в свою очередь, помочь ему сделаться более объективным по отношению к самому себе.
Как мы видим, здесь между этими двумя видами исследования существует значительное кажущееся совпадение; и я думаю, что нас можно будет извинить, если мы впадем в некоторое заблуждение, по крайней мере на начальных ступенях. Мой личный опыт, однако, привел меня к убеждению, что эти два пути лежат если не в противоположных направлениях, то, во всяком случае, в совершенно различных измерениях, и нам нужно искать гораздо более тонкие взаимоотношения между ними. Намек на это содержится в сказке о двух братьях, о золотой нити и черном псе, а также в идее о третьем брате, возникающем из их родственных связей. Взглянув на некоторые сходные черты в обоих этих путях, суммируем теперь и некоторые различия, которые, как я полагаю, не просто превышают, а неизмеримо превышают сходство.
Во-первых, все священные традиции начинаются с идеи упорядоченной и разумной вселенной, где центральное место занимает идея иерархии, где каждый уровень связан с другими взаимной зависимостью. На этой шкале бытия место человека оказывается очень низким, хотя и строго определенным; а сам человек служит целям, превышающим его собственные и необходимым для всей структуры в целом.
Во-вторых, в священных традициях предполагается, что человек имеет возможность выбора одной из двух целей, которым он может служить в этом великом замысле - Богу или кесарю; обыденному миру видимости или более реальному миру, скрытому за ним; своим естественным влечениям и желаниям или внутреннему голосу, совести, которая вступает в противоречие с этими его влечениями и желаниями, - одним словом, черному псу или золотой нити. Традиции говорят нам, что в нашем нынешнем состоянии развития все мы служим природе - бессознательно, как трава питает корову, а ее навоз, в свою очередь, снова питает траву; наша иллюзия власти и свободы, наши фантазии о самих себе и о человечестве укрепляют нас в этом состоянии - точно так же, как вьючное животное, приводя в действие примитивный насос, бесконечно движется по кругу, удерживаемое на своей работе прикрепленным к спине шестом и шорами, не позволяющими видеть свое истинное печальное положение. Но традиции говорят нам, что внутри схемы вещей для некоторых людей имеется также возможность пробудиться по отношению к ситуации и усмотреть еще одну возможность, другую задачу, которую они могут выполнить, другое влияние, которое, если они смогут ему подчиниться, освободит их до некоторой степени от слепоты и рабства повседневного существования. Хотя они все еще должны жить на земле, у них начинает складываться связь с небом. Для человека, пробужденного к этой иной сфере, становятся доступными более высокие энергии и более тонкий разум; и они начинают изменять все цели и весь смысл его повседневной жизни, хотя последняя продолжает течь как раньше, и особая перемена в ней может сделаться лишь слегка различимой для тех, кто еще ходит по кругу, вращая колесо и погрузившись в свои сновидения. Еще приходится служить кесарю; но служение Богу целиком и полностью преображает даже это земное служение; жизнь становится бесконечно богатым источником познания и опыта, которые начинают питать новую жизнь, растущую подобно дитяти внутри личности, призванной к такому новому служению.
Так вот, идея подобного рода не является частью ординарной психологии, как бы мы ее ни называли - "научной" или "гуманистической". Хотя последняя, возможно, признает некоторые из переживаний, называемые "религиозными" или "мистическими", выказывает к ним более серьезный интерес, человек все еще рассматривается ею как центр вещей, его обычные желания, стремления, надежды и планы, эгоистические или альтруистические, принимаются за чистую монету и используются как базис для действия, для планирования утопий и эвпсихий. Здесь нет никакого представления о второй цели, которой мог бы отдаться человек; а потому не может быть подлинного исследования вопроса о том, не оказывается ли первая иллюзорной. Таким образом, ординарная психология становится еще одной разработкой самого заблуждения, создавая еще одни шоры, еще одно кольцо, продетое в ноздри, еще одну "надежду", чтобы удержать нас на привязи у вращаемого нами колеса.
В-третьих, - и из этого следует все остальное, возможность признания и начало понимания смысла священных традиций начинаются с разочарования в обычной жизни, в своем обычном "я", в ординарном знании. Только после удаления этих шор, после того, как мы увидим, что все время ходим по кругу, мы обретаем надежду на избрание другого направления. Мы должны увидеть, что жизнь нигде Не протекает так, как мы это раньше воображали, что она никогда не шла таким путем и никогда им не пойдет. Увидев прямо данный факт, мы способны уяснить себе, что невозможно избежать повторения нашего обычного уровня без помощи со стороны другого человека. Придя к неверию в свою обычную мысль и в свои эмоции, мы таким образом делаемся достаточно спокойными и открытыми для того, чтобы достичь более глубокой, более фундаментальной части самих себя, где существует иная энергия, иная сознательность; там можно установить связь с ними, поскольку мы на мгновенье оказываемся доступны для подобной связи. Таким образом, нам следует начинать с точки неудачи, отказаться от собственной оценки своей обыденной жизни и своей личности и дать возможность постепенной замены этой личности чем-то другим, сперва совсем непохожим на нас самих. Пробудившись, мы должны умереть, чтобы вновь родиться.
Так разве ординарная психология не ведет скорее к возрастанию нашего повседневного "я", не делает его, может быть, более действенным, более плодотворным, более приятным и менее противоречивым, но все еще тем самым образованием, только написанным более крупными буквами, с теми же самыми желаниями, только получившими удовлетворение вместо разочарования? Несомненно, ординарная психология стремится улучшить "я" в соответствии с идеями обычного "я", она вряд ли будет стремиться разрушить это "я".
В-четвертых, в силу самого своего определения, священные традиции, если они вообще представляют собой что-нибудь, являются проявлением высшего уровня, о котором они нам говорят; здесь пункт, в котором эти уровни действительно касаются друг друга. И, может быть, потому, что они способны соприкоснуться друг с другом только внутри самого человека, они были переданы нам цепью индивидов, по-настоящему проявивших в части своего существа (а не просто что-то знавшими об этом) ту возможность, которой и посвящены эти традиции. А отсюда следует, что между путями существуют два главных различия. Одно - это идея о том, что традиция существовала всегда, с самого начала известного времени, что она просто распространяется в мире через передачу по человеческой цепи, что ее влияние расширяется или сокращается от одного периода к другому, а средства выражения приспосабливаются к преобладающим формам мышления и ординарному знанию данного момента, хотя всегда сообщают ту же самую существенную истину. Во всяком случае, понимание разрушается, по мере того как оно расходится все дальше от учителей подобно ряби на воде. Эта мысль совершенно отлична от идей ординарной психологии, где знание представляется прогрессивно развивающимся, а его развитие, пожалуй, начавшимся с Месмера и гипнотизеров XIX века и идущим через труды новаторов Жане, Фрейда, Адлера и Юнга к достижениям сегодняшнего дня. Для ординарной психологии наше время есть время необыкновенного просветления и прогресса; для священных традиций оно более напоминает эпоху тьмы.
Пятое различие, которое также вытекает из только что сказанного, касается взаимоотношений между учителем и учеником. Ординарный психотерапевт, конечно, признает существующую разницу в авторитете между собой и своим пациентом, основанную на возрасте, опыте, знании и уменье; но здесь предполагается, что это различие изменится в курсе лечения; пациент достигнет зрелости, появится надежда на то, что "перенос" рассеется; у пациента может остаться некоторое уважение к психотерапевту, какая-то благодарность; но постоянная зависимость от авторитета психоаналитика и безоговорочное его приятие справедливо считаются указанием на неполноту излечения. В противоположность этому в священных традициях учитель являет собой в некоторой части своего существа действительное проявление более высокого уровня; а поэтому строго иерархические взаимоотношения между учеником и учителем не только необходимы, но, поскольку предполагается, что человеческая цепь тянется по всему пути вверх, к самой вершине горы, они, вероятно, соответственно продолжаются до бесконечности. (Относительно этого различия я менее уверен, нежели относительно других. По существу оно должно быть именно таким; все же я полагаю, что и в обоих видах изменений происходят аналогичные процессы.)
Вкратце отмечу и другие различия. Наиболее важное это различные точки зрения на сознание, выраженные профессором Нидлмэном. Следуя так называемому "археологическому" пониманию сознания, наша ординарная психология склонна предполагать, что мы уже обладаем светом сознания, а некоторые части нашего существа похоронены в глубинах психики; необходимо отыскать их, вновь возвратить на свет, после чего они останутся, по крайней мере, потенциально доступными. Предполагается, что этот свет уже зажжен, во всяком случае, пока мы не спим и движемся, а его яркость и непрерывность не подвергаются слишком большим сомнениям. В противоположность такой точке зрения великие традиции выражают открыто или намеками ту идею, что сознание человека гораздо более ограниченно, неустойчиво и иллюзорно, чем сам человек это обычно представляет себе, что даже для придания ему большей устойчивости - не говоря уже о расширении - требуются настойчивые усилия в необычайном количестве. Для традиций сознание более похоже на свет, питаемый динамо-машиной, которая, в свою очередь, приводится в действие колесом велосипеда: чтобы сохранить его яркость, нужно постоянно крутить педали, а чтобы он светил ярче, крутить их необходимо быстрее. Разумеется, верно, что идеи о необходимости усилий и работы для деятельности внимания и сознания, как и идеи о более тонких уровнях энергии, порождаемых усилиями более устойчивого внимания, и их способности автоматически привести к реинтеграции разрозненные элементы психики, - все это представлено в трудах Жане, французского психолога, во многих отношениях предвосхитившего идеи Фрейда. Но Жане был тогда религиозным человеком, и то, что Фрейд затмил его, оказалось, несомненно, другим следствием общих воззрений эпохи.
Если мы согласимся признать разумный характер этих различий, такой подход, на мой взгляд, приведет нас к другой точке зрения на психотерапию и священную традицию: мы увидим в них различные измерения, расположенные под прямым углом одно к другому; их фундаментальные цели по своей природе совершенно не могут совпадать. Психотерапия относится к обычной жизни, к развитию человека, так сказать, по.горизонтальной линии времени от рождения до смерти. Как врач занят противодействием угрозам для жизни и отклонениям от нормы в развитии тела, так и в функции психотерапевта (первоначально развившейся внутри функции врача и все еще наиболее прочно на ней основанной) можно видеть задачу предотвращения угрозы психологической стабильности, устранения препятствий и помех, появляющихся в процессе роста, когда человек переходит от зависимого положения ребенка к сравнительной автономии и самостоятельности взрослого. Для этого психотерапевт стремится привести пациента к таким переживаниям, которых не хватало в его истории, в особенности к таким, которые отсутствовали или подверглись искажению в раннем семейном окружении.
Священные традиции начинаются на горизонтальной линии времени; однако они обращены к совершенно другой, вертикальной линии развития: это постоянное осознание человеком цепи взаимного преображения и обмена между уровнями более высоких сфер, связь с этой цепью и служение ей; выполнение такой функции некоторыми представителями человечества кажется необходимым для космического замысла. Здесь налицо аналогия с физической сферой, где человеку приходится передвигаться по горизонтальной, двухмерной поверхности Земли, если он вообще желает выжить; однако он не обязан летать и существовать в трехмерной атмосфере, хотя при желании способен делать это, обнаруживая, что пребывание в иной сфере вызывает последствия, влияющие и на его повседневное существование.
Если оба эти начинания фактически совершенно различны, тогда смешивающие их формы психотерапии могут оказаться гораздо более вредными для возможности духовного развития, нежели те, которые совсем не признают существования традиций. Так, я уверен, что идеи, предложенные такими людьми, как Маслоу, Фромм, Роджерс и многие руководители "движения встреч", могут с одинаковой легкостью и помочь людям увидеть свое действительное положение, и помешать этому. Верно, что эти системы действительно способны стимулировать желание достичь такого понимания, какое в силах принести только традиции; и я благодарен им за то, что все они помогли мне лично. Но поскольку они смешивают уровни, они создают опасность, ибо по существу предлагают полу истину, а не реальную вещь, способную утолить этот более глубокий голод; такой подход не приводит к чему-то более подлинному и даже просто увеличивает привязанность к обыденному "я". Так же и Юнг, хотя он по контрасту с этим ужасным Зигмундом Фрейдом вызывает такое восхищение у людей религиозных убеждений, предлагает, как мне кажется, особенно тонкий соблазн - именно по причине глубины и качества его личного понимания, соединенного с фундаментальным смешением психологии и священных традиций, психики и духа.
Вот почему, когда я не могу найти хорошего психотерапевта-эклектика (в смысле такого практика, который стремится связать воедино наилучшие элементы разных школ), я склонен направлять пациентов к компетентным психоаналитикам-фрейдистам - при условии, что они окажутся агностиками, а не воинствующими атеистами и будут свидетельствовать качеством своей жизни, что являются достойными и ответственными людьми. Ибо я нахожу, что лучшие фрейдисты по крайней мере чувствуют твердую почву под ногами, вместо того чтобы витать головой в облаках; это хорошее начало для того, кто хочет предпринять надежное путешествие по поверхности земли. Имея в виду прежде всего и в первую очередь развитие обычной компетентности в устройстве жизни, формирование ответственных взаимоотношений, наслаждение сексуальностью и другими естественными влечениями, воспитанием детей и вообще адекватным подходом к жизни, они помогают установить прочное основание, на котором может развиться интерес к более глубокому смыслу жизни.
Итак, теперь эти различия представляются нам достаточно ясными, и нелегко понять, как это мы могли когда-либо смешивать два столь разных рода развития. В данном пункте мы все можем ощутить удовлетворение. Последователи священных традиций могут успокоиться: они, в конце концов, не нуждаются по-настоящему в этом анализе, который как будто столь значительно улучшил жизнь их соседа. Также и психотерапевт может облегченно вздохнуть, удовлетворившись наконец тем обстоятельством, что люди, следующие традиционному пути, живут в действительности в нереальном мире и лучше всего предоставить их собственным заблуждениям. Я могу успокоиться на том, что в какой-то мере ответил на вопрос профессора Нидлмэна, поставленный в предыдущей главе. Будь я умнее, я устроил бы дело так, чтобы можно было остановиться на этом месте и спокойно отправиться домой еще до того, как в этом здании появятся трещины и все оно развалится на куски.
Но боюсь, что, если мы пойдем дальше, эта простота исчезнет. Даже несмотря на то, что я уверен в правильности сказанного, пока речь идет о первоначальном подходе, мы начинаем видеть, что перед нами встает еще один важный вопрос - о взаимоотношениях, существующих в том пункте, где встречаются оба эти измерения, на перекрестке внутри каждого человека, где линия времени пересекается с линией вечности, с ее уровнем или масштабом. Подходя к этому вопросу, я нахожу, что мне необходимо пересмотреть многие факты, по крайней мере значительное число наблюдений, в которых я не могу более сомневаться.
Первый факт состоит в том, что многие люди, становясь последователями какой-то священной традиции, глубоко меняют свое отношение к укладу повседневной жизни; благодаря этому большинство проблем, которые в другом случае могли бы привести такого человека к психотерапевту, просто растворяются, подобно льду на солнце, исчезают без каких бы то ни было систематических попыток измениться; это происходит в силу влияния какого-то более тонкого, более неуловимого фактора, который начинает проникать внутрь всего организма и изменяет его.
Во-вторых, я отметил, что люди, следующие таким традициям, как будто становятся более замкнутыми, узкими и нетерпимыми как к другим людям, так и к собственным скрытым аспектам. Будучи профессионалом, я вижу, что эта группа оказывается самой недоступной и неизлечимой из всех, потому что знание, взятое из какой-нибудь религиозной традиции, поставлено у них на службу защитным механизмам апперцепции, самодовольства, нарциссической самоудовлетворенности, успокоенности и безопасности.
В-третьих, трудности работы с этими индивидами только равны тем трудностям, которые встречаются у людей, аналогичным образом злоупотреблявших идеями и техникой психотерапии. За исключением только что упомянутой группы никакие пациенты не представляют таких трудностей для лечения, как психоаналитики, в особенности те из них, которые уверены, что уже прошли "полный анализ" (какое замечательное выражение!).
И в-четвертых, другие пациенты психотерапии, в особенности пациенты психотерапевтических групп - групп встреч на ранних стадиях, до того как они станут новой игрой, - могут достичь пункта просто открытости, осознания себя частью человечества и вселенной, пункта прямого общения с другими людьми; и это общение осуществляется у них с большей интенсивностью, нежели у многих последователей какого-нибудь традиционного учения, - по крайней мере, насколько об этом можно судить по заявлениям и внешнему поведению каждого из них. Конечно, это достижение не является постоянным и его нельзя осуществлять систематически; однако в опыте психотерапии оно нередко оказывается налицо, иногда внушая своим появлением благоговейный страх; и мы должны оставить для него место в своих идеях.
Написав эту часть статьи, я остался недоволен ею и не мог продолжать ее, пока не увидел, что, за отсутствием какого-либо реального вопроса к самому себе, я решил, что должен принадлежать к первой или четвертой группе, а вторая и третья состоят из других людей. Но мгновенное размышление показало мне, что я являюсь членом всех четырех групп, что главные препятствия для меня - это как раз те, которые коренятся в злоупотреблениях таким профессиональным или религиозным пониманием, каким я обладал. Злоупотребление совершалось для того, чтобы сохранить или укрепить свой повседневный образ самого себя. И я вижу, что это справедливо по отношению ко всем нам; этот факт - в порядке вещей.
Как в обыденной жизни, так и в своих поисках ее реального, но скрытого значения я живу с наибольшей полнотой и ближе всего к источнику и смыслу своего существования именно тогда, когда оказываюсь открытым по отношению к непосредственному переживанию, восприимчивым к тому, чему оно способно меня научить, уязвимым для его воздействия, меняющего мое существо. В этот момент, когда я не уверен ни в чем, я тем не менее глубоко уверен в возможности понимания. Тогда мои действия возникают с наибольшей искренностью из глубины моего собственного существа, хотя у меня нет никакой предварительной идеи о том, что я проявлю. Подобно воде, бьющей из родника, я оказываюсь новым в каждое мгновенье, чудесным образом появляясь из какого-то источника, скрытого глубоко внутри почвы моего существа.
В следующее мгновенье я уже утратил это движение, эту свободу, эту постоянно обновляющуюся жизнь; и вот я опять стараюсь поступать правильно, быть хорошим, знать, изменяться, быть нормальным, добиваться успеха - или, напротив, быть плохим, недовольным, патетической жертвой трагической неудачи; но так или иначе, а я всегда стараюсь сохранить какое-то переживание, подобно бабочке, умерщвленной эфиром и пришпиленной к доске; в этом процессе я теряю все, что вызывало у меня желание уловить переживание в его первоначальной форме. В поисках безопасности, надежности, веры для поддержания самого себя я привязываюсь к своему переживанию, чтобы сохранить его, но обнаруживаю, что держусь только за мертвые остатки живого процесса, который уже изменился и движется в другом направлении. Неудивительно, что я нахожу свою жизнь бесцветной, тусклой, плоской и утомительной, нуждающейся во все возрастающей искусственной стимуляции, чтобы возвратить меня к какому-то чувству бдительности.
Уяснив этот факт, я понимаю, что мне необходимо жить ближе к истокам этого внутреннего родника, как-то удерживать себя в пункте, где его "живая вода" изливается в видимый мир. Я могу понять, что течение постоянно уносит меня к более поверхностным проявлениям, которым эта энергия дает начало, когда вытекает из своего истока. Увидев это, я смогу начать плаванье против течения, начать борьбу за то, чтобы оставаться ближе к источнику, где моя жизнь постоянно оказывается обновленной; там я способен не проявлять старания держаться за вещи из опасения утонуть, там я способен понять, что бесформенность и бесконечные изменения, от которых я отшатываюсь, суть условия самой подлинной жизни.
Если мне удастся понять всего лишь свою настоящую ситуацию и благодаря этому ослабить привязанность к формам, которые принимает моя жизненная энергия в дальнейшем движении из своего источника, я смогу обнаружить, что помню этот источник; и это воспоминание приносит с собой желание опять найти его. Тогда я обнаруживаю, что плыву против течения с целью вновь обрести источник любви и радости. Мне нужно только освободиться из-под власти гипноза на достаточно долгое время, чтобы вспомнить то, что я утратил.
Следовательно, я нахожусь посредине, между скрытым источником моей жизни и ее проявлениями в этом мире; следовательно, мне необходимо бороться за то, чтобы не отрицать ни то, ни другое. Если я забываю об источнике, я плыву по течению в сторону нарастающей повторяемости; а если я забываю о природе самого потока и о его постоянном тяготении вниз, я начинаю воображать, что уже нахожусь у источника, вместо того чтобы чувствовать его и плыть к нему; таким образом, я опять плыву по течению. Только когда я постигаю свою природу как творение двух миров, я раскрываю полный потенциал своей жизни, в котором мне необходимо вечно жить между этими двумя точками.
И вот это немедленное переживание своей жизненной энергии может быть вызвано многообразными событиями. Его может создать живое и глубокое эмоциональное переживание такое, как смерть любимого человека, рождение ребенка, иногда половая любовь, великая красота, боль, событие мирового значения. Наркотики, подобные ЛСД и мескалину, также могут дать ощущение такого переживания благодаря своей способности разрушать защитные механизмы и освобождать эмоции; то же самое способна сделать психотерапия, пожалуй, лучше всего техника встреч и приемы гештальт-психологии, рассчитанные на высвобождение самых примитивных, подобных детским, эмоций.
Однако без более глубокого знания течение несет нас вниз, а мы воображаем, что все еще живем в зените, тогда как фактически переживание деградирует, копируется, повторяется, уходит в область фантазии. Тогда нам нужны увеличенные дозы более сильных стимулов, более широкие группы, новая техника, способные вывести нас из сновидений. Если фактически в этом и заключается все дело, здесь, по крайней мере, скрывается объяснение того обстоятельства, почему лица, подвергающиеся анализу, в течение некоторого времени кажутся более открытыми и реальными - но лишь для того, чтобы по окончании процесса анализа стать еще более скрытными, чем другие, особенно если в этом процессе присутствует профессиональный интерес, стремление продемонстрировать хорошие результаты. Многие заметят совершенно такой же процесс и среди последователей священных традиций чудесную открытость и простоту у молодых людей, только начавших практику, и постепенное разрушение этих качеств у тех, кто начинает "знать"; там эти качества перерастают в самодовольство, ригидность, бездумное повторение формул; и под воздействием этих изменений люди перестают жить.
Пожалуй, именно здесь находится место семьи и общества, как "средней зоны", которые вместе с необходимостью повседневной работы и усилий становятся жизненными факторами, что и подчеркивает Нидлмэн. Потому что наша естественная склонность плыть по течению жизненной энергии в сторону все возрастающей степени омертвения и ритуализации ее проявлений - или, выражаясь иначе, наша предрасположенность к превращению подлинного переживания в фантазию, к последующему повторению этой фантазии, так что жизнь становится не только серией второразрядных кинофильмов, но даже тем же самым второразрядным фильмом, повторяющимся снова и снова, - эта склонность так сильна, что мы нуждаемся в дисциплине усилия, которое убедило бы нас - благодаря постоянно переживаемой неспособности плыть против любого течения - в том, что мы всегда плывем по течению. И для этого нам также необходима дисциплина группы близких людей, хорошо нас знающих и достаточно любящих, чтобы требовать от нас обычного усилия, которые напоминали бы нам о действительных фактах, когда мы уносимся слишком далеко от своего реального "я" и начинаем жить в сновидениях и эгоистических фантазиях, которые требовали бы от нас, чтобы мы оказывались не менее чем обычными мужчинами и женщинами, выполняющими свои повседневные обязанности. Ибо если мы не будем по крайней мере такими людьми, как можно нам надеяться стать чем-то большим? Тут, как я уверен, психотерапия найдет свое настоящее место, прежде всего облегчая нам функции семьи и внешней дисциплины, оказывая поддержку групповому опыту или создавая ему замену, когда он отсутствует. Опираясь на эту почву, священная традиция получит некоторую возможность вернуть нас к источнику нашей жизни.
Глава 3
Джек Корнфилд, Рам Дасс, Мокусэн Миюки
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ - НЕОСВОБОЖДЕНИЕ
Джек Корнфилд - посвященный буддийский монах-тхеравадин; в течение трех лет находился в Таиланде; сейчас учит медитации випассана в центрах уединения по всей стране. Директор Общества медитации випассана в Барре, штат Массачуссетс; имеет степень доктора психологии; автор книги "Живые мастера буддизма".
Рам Дасс (он же Ричард Альперт) - преподавал психологию в Стэнфорде и Гарварде; учитель и ученик в области индийской мысли. Среди его книг: "Будь здесь и сейчас", "Это только танец", "Это выгодно!"
Мокусэн Миюки - заместитель профессора по исследованию религий в Калифорнийском государственном университете в Нортридже, профессионал-психоаналитик школы Юнга.
Председательствующий: Сегодня вечером нам хотелось бы представить на обсуждение группы вопрос о том, можно ли считать психологический рост однозначным духовному росту.
Корнфилд: Я бы начал дискуссию с перспективы Абхидхармы, буддийской традиции аналитического понимания, которая описывает духовный процесс как преобразование некоторых душевных факторов, или качеств ума. Модель Абхидхармы в своих главных компонентах довольно проста. Согласно ее описанию, наш мир, наши переживания состоят из трех частей. Во-первых, существует сознание, или такое качество ума, которое познает различные объекты. Во-вторых, чувственные восприятия - зрение, слух, вкус, запах, телесное ощущение и умственное восприятие, которое Абхидхарма также относит к органам чувств. Третий компонент это вся категория качеств, называемых душевными качествами, которые определяют, каким образом каждый момент сознания связан с переживаниями зрительных образов, звуков и т.п. В буддийской психологии духовная практика состоит из технических приемов, ведущих к изменению преобладания этих душевных факторов - от привязанности, отвращения и неведенья к качествам внимательности, или осознания, сострадания, любящей доброты, великодушия и душевной уравновешенности. Эта перемена характера душевных факторов начинает изменять и способ нашей связи с переживаниями от мгновенья к мгновенью. С этой точки зрения между психологическим и духовным ростом подлинной разницы нет. Наши различные виды переживаний предопределены разными качествами, присутствующими в уме, которые возникают в связи с нашими переживаниями. В этой перспективе обо всех разнообразных традициях религии и психологии можно судить по их способности создавать те факторы ума, которые более полезны или искусны, которые дают возможность ясно видеть и понимать вещи такими, каковы они есть в действительности.
Миюки: Если вы говорите о буддийской традиции в понятиях психологической теории, вы, вероятно, получаете некоторые интересные картины, пригодные для игры ума. Вы можете придавать внешнюю форму этим внутренним реальностям и душевным факторам, анализировать их полезную или вредную природу, а затем рассуждать о том, как преобразовать эти вредные душевные факторы в полезные. Но, вообще говоря, это лишь игры экстраверта, и они не решают вопроса о личности, или сознании "я". Я считаю гораздо более важным спросить о том, где находится индивид во всех этих исследованиях и преобразованиях. Точнее, где же находится "я"? Где нахожусь я сам? Рассматриваемый под этим углом психологический рост в западном понимании может оказаться неприменимым к буддийским традициям, хотя духовный рост может им соответствовать. Духовный рост может заключать в себе все фазы жизни: рациональный и иррациональный ее аспекты, чувственные впечатления и силу воли. Все они включены в некоторый континуум из различных фаз жизни. В этом смысле духовный рост гораздо более важен и гораздо более широк по своему размаху, нежели рост психологический.
Рам Дасс: До сих пор ответы отражают некоторую путаницу в вопросе о том, что означает слово "психологический" и что - "духовный". Джек ясно истолковал психологию в самом буквальном смысле - как изучение ума; и он прав, говоря, что она не является антитезой духовного роста. Однако в рамках современной культуры Запада психологический рост представляет собой нечто совсем иное. Психотерапия, как ее определяли и практиковали такие люди, как Эриксон, Маслоу, Перлз, Роджерс, неофрейдисты или неоюнгианцы, в конечном счете не выходит из границ природы структуры "я". Кажется, что они по-настоящему сосредоточены на развитии функциональной структуры "я", при помощи которой вы способны эффективно и адекватно действовать внутри существующей культуры. Они весьма немного говорят о том, как глубоко вы отождествлены с этой структурой "я".
А вот духовный рост имеет дело с отождествлением со структурой "я"; и в данном вопросе между так называемым движением психологического роста в Америке и духовными движениями налицо значительное расхождение. Психологию более всего интересует приспособленность к миру, счастье и удовольствие. Психология считает несчастье отрицательным состоянием, а счастье - положительным; тогда как Будда начинал с положения о том, что все существование - это страдание.
Корнфилд: Частично путаница между духовными и западными психологическими традициями может возникнуть вследствие кажущегося сходства в методах обучения. Способ применения некоторых методов или средств в западной психологии может помочь людям обрести равновесие; но, к несчастью, эти методы и средства не обладают глубиной, свойственной духовной практике. В западной психологии, какой я могу ее увидеть, преобладающий упор делается на те качества, которые известны в Абхидхарме как анализ и исследование; это справедливо даже по отношению к лучшим традициям осознания, таким, как гештальт-психология, где люди обращают весьма пристальное внимание на свои внутренние процессы, как бы вглядываясь в них. Но все же и здесь наблюдается полное пренебрежение к рассекающей силе самадхи, к тишине ума в состоянии медитации, достигаемой при помощи глубокой сосредоточенности и внутреннего созерцания. Таким образом, большое число психологических средств, сходных с духовными техническими приемами, приносят иные результаты, потому что эти средства не проникают глубже поверхности ума. Им не хватает других важных аспектов сосредоточенности, спокойствия и душевного равновесия, которые придают осознанию силу рассечь невротическую поспешность. Будда сравнивал явления с движущимися картинами, которые проходят мимо нас так быстро, что нам необходимо чрезвычайно развитое внимание, чтобы заметить, как на экране возникает всего лишь одно маленькое изображение, сразу же сменяемое другим. Западная психология в своих исследованиях не достигла подобной глубины и проницательности. Вместо этого она занята проблемой приспособленности личности. Это как если бы вы, взбираясь на гору, остановились на малой высоте: перед вами откроется обзор лишь небольшого пространства полей и лесов; у вас нет возможности увидеть весь ландшафт в целом. Точно также в западной психологии вы не видите, кто вы такой по отношению ко всему прочему.
Председательствующий: С другой стороны, разве нередко не бывает так, что само это качество самадхи, отличающее психологические методы от духовной практики, становится чрезмерно развитым по отношению к аналитической способности? Это случается у западных практиков медитации, которые в своей повседневной жизни не ощутили достаточного спокойствия. Самадхи, таким образом, становится новой игрушкой и способом обойти вопрос о личности. Когда самадхи оказывается очень сильным, тогда на самом деле личности нет. И это переживание делается чудесным способом уйти от борьбы личности в этом мире. Существует ли в духовной практике того типа, которому учат в Америке, что-нибудь такое, что возвращало бы медитирующего к его личности, чтобы он мог развязать те узлы, которые остались просто нетронутыми?
Корнфилд: Именно это и делает хороший учитель. Вы достигаете самадхи; и вот когда вы пришли к нему, все, за что вы держитесь или чего избегаете, выводится на свет в обстоятельствах взаимоотношений между учителем и учеником. По самой сути своей ваш вопрос указывает на необходимость равновесия. Как на Западе делается чрезмерный упор на аналитический процесс при недостаточном внимании к глубине ума, точно так же и на востоке величайшая опасность буддийской практики состоит в захваченности спокойствием или состояниями блаженства и сосредоточенности - при отсутствии значительной мудрости проникновения и способности к исследованию. В действительности нам необходимы оба эти качества.
Миюки: В практике дзэн-буддизма вас побуждают к тому, чтобы вы выполняли все свои повседневные дела приготовление еды, уборку помещения, работу и т.п. - с умом в состоянии самадхи. Самадхи никогда не отделяется от человека.
Что же касается рассмотрения личности, то я полагаю, что нам тоже требуется какой-то особый ум. Так вот, каким образом он достигается? Только ли при помощи самадхи во время практики медитации? Или же его можно достичь каким-то другим методом? Мне хотелось бы утверждать, что это возможно также и при, помощи других способов; таков мой опыт в области юнгианского психоанализа, который действует на основании убежденности в универсальном характере человеческой жизни и человеческого ума.
Корнфилд: Есть несколько подступов к этому вопросу. В понятиях абсолютной перспективы буддизма все проблемы возникают из ошибочного представления о "я", из неспособности проникнуть сквозь иллюзию "я". Но многое из того, о чем я услышал сегодня вечером, возникает на более относительном уровне. Я чувствую, что ко многим таким проблемам нам необходимо подходить на этом же уровне, более практически. Из приходящих в мои приюты для медитации я отсылаю к психотерапевтам совсем немногих - притом к психотерапевтам, известным мне как хорошие специалисты, обладающие также некоторым духовным пониманием и перспективой. В то же время я полагаю, что в данном вопросе имеется нечто очень легкомысленное. Произошел такой взаимный обмен понятиями между духовной практикой и психологическим ростом и движениями человеческого потенциала, что в психологическом мире, по крайней мере, преобладает представление о том, что западная психология фактически способна привести вас к тому же уровню, что и духовная практика. Полагаю, что на самом деле такое предположение весьма опасно. На основании собственных наблюдений за тем, как действуют приемы психологической техники, я вижу, что, хотя они способны привести к какому-то очень полезному росту и преобразованию, они не вырабатывают у человека глубинного прозрения, которое помогло бы ему проникнуть сквозь более глубокие слои иллюзий и галлюцинаций относительно индивидуальной отдельности; они также не создают пространства для того, что мы могли бы назвать мистическим пониманием мира. Это полезные технические средства; но нужно со всей полнотой установить их ограничения; иначе люди могут попасть в них, как в западню.
Рам Дасс: Мне хотелось бы поддержать то, что сказал Джек относительно психологических систем, пользующихся духовной терминологией, как бы захватывающих ее. Направляя эту терминологию в сторону мирских целей, они концептуально закрывают двери перед многими людьми, способными на дальнейшее движение в духовной области, но нуждающимися для этого в гораздо более глубоких практических методах. Вместо этого им даются ярлыки, такие, как "просветление", фразы: "я свободен", "я достиг этого". А я говорю: "Это - не то". "Это" не имеет ничего общего с "тем". Думаю, что рано или поздно нам придется иметь дело с такими вопросами; и нам необходимо сохранять некоторую перспективу, видеть разрыв между этими двумя целями.
Председательствующий: Рам Дасс, а что вы скажете о такой личности, как ваш собственный учитель, Махараджи? Вы часто его описывали, и он кажется не вполне нормальным с точки зрения любой западной модели нормального поведения. Кажется, что западные психологические понятия приспособленности и здравого смысла представляют собой весьма светские определения. Этот вопрос восходит к самому сердцу той эквивалентности, которую психологические движения устанавливают с духовными движениями. Может быть, их цели и задачи фундаментально различны?
Рам Дасс: В значительной степени так оно и есть. Я не думаю, чтобы духовные движения проявляли глубокую озабоченность по поводу психологического здоровья. Они видят в нем нечто преходящее, видимость. Большинство высоких духовных существ по меньшей мере невротики, если вообще не такие личности, у которых "не все дома". Вы отправляетесь в Индию, чтобы увидеть учителя Муниндру, а он носит шапку со смешными наушниками; у Махараджи всегда спадают штаны. С психологической точки зрения все их поведение оказывается совершенно непонятным. Прочтите, например, о недавнем святом Рамана Махариши - как он сидит на земле и по нему ползают муравьи. Вообразите, что эту сцену наблюдает психиатр. Мне кажется, что с духовной точки зрения быть помешанным значит держаться за что-то; именно привязанный ум безумен. Такое понимание весьма отлично от западного понимания здравого смысла.
Миюки: В наши дни антропологи остро сознают, что мы по-настоящему судим о других в зависимости от контекста нашей культуры. Если а Индии вы становитесь санньясином, бродячим нищим, к вам относятся с уважением; а здесь у вас возникнут неприятности с властями. Так же и в Японии отношение к душевнобольным несколько отличается от здешнего. Тая душевное заболевание понимается в смысле "ки", т.е. потока внутренней энергии человека. Мы говорим: "первоначальное 'ки'", "ки", "айкидо". "Ки" - это как макрокосмическая. так и микрокосмическая сила; она не дифференцирована. Она может быть духовной; может быть психической или физической. Душевная болезнь - просто коагуляция "ки". Поэтому, когда я сужу о других, я делаю шаг назад и говорю: "Ах, мое 'ки' и его 'ки' не могут соединиться в том месте, где я хотел бы быть с ним", - вот и все.
Председательствующий: Может быть, участники дискуссии отклонились от более трудного вопроса, рассматривая очень простые случаи черно-белого контраста между здравым смыслом и безумием? А что вы скажете о том сером пространстве невроза, где мы в большинстве своем проводим время? Иными словами, можете ли вы медитировать, если вы чувствуете влечение к собственной матери?
Корнфилд: По совести, не знаю, что сказала бы об этом моя мать. Я вижу ограничения этой духовной практики, столь ясно указанные Рам Дассом. Многие люди оказываются захваченными своими собственными неврозами. Однако в течение духовной практики я наблюдал также и то, что мы назвали бы психологическими преобразованиями, когда люди в возрастающей степени до самой глубины осознают различные стереотипы мотивации разного рода привязанностей, многочисленные образы или взаимоотношения. В процессе практики, в особенности в процессе дисциплины сидячей медитации, которая занимает в буддизме самое центральное место, я наблюдал, как многие люди проходят через особого рода рост; подобное явление встречается также и в психотерапии. Это - побочный продукт; но таким побочным продуктом стоит воспользоваться.
Рам Дасс: Пожалуй, проблемы плохой психологической приспособленности могут в конце концов стать неважными для человека, который находится на духовном пути. Многие духовные личности, которых я знаю, обладают особыми стереотипами поведения; с точки зрения мирских понятий их можно диагностировать как невротические. Но сами эти люди как будто не слишком беспокоятся об этом, потому что в действительности их жизнь направлена в другую сторону.
На самом деле я полагаю, что существуют даже некоторые самоотбирающиеся невротические стереотипы, которые приводят людей к началу духовных странствий. Не думаю, чтобы это было случайностью; не думаю также, что и собравшаяся здесь сегодня вечером группа представляет собой образец здорового и нормального населения. Если мы дадим этим людям какой-нибудь стандартный психологический тест, результаты окажутся неутешительными. Но с моей точки зрения это прекрасно, потому что нормальные стереотипы по-настоящему более не являются интересными.
В конце шестидесятых годов многое, происходившее под видом духовных движений, в действительности по своей природе было психологическим явлением, В результате, когда изменились потребности целой группы участников, многие отпали от движений и ныне являют собой хороших, солидных средних американцев. Это прекрасные люди; у них много толстых альбомов с вырезками, много волнующих воспоминаний. Процент людей, по-настоящему захваченных духовными стремлениями, очень невелик. Я вполне уверен, что эти немногие серьезные практиканты с точки зрения нашей культуры обладают весьма невротическими стереотипами.
Миюки: Это приводит на ум указанное Юнгом различие между психологическими проблемами юности и среднего возраста. В юности большинство людей занято утверждением своих "я" и привязанностями к внешнему миру: получением образования, приобретением профессии, браком, семьей. Проблемы этого периода жизни отличаются от кризиса среднего возраста, который представляет собой совершенно иной вид невроза: он центрирован более на открытии неудовлетворительной природы человеческой жизни в целом, на открытии человеческой морали. Выражение этого факта Юнгом не так уж сильно отличается от первой благородной истины Будды о том, что вся жизнь есть страдание. Глубокие вопросы о смысле жизни отличны от обыкновенного невроза. В подобном случае невротическая проблема в действительности является духовной. Часто пациенты Юнга высказывали благодарность за то, что они обладают таким неврозом, потому что их невротические симптомы не обязательно оказывались симптомами болезни, а скорее были проявлением функциональной личности, которая теперь серьезно исследует природу жизни. Ясно, что разные типы неврозов могут производить весьма различные действия. Комплекс матери следует дифференцировать от невроза, вызванного страданием и поисками смысла жизни.
Корнфилд: Я одобряю вашу классификацию видов невроза; думаю, что на Западе важно установить модели, которые дают людям веру и вдохновение для работы со своими внутренними заблуждениями, преодолевая пункт удовлетворенности своим спокойным положением. На деле существуют два уровня практики. На одном уровне практики в любой духовной традиции люди работают для того, чтобы достичь успокоенности; целью этого - в некотором смысле психологического - уровня практики, когда, к примеру, вы произносите нараспев молитвы перед едой и придерживаетесь достаточного числа предписаний для своего поведения, рассчитанных на то, чтобы дать людям возможность жить спокойно, не эксплуатируя друг друга, - целью этого уровня практики бывает установление некоторого гармонического состояния внутри сообщества. Но существует и другой уровень практики, который в действительности вдохновлен величайшими учителями и святыми. Он проистекает из самых глубин архетипической возможности человека и человеческого развития. На этом уровне практики необходимо очень глубокое преображение, смерть того, кем, по-вашему, вы являетесь. Такая практика требует работы со всеми вещами, которые приносят спокойствие, требует желания пойти далеко за пределы этого спокойствия через сферы разнообразных неврозов, через отчаянье, через кризисы. Я думаю, очень важно сохранить на Западе эту возможность преображения и не смешивать ее с другими целями.
Председательствующий: Профессор Миюки, в процессе нашей дискуссии несколько дней назад вы заявили: "Для жителей Запада медитация может оказаться опасной". Я объяснил это себе так, как если бы вы хотели сказать, что в уме жителя Запада, который пытается сидеть и практиковать дзадзэн, содержится нечто, весьма отличное от содержания ума какого-нибудь японца. Не могли бы вы как-то остановиться на этом подробнее?
Миюки: Я хотел сказать, что индивидуальная структура "я" на Востоке отлична от его структуры на Западе. Я думаю, что религиозный человек на Западе все время взирает на Бога с некоторого расстояния; вы готовы быть судимы Богом, вы относитесь к этому вполне лично. Здесь вы - индивид. В Америке вы даже можете подать в суд на своих родителей; а если вы подаете в суд на родителей в Японии, вас просто считают сумасшедшим и, прежде чем судить ваших родителей, вас признают безумным. В Японии ваше "я" весьма сильно связано с семейным "я", сильно отождествлено с коллективным "я". Японцы сознают более значительную социальную и духовную тотальность. Напротив, западное "я", как это определил бы Юнг, отчетливо отделено от коллективного бессознательного. На Западе не существует того, чего вы не видите. Для вас это очень ясно; а для японцев такой отчетливой разницы нет. Японское "я" проявляется в понятии гармоничного действия совместно с коллективным сознанием и с коллективным бессознательным. Таким образом, структура семьи оказывается очень важной, равно как и структура сообщества.
Рам Дасс: И какое же это имеет отношение к опасностям медитации?
Миюки: Когда вы медитируете - и это также частично интерпретация Юнга, - вы берете всю энергию "я" и оказываетесь втянутыми в некое внутреннее пространство; а затем этот процесс стимулирует бессознательную сферу. Иными словами, внезапно возникают состояния за пределами "я". Если индивидуальное "я" является единственной формой пережитой вами до сих пор реальности, вы можете испытать психологическое потрясение. "Я" должно продолжать функционировать, и если вы внезапно поглотите вложенную в "я" энергию, а затем активизируете свое внутреннее содержание, вы можете по-настоящему сойти с ума. Но если "я" всегда было близким к "Я" общины, тогда при возникновении таких глубинных состояний опасность будет меньше.
Корнфилд: Мне хотелось бы присоединить и свои пояснения к предостережению доктора Миюки относительно опасности медитации. Я думаю, вы правы, говоря, что способность функционировать в мире должна поддерживаться практикой. Если этого нет, должно существовать какое-то учреждение, которое могло бы прикрыть людей во время периода преображения и не давать им возможности функционировать, как это бывает в Индии. Но я не думаю, что такую дисфункцию не следует рассматривать как автоматическую стадию практики. Во всех буддийских традициях психическая тренировка прежде всего и более всего подчеркивает фактор внимательности, который возникает по отношению к душевным качествам и переживаниям, чтобы мы не оказались захваченными ими. По мере возрастания внимательности последняя выполняет также и функцию углубления самадхи, которое не является просто самадхи ухода в себя, но и самадхи полного присутствия в повседневной жизни, проявляясь от одного мгновенья к другому. Если культивировать прежде всего внимательность, или осознание, тогда ум становится подготовленным естественным образом для более трудного воздействия бессознательного, а также для крайностей чувств и эмоций, которые неизбежно появятся во время практики. В некотором смысле уравновешенное "я" достаточно крепко, для того чтобы иметь дело с этими феноменами и все же продолжать функционировать.
Мне хотелось бы сказать немного о той важности, которую мы придаем различным структурам "я", развившимся в японской, американской или индийской культуре. Основной вопрос в духовной практике - это не особая структура индивидуальности или коллективного "я", ибо в действительности все это составляет сферу содержания ума. Духовная практика на самом деле сосредоточена на природе деятельности ума. Работа в пределах этой практики заключается в том, чтобы прийти к равновесию двух перспектив. Одна из них мистическая, или абсолютная перспектива, которая превосходит всевозможные структуры "я"; она прозревает сквозь "я", как некоторую прочную сущность, она преодолевает всякое чувство двойственности. В то же время она должна быть уравновешена возрастающей способностью функционировать в этом мире. Я вижу, как духовная практика буддизма выходит за пределы различий в культуре буддизма. Однако я действительно согласен с тем, что существенно важно или оставаться функционирующим внутри мира, или найти защитное окружение, иначе практика может оказаться опасной.
Рам Дасс: Я не согласен с Джеком. Думаю, что профессор Миюки поднял чрезвычайно важный вопрос о дифференциации между типами структуры "я". Узкое "я", отождествленное с крайне отдельным индивидом, немедленно создает качество сенсационности; и это дает свои результаты, когда большинство жителей Запада начинает заниматься какой-нибудь интенсивной медитационной практикой. В наше время я замечаю на Западе ослабление дисциплинированной, интенсивной практики, потому что наша структура "я" неспособна справиться с более суровыми видами дисциплины или с необходимостью более глубокого уровня погруженности в нее. Очень немногие люди подготовлены к тому, чтобы глубоко погрузиться в практику этого типа. Во-первых, обитатели Запада не имеют той глубины ресурсов, которую другие культуры обеспечили для своих духовных искателей. В Индии практикующие исходят из культуры, возвысившейся в понимании повторного рождения и кармы; существующая там социальная система поддерживает их практику. Все это с самого начала настолько пропитывает их существо, что они обладают более глубоким пониманием того, что требуется для духовной практики.
Западное "я" до сих пор продолжает утверждать себя, говоря: "Мы возьмем из духовного движения те психологические системы, которые сохраняют "я" очень сильным, которые поощряют нас к утверждениям о том, что мы просветлены". Запад в некотором смысле сделал по отношению к восточным традициям одну из самых скверных вещей, какие только возможны; все же я действительно вижу людей, которые осознают эту проблему. Они ведут борьбу; они глубоко исследуют привязанности своего "я". Есть люди, желающие стоять на краю обрыва; они идут по пути, и это не тот путь, по которому идет вагон их культуры. В конце концов, традиции, привезенные из Азии, найдут лишь немногих, кто станет двигать их вперед. Если мы начнем говорить о явлениях массовой перемены, о большом числе пробужденных, нам придется находить новые метафоры, которые более соответствовали бы нашей культуре.
Председательствующий: Психология незаконно присвоила множество духовных терминов и пользуется ими в собственных целях. А как насчет обратной стороны этого явления? Не думаете ли вы, что существуют проблемы перевода и интерпретации духовной практики Востока с использованием при этом психологического жаргона?
Корнфилд: В таком использовании взятых из психологии понятий и языка для интерпретации, объяснения духовного опыта может заключаться такая же опасность: этот подход может приуменьшить рассматриваемый опыт, оставляя без внимания некоторые обширные его сферы, которые просто не укладываются в психологическую терминологию. Однако я вижу в этом подходе также и пользу. Потому что факт остается фактом: в нашей стране психология представляет собой в значительной степени религию сегодняшнего дня - и не только психология, но и вообще наука. Не вижу необходимости отбрасывать их; надо всего лишь проявлять большую осторожность в использовании как психологических терминов, так и языка научной психологии.
Миюки: Некоторым образом в своей работе я делаю кое-что в этом роде. Думаю, что наступил период передачи буддизма, и его следует приспособить к кое-каким существующим в культуре концепциям. Несомненно, так и поступили китайцы: они заимствовали буддизм из Индии, воспользовавшись при этом языком даосизма, а затем через несколько сот лет очистили буддизм от этого языка.
Корнфилд: И мне хотелось бы сказать еще одну вещь. Я хочу думать о передаче буддизма в весьма долговременной перспективе. Буддизму потребовалось много времени, чтобы прийти из Индии в Китай; трудно сказать, существовали ли тогда в Китае сходные проблемы с появлением буддизма, была ли доктрина специально отобрана, не оказался ли буддизм с самого начала неправильно истолкован и приуменьшен в своей ценности людьми, не воспринявшими всю его глубину. Я не знаю, как ответить на эти вопросы; но у меня есть какая-то уверенность в том, что в этой стране он разовьется в своей собственной форме. В каждом духовном движении есть немногие люди, которые придут к достаточно глубокому пониманию буддийской дхармы, чтобы сохранить ее живой даже после смерти своих учителей. И эта передача, пусть сначала среди очень немногих, будет достаточной для того, чтобы создать возможность конечного расцвета дхармы на своем собственном пути внутри этой культуры.
Глава 4
Джон Уэлвуд
О ПСИХОТЕРАПИИ И МЕДИТАЦИИ
Системы восточной психологии и медитации в практическом применении оказывают возрастающее влияние на нашу культуру; и нередко в умах у людей возникают разные вопросы по поводу взаимоотношений между психотерапией и медитацией. Если, например, какой-то человек не удовлетворен ходом своей жизни, за каким руководством ему следует обратиться? Где для него большая вероятность найти свой путь - в психотерапии или в практике медитации? Занимают ли психотерапия и медитация одну и ту же территорию или они ориентированы в совершенно разных направлениях? Как далеко может повести человека психотерапия? В каком пункте медитация могла бы оказаться более пригодным для роста средством?
На сегодняшний день не существует определенного согласия относительно истинной сферы влияния медитации и психотерапии. Мои собственные представления по этим вопросам продолжают меняться вот уже несколько лет, и их легко свести к окончательным ответам. Трудность подхода к таким вопросам отчасти заключается в том, что оба понятия "психотерапия" и "медитация" - употребляются слишком свободно и применяются к весьма различному диапазону практических методов, так что дискуссии о них часто оказываются не слишком точными или содержательными. С этой целью я буду здесь основывать свои рассуждения на своей практике в области экспериментального центрирования в контексте экзистенциальной терапии и на медитации випассана в контексте буддийской психологии.
Терапевтическая перемена и раскрытие
Согласно данным одной группы исследователей, существует главное условие, для того чтобы в процессе психотерапии возникла перемена. Это условие - такое состояние, когда клиенты говорят, исходя из своих непосредственных переживаний, а не из знакомых мыслей, чувств, убеждений или суждений об этих переживаниях. Все же говорить, исходя из нашего непосредственного переживания, не совсем просто. Если, например, спросить вас, как вы себя чувствуете сию минуту, первым вашим ощущением может оказаться: "Не знаю... не вполне уверен..." Поскольку в этом пункте легко прекратить дальнейшее рассмотрение, нам нужно научиться следовать за теми элементами своего чувственного опыта, которые остаются еще неясными, и оставаться с ними некоторое время, если мы хотим дать им возможность раскрыться, обнаружить перед нами свое содержание. Упомянутые выше исследователи предполагают, что психотерапия оказывается успешной, когда человек способен проявить внимание к этому свежему, но еще неясному краю своего переживания, мягко исследовать его, позволить себе ощутить его и постепенно раскрыть его значение. Методика центрирования развилась как способ научить клиентов этому приему.
В любой данной проблеме есть такие аспекты, которые мы знаем и понимаем, а также и другие, которых мы не осознаем; и вот эти-то аспекты проблемы или ситуации обычно причиняют нам наибольшие затруднения. Но хотя мы не знаем всех разветвлений ситуации, не знаем, как она действует на нас, мы обычно обладаем своеобразным глобальным "подспудным чутьем" этой ситуации. Например, если вы в данный момент возьмете какую-нибудь проблему своей жизни и спросите себя, как вы ее чувствуете в целом, вне всех ваших знакомых мыслей и чувств, вот эта общая, может быть, неясная чувственная текстура, которую она сообщает вам, и есть "подспудное ощущение"; это подспудное ощущение представляет собой более широкий способ, при помощи которого наше тело воспринимает, или "знает", сразу многие аспекты ситуации субвербально, целостно, интуитивно. Оно конкретно чувствуется в теле как самочувствие, как нечто еще обладающее познавательной ясностью или отчетливостью. Оно еще не ясно, потому что содержит многие аспекты ситуации; оно как бы нуждается в том, чтобы его "распаковали", "развернули". Соприкосновение с этим более широким ощущением ситуации, в которой мы находимся, раскрытие этого ощущения часто ведет к важным терапевтическим переменам.
Разрешите мне проиллюстрировать это положение одним несколько упрощенным случаем из практики. Клиент входит в мой кабинет; он чувствует гнев вместе со знакомым кругом мыслей и эмоциональных повествований, окружающих гнев. Вместо того чтобы заставить его разговаривать о гневе и пытаться дать определение этому чувству, я прошу его почувствовать, как это нынешнее ощущение содержится в его теле сию минуту. "Что-то сидит у меня в кишках, тянет вниз, грызет изнутри", - говорит он, описывая свое подспудное чувство. Следующий шаг состоит в том, чтобы прочувствовать это ощущение полнее. Оставаться с неизвестным, ожидать, дать ему возможность принять форму - это один из важнейших, хотя тонких и трудных моментов в психотерапии; и зачастую здесь требуются терпенье и практика.
Клиент сидит, таким образом, погруженный в подспудное чувство; под знакомыми чувствами и мыслями, связанными с гневом, он приходит в соприкосновение с его свежим качеством, свойственным именно этой ситуации. Он все больше вздыхает и ерзает в кресле, но все же начинает соприкасаться с ситуацией, как она связана с ним сию минуту: "Жить с ней - это просто отчаянье!" Пауза. "И разочарование... она по-настоящему жестоко унизила меня в этот раз..." Еще одна многозначительная пауза. "Я столько вложил в нее... столько лет сильно желал действительного общения с ней..." В его словах слышится жизненная сила; тон голоса говорит мне, что он движется далее по новой территории. "Но, знаете, в действительности я сержусь не на нее... Я сержусь на себя, я разочарован в самом себе. Вот это и сидит во мне сию минуту..." Еще один вздох; глубокое дыхание. Я даю ему достаточно пространства, чтобы это чувство погрузилось вглубь, чтобы он прочувствовал разветвления нового края подспудного переживания. "Когда-то нам было так хорошо вдвоем, а сейчас мы даже не слушаем друг друга". Голос колеблется, сигнализируя мне о том, что он все еще исследует новую почву. Следующие слова по-настоящему взламывают лед: "Я только сейчас понимаю, что не давал ей возможности узнать, как сильно ее люблю, уже долгое время. Именно потому я и чувствую такую тяжесть в животе - я не выражал свою любовь в течение последних шести месяцев. Неудивительно, что она доставила мне столько неприятностей". На этот раз действительно тяжелый вздох, кивок головой - и вот он уже сидит выпрямившись. Раскрыв смысл подспудного чувства, он освободился от его давления. Добравшись до самого трудного пункта своего гнева, клиент пережил перенос чувства. В этом месте он улыбается и говорит о том, как сильно в действительности любит жену и заботится о ней.
Проникнув в глубину гнева, под его поверхность, чтобы ощутить неизвестные его измерения, он проявляет более широкое осознание, способное исследовать гнев и заставить его говорить. Когда он слышит то, что говорит гнев, спазм в желудке ослабевает; клиент в состоянии не только уйти от меня с новым решением - относиться к жене по-иному, - но также и со свежим ощущением своей жизненности. Таким образом, психотерапия часто приносит проблеск понимания того, как мы живем, в более широком смысле, т.е. не запутываясь в проблемах. В той мере, в какой она способна проникнуть в это более широкое чувство и освободить человека от давления личных проблем, психотерапия может также служить мостом к медитации.
Психотерапия и медитация (различия)
Когда я в середине шестидесятых годов впервые открыл центрирование, мне показалось, что оно напоминает именно то, о чем пишут в книгах по дзэн такие писатели, как Алан Уоттс и Д.Т. Судзуки. Меня интересовало, не является ли диффузное подспудное чувство тем же самым, что в дзэн называется пустотой, а также каким образом перенос чувства мог бы оказаться родственным знаменитому сатори. В те дни, до того как я по-настоящему начал практику медитации, я часто думал о том, что психотерапия могла бы стать эквивалентом медитации и других восточных путей освобождения. Но после многолетней практики медитации сходство между этими двумя методами уже не кажется мне таким большим, как следующие главные различия между ориентацией психотерапии и медитации.
Расширение индивидуальности или освобождение от нее. Основная задача психотерапии состоит в том, чтобы расширить у человека ощущение самого себя при помощи интегрирования тех частей личности, к которым он относится как к чуждым. Фрейд, описывая это явление, говорит: "Там, где было 'оно', должно быть 'я'". Работа такого типа может помочь людям в развитии устойчивой личности, самоуважения, расширенного ощущения того, что они способны чувствовать и делать. А практика медитации идет на один шаг дальше. Вместо расширения или укрепления "я" медитация представляет собой способ исследования вопроса о том, из чего состоит это "я".
Прежде чем идти далее, мне следует более полно описать практику медитации випассана, или внимательности. Она заключается в том, чтобы сидеть выпрямившись и следить за дыханием, разрешив при этом мыслям приходить и уходить, не пытаясь контролировать их или направлять к более приятным предметам. Как только мы отказываемся от контроля и остаемся в таком положении, путаница сменяющих друг друга мыслей и чувств может стать более заметной. Наблюдая свои мысли, которые как бы графически изображают то, что движет нами, мы приобретаем весьма интимное чувство тех сфер нашей жизни, в которых переживаем страх, в которых чего-то сильно желаем, в которых сохраняем душевную неподвижность. Медитация дает возможность этой путанице проявиться, дает нам возможность пребывать в ней, вместо того чтобы стараться выйти из нее, как мы это делаем при терапии.
Мы мягко возвращаем свое внимание назад, к дыханию; и это помогает нам удержаться от поглощенности хаосом чувств и мыслей, так что мы оказываемся способны разрешить возникновение путаницы, не отождествляя себя с ней, благодаря чему мы в конце концов доходим до ее корней. Мы начинаем учиться тому, как "сохранять свое место", как не быть сброшенными или унесенными дикой лошадью ума, как оставаться бдительными и продолжать сидеть верхом, куда бы ни направлялся наш ум. При подобном образе действий ум начинает двигаться медленнее, и мы улавливаем проблески другого способа существования. Вместо того чтобы оказаться увлеченными и унесенными своими мыслями, мы начинаем проникать в более глубокое, более широкое осознание, и это переживание становится весьма освежающим.
Медитация подводит нас прямо к корню заблуждений; она позволяет увидеть, как нас увлекает страх, возникающий из неуверенности по поводу того, что мы такое среди постоянно меняющегося потока жизни. Медитация предоставляет нам возможность прямо почувствовать, как мы все время стремимся создать неподвижную индивидуальность и держаться за нее, видя в ней средство защиты от ненадежности, окружающей нашу жизнь. Тибетский язык содержит слово для обозначения устойчивого "я" - "даг-зин"; буквально оно означает "держаться за самого себя". Мы создаем эту кажущуюся прочной индивидуальность из различных повествований, которые рассказываем себе о том, кто мы такие, что нам нравится и что не нравится, а также из бессознательных записей, которые проигрываем снова и снова; этим подразумевается тот факт, что мы являемся "кем-то" предсказуемым. С точки зрения буддизма такие попытки сохранить прочную личность представляют собой корень определенных универсальных наклонностей, создающих страдание; они называются пятью клеша: это ненависть, алчность, зависть, гордость и неведенье. Хотя психотерапия работает со специфическими проявлениями этих "клеша" в жизни человека, она не дает средства дойти до их источника, которым является заложенная в нас привычка - стремление держаться за "я" и укреплять его. И в то время как психотерапия может помочь нам избавиться от специфических объектов ненависти, зависти, алчности и т.д., медитация способна научить нас целиком и полностью освободиться от этого "комплекса Я". А это является существенно необходимым для того, чтобы прийти к пониманию основных вопросов человеческой жизни, как изменчивость и непостоянство, старость, превратности судьбы, любовь и смерть.
Процесс медитации раскрывает более глубокое ядро благополучия, превыше силы "я", понимаемой в терапевтическом смысле как хорошо устроенная, функционирующая структура личности. Если психотерапия способна исцелить разрушающие личность разрывы между отдельными частями внутри нас самих, медитация позволяет нам сделать еще один шаг вперед - начать растворение крепости "я"; медитация исцеляет наш отрыв от жизни в целом. Тогда может возникнуть более широкий способ восприятия жизни, известный в буддизме под названием випассана, т.е. всеохватывающее осознание, включающее в себя окружающую обстановку; оно помогает нам видеть ситуации более широко, превыше простого утверждения или отрицания "я". Это более широкое осознание представляет собой основание для сострадательного действия и служения другим людям; а это, вероятно, и есть конечная ориентация медитации и духовной практики вообще.
Построение смысловых структур или их растворение
Психотерапия сосредоточена на личном мире и наблюдает его. Она серьезно подходит к вопросу о том, "кто такой я?" чтобы распутать и расшифровать бессознательные записи, способные вовлекать нас в действия самозащиты. Тогда мы можем выработать более положительные смысловые структуры, поддерживающие активный и здравый жизненный стиль. Терапевтический поиск в том и состоит, чтобы отыскать смысл в нашем переживании, где в прошлом он оказывался неясным или неверно понятным. Например, упомянутый выше клиент страдал от расстройства пищеварения, которое не имело для него особого смысла, пока он не сосредоточился на своем гневе и не увидел, как этот гнев блокирует его заботу о себе и общение с женой. Раскрытие этих значений изменило его отношение к ситуации, что не только принесло облегчение пищеварению, но также дало ему новую энергию для работы над своей семейной жизнью. Все же, хотя психотерапия способна помочь человеку освободиться от эмоциональных и личных затруднений, она, вообще говоря, не открывает пути для восхождения к более обширному переживанию свободы и жизненности, для углубления этого чувства, возникающего в момент перенесения и раскрытия, когда отпадают старые записи и повествования.
Медитация же способна открыть нам такой путь, привести нас дальше, к более широкому чувству жизненности, раскрывающемуся в моменты освобождения и перенесения. Ибо медитация центрирована не только на личных проблемах, но также на природе и процессе ума как целого. Вопрос "кто я такой?" с точки зрения медитации ответа не имеет. Поскольку мы никогда не бываем способны насадить это "я" на булавку, медитация помогает полностью растворить фиксацию на "я". Тогда мы, возможно, начнем переживать чистые, открытые мгновенья простого пребывания здесь, которые чувствуются весьма обширными, ибо свободны от личных потребностей, значений и истолкований. Медитация может научить нас тому, как войти в соприкосновение с этим более широким пространством, или пустотой, лежащей за пределами постоянных поисков личного значения. А это может вызывать радикальное преобразование нашего образа жизни. По мере того как мы начинаем отказываться от столь жесткой приверженности к самим себе, это более широкое чувство начинает пронизывать все, что мы делаем.
Ориентация на цель или освобожденность
Психотерапия ориентирована на некоторую цель в большей мере, нежели медитация. Если бы не существовало никаких терапевтических целей, само действие психотерапии было бы невозможным.
С другой стороны, практика медитации не направлена на какие-то специфические цели; она не имеет конца. Ее легко можно практиковать в течение всей жизни, потому что расширение и углубление осознания не связаны никакими ограничениями. Медитация не направлена на решение проблем или на улучшение нашего самочувствия; она скорее обеспечивает нас пространством, в котором мы можем освободиться, стать самими собой и таким образом открыть свою глубинную природу превыше всех своих повествований и проблем. Как однажды сказал роси Сюнрю Судзуки: "Пока вы полагаете, что практикуете дзадзэн ради чего-то, это не будет подлинной практикой... Возможно, вы чувствуете, что делаете что-то особенное, но в действительности это просто выражение вашей истинной природы".
Когда мы даем себе возможность оставаться открытыми для всего, что таким образом к нам приходит, у нас может возникнуть значительная обеспокоенность. Однако во время медитации такая обеспокоенность не составляет особой проблемы. Медитирующий не стремится найти избавление от тревоги, приходящей вместе с открытостью; он дает ей возможность проявиться и встречает ее со внимательностью; он как бы укрепляет свои "мускулы", и это позволяет ему ехать верхом на уме, принимая все, что встречается в жизни.
Майтри - общая основа психотерапии и медитации
Если бы всегда можно было так четко установить различия между психотерапией и медитацией, не существовало бы и слишком большой путаницы в вопросе об их сравнительной эффективности. Но факт остается фактом: действие двух этих видов практики в некоторых важных пунктах совпадает. Не только психотерапия способна зачастую помочь людям проникнуть в более широкое, трансперсональное чувство жизненности, но также и медитация в состоянии облегчить им нахождение почвы под ногами, так, чтобы их жизнь приняла более удовлетворительное направление.
Хотя как психотерапия, так и медитация могут провести человека через многие стадии развития, я вижу главный пункт их совпадения в том, что они способствуют развитию того качества, которое в буддизме называется "майтри", или "безусловное дружелюбие по отношению к самому себе". Обычно мы проявляем дружелюбие к людям или к отдельным частям самих себя в тех случаях, если они каким-то образом приятны нам или достойны нашей похвалы. Майтри это особое, ничем не обусловленное дружелюбие по отношению к самому себе, т.е. дружественность к нашему переживанию - и не потому, что мы действительно наслаждаемся им, ибо на практике оно может быть также неприятным или болезненным, а просто потому, что мы его переживаем. Вместо стараний принудить себя жить так, чтобы сделаться такими, какими, по нашему мнению, мы должны быть, майтри принимает себя безусловно, позволяет себе быть просто человеком. Каким же образом психотерапия и медитация в их наилучшем виде содействуют развитию этого дружелюбия к себе, которое представляет собой первый важный шаг в пробуждении сердца?
Во-первых, и психотерапия, и медитация заключают в себе некоторое дисциплинированное внимание. Хотя такая формальная практика исследования своего переживания может сперва показаться принудительной и трудной, она часто оказывается необходимой, чтобы помочь нам преодолеть привычные стереотипы мышления, препятствующие более полному соприкосновению со своим переживанием. К несчастью, многие из нас связывают дисциплину с суровыми или принудительными мерами, пользуются этими мерами, чтобы "подстегнуть себя как следует"; или же в некоторых случаях мы бунтуем против них. Однако имеется более естественный вид дисциплины, который выражает заботливость по отношению к самим себе и к качеству своей жизни.
Во-вторых, психотерапия и медитация могут научить нас тому, как "создавать пространство" для тех препятствий, которые возникают в нашей жизни, вместо того чтобы оказаться захваченными борьбой с ними, осуждением их или отталкиванием. Борьба со своими чувствами только придает им больший запас энергии и, таким образом, большую власть над нами. Создание пространства для всех возникающих у нас чувств позволяет нам по контрасту стать шире их - не "поднимаясь над ними", а расширяясь, чтобы включить их в себя. Когда мы способны включить в свою жизнь боль, она уже впредь не будет иметь над нами былой силы.
Одна моя пациентка, испытывая страх, говорила: "Не люблю этот страх; я хочу быть сильной". Она старалась избавиться от своего страха, победить его, подавить, потому что он не соответствовал ее образу самой себя. Такой подход противоположен майтри. Поэтому я сказал ей: "Можете ли вы создать пространство для присутствия вашего страха? И затем создать еще одно пространство для вашей неприязни к страху? Оба они смогут находиться там, и одному не будет необходимости отрицать другого". Когда ей удалось оставить страх в таком положении, она обнаружила, что он немедленно уменьшился, потому что ему более не приходилось продолжать борьбу за признание.
Подобным же образом действует и медитация випассана, ибо практикующий эту медитацию никогда не подавляет мыслей и чувств, возникающих во время сиденья, но и не поддается им. Как для терапии, так и для медитации важно выработать "легкое прикосновение" - способность непосредственного касания своего переживания, однако не увязая при этом в каком бы то ни было особом содержании.
В-третьих, психотерапия и медитация помогают нам уважать элемент неизвестного в нашей жизни, из которого могут возникать новые способы существования. Смотреть прямо на свою изменчивость и допускать ее существование - это способ проявления доброты к самому себе. Старание прийти в соответствие с образом человека, "повелевающего обстоятельствами", может оказаться агрессивностью и саморазрушением, поскольку оно вынуждает нас отрицать то, что мы в действительности переживаем, манипулировать переживанием. Допущение изменчивости в противовес стараниям подстроить свое переживание под предустановленные идей и образы дает возможность возникновения спонтанных направлений и прозрений; весьма вероятно, что последние будут служить нам лучше старых понятий и убеждений.
Дружелюбное отношение к самому себе означает также и более здоровую жизнь тела. Например, как при "центрировании", так и при медитации випассана благодаря возвращению к земле, т.е. благодаря обретению более полной опоры в теле, возникают направления позитивного подхода к жизни. Процесс, подобный центрированию, ослабляет склонность объяснять или понимать переживание, смотреть на него "сверху вниз"; это происходит, благодаря тому что мы даем ему возможность говорить с нами "снизу (т.е. из тела) вверх". Во время медитации сама поза представляет собой мудру, символический жест, выражающий нашу связь с землей, готовность замедлить свое переживание и встретить его прямо. В терминологии риндзай-дзэн есть слово "ку-фу", обозначающее процесс помещения коана, или вопроса, в живот и ожидание приходящего оттуда ответа. Д.Т. Судзуки так описывает ку-фу: "Это не просто размышление при помощи головы, а особое состояние, когда в решение проблемы вовлечено все тело, когда оно применяется для ее разрешения". Такая методика не так уж и отличается от критических моментов психотерапии, когда мы задаем вопросы и ждем, чтобы ответы появились из телесного подспудного чувства.
Помогая нам такими способами преодолевать страх перед собственным переживанием, психотерапия и медитация могут направить нас в сторону ядра силы и благополучия, находящегося под всеми нашими проблемами и невротическими стереотипами. Если клиент окажется способен остаться со своими отрицательными чувствами и раскрыть их, они в конце концов уйдут прочь или укажут на некоторое скрытое под ними более положительное, здоровое направление. Во время медитации приходится пребывать с теми частями нашего внутреннего мира, на которые нам не хотелось бы и смотреть; но такая практика порождает у нас уверенность, поскольку мы понимаем, что внутри нас нет ничего столь дурного, как стремление чего-то избежать или что-то отвергнуть. Благодаря тому что мы не бежим от своего переживания, а неуклонно остаемся с самими собою, мы начинаем принимать себя по-новому и ценить глубинную открытость и восприимчивость, видя в них корень своего бытия.
Признание всей цепи развития человека
Одним из наиболее важных аспектов вклада Востока в психологию Запада является понятие перспективы развития: психология Востока помогает нам расширить представление о цепи развития человека, которое идет дальше нормальных целей психологической приспособленности. Системы восточной психологии помогли многим западным психологам уяснить то обстоятельство, что существует иное измерение роста, превышающее простую удовлетворенность в достижении личных целей. Превыше желания самоосуществления, превыше тенденции самореализации, превыше стремления к полной и богатой личной жизни мы как будто обладаем потребностью выйти за пределы самих себя, переступить через границы знакомого и безопасного пространства и ощутить вкус жизни в более широком масштабе. (Кстати, двое ведущих психологов Запада признали эти более обширные потребности человека; это Абрахам Маслоу и Карл Густав Юнг; оба они испытали влияние Востока и его мысли. Маслоу называл такую потребность стремлением к самотрансцендированию, превосхождению себя, а Юнг усматривал в этой потребности особое свойство психики, более присущее второй половине жизни человека.) Хотя личные достижения имеют значение для нашей жизни, они не подготавливают нас к столкновению с реальностью мира - с его непостоянством, со смертью, с одиночеством, с глубинной болью, присущей открытому сердцу, - не говоря уже о разных специфически личных проблемах.
С другой стороны, вклад западной психологии в диалог с Востоком состоит в указании на тот факт, что мы не в состоянии приступить к превосхождению эгоцентризма, если первоначально не приобрели сильного чувства этого "я". Учения Востока о пустоте и об отсутствии "я" могут смутить людей, которые еще не знают, что это значит - почувствовать полноту жизни или обладать таким "я", которое они сами способны уважать. И несомненная правда заключается в том, что многие ищут убежища в медитационных или духовных группах, видя в них способ уйти от нормальных задач роста и развития. Среди таких лиц обычным является некоторого рода самообман: воздействие на них великих традиций и духовных идей может оказаться причиной того, что они станут воображать себя более свободными от привязанностей и просветленными, чем это есть на самом деле; они могут сделаться раздутыми, увлеченными самими собой или эмоционально плоскими, бесцветными, лишенными личной теплоты.
Как-то ко мне на консультацию пришла женщина; это была живая иллюстрация той путаницы, которую вызвало применение к ее ситуации учений Востока, говорящих о высших ступенях развития человека. У нее постоянно возникали трудности в отношениях с мужчинами; она слишком скоро отдавалась им и всегда оказывалась в конце концов оскорбленной и покинутой. Это усиливало в ней чувство собственного ничтожества и недоверия к противоположному полу. Она была весьма начитанна в литературе Востока, и это привело ее к убеждению, что ей следует отбросить представление о своей важности. Но как раз стоявшая перед ней задача была явно противоположного характера: нужно было выработать чувство собственного достоинства, уважение к себе, нужно было устанавливать пределы, проводить границы, научиться говорить "нет" и охранять собственное пространство. Как и многие другие, кто использует духовные учения для того, чтобы уклониться от задач нормального развития, она имела склонность недооценивать собственные потребности и чувства, приуменьшать их. В буддийской терминологии это называется смешением абсолютной и относительной истины. С абсолютной точки зрения не существует никакого прочного, постоянного "я"; поэтому различия между нами и другими людьми в высшей степени ненадежны и в конечном счете ошибочны. Однако с относительной точки зрения различия между нами и другими людьми вполне реальны и функциональны. Если наше "я" не отскочит с дороги, когда на него мчится автомобиль другого человека, тогда не остается и того, кто постиг бы абсолютную истину. Если различия между нами и другим человеком окажутся определены ошибочно, как это бывает во время психозов, тогда мы никогда не сможем выйти за их пределы в более широкое всеохватывающее осознание большого ума.
Тот вид заблуждений, пример которого являет собой эта пациентка, знаком многим психотерапевтам и учителям медитации. Учения Востока рассчитаны на человека, уже обладающего здоровой структурой личности. Однако в современном обществе такое предположение может оказаться небезопасным. Распад семьи, традиций и общества подорвал всю систему значений и опор, которые помогают людям выработать реалистическое чувство самих себя, своих возможностей и ограничений. В тех случаях, когда данный человек не развил у себя способности здравого отношения к другим людям или лишен способности признавать и выражать свои чувства, в качестве первого способа лечения можно избрать психотерапию - прежде чем клиенту можно будет даже только начать думать о медитации. Психотерапия помогает людям понять себя весьма прагматическим образом. Попытка перескочить через эту ступень нашего развития ради какого-то потустороннего духовного блаженства равносильна призыву несчастья.
Короче говоря, психотерапия и медитация имеют свои собственные области, смешивать которые не следует. Меня часто спрашивают о том, учу ли я медитации своих психотерапевтических клиентов. Обычно я не пытаюсь смешивать оба этих пути - отчасти потому, что мои клиенты приходят ко мне не для медитации и в большинстве случаев не кажутся готовыми к ней. Поскольку медитация випассана является наиболее мощным из всех известных мне методов растворения прочной привязанности к "я", вводить ее в качестве чисто психотерапевтической техники для улучшения самочувствия было бы рискованно - это означало бы относиться к ней как к "хитроумному приспособлению для создания душевного здоровья", против чего предостерегает Харви Кокс. И, как указывает Робин Скиннер во второй главе настоящей книги, "чем более мощной является техника, тем более опасной она может оказаться при злоупотреблении ею, препятствуя подлинной перемене". Кроме того, у некоторых клиентов, например у вышеупомянутой женщины, практика внимательности может даже усилить оторванность от чувств.
Некоторые психотерапевты ввели медитацию в психотерапию в качестве способа, помогающего клиентам получить прозрение в структуру своего "я"; но такой образ действий может оказаться сомнительным. Не так уж трудно помочь людям проникнуть в глубину привязанности к "я" - это может произойти в разные моменты кризиса, при интоксикации или измененных восприятиях. Но для того, чтобы помочь данному лицу постоянно жить вне пределов "я" подлинной жизнью - для этого требуется огромная преданность делу как со стороны учителя, так и со стороны самого этого лица, практикующего медитацию. Такого рода преданность делу не соответствует взаимоотношениям процесса психотерапии, ограниченным профессиональными и денежными трудностями. Сверх того, учитель какой-нибудь медитационной традиции в типичных случаях прошел длительный курс интенсивной подготовки и дисциплины и от одного из собственных учителей, который тщательно проверил его понимание, получил разрешение учить медитации. Психотерапевт, не обладающий подобной подготовкой и не прошедший проверки, может принести вред, смешивая два пути и раздувшись от претензий на уровень духовного понимания и авторитета, которым в действительности может не обладать. В силу этих причин я в своей работе с клиентами предпочитаю сохранять ясное различие между психотерапией и медитацией, видя в них дополняющие друг друга, иногда частично совпадающие пути, применимые к разным аспектам развития человека. Психотерапия имеет различные уровни с разными функциями в зависимости от задач и понимания клиента и психотерапевта. На самом последнем из них - это действенный способ разрешения жизненных проблем и развития функционального чувства "я". Кроме того, она также способна помочь людям углубить чувства и ощущения своей внутренней жизни; наконец, она может помочь им пробиться сквозь охранительную систему, окружающую сердце, так, чтобы им можно было впустить внутрь себя мир, выйти из скорлупы и с большей пользой встречаться с другими людьми. В этом отношении психотерапия может в особенности служить ступенью к практике медитации, которая уже способна повести процесс пробуждения сердца еще дальше.
Важно не стирать это различие между психотерапией и медитацией, ибо следствием может оказаться смешение самоинтеграции с выходом за пределы "я". Такое смешение ослабляет действенность психотерапии, ее способность помочь нам найти самих себя; это происходит, когда мы пытаемся с ее помощью достичь чего-то большего, нежели то, для чего она предназначена. Подобный образ действий может разбавить силу медитации, исказить ту более широкую реальность, которую она способна раскрыть, снижая этим ее уникальную потенциальную силу раскрыть нам глаза для радикально нового виденья того, кто мы такие и к чему пригодны.
Часть Вторая
РАБОТА НАД СОБОЙ
Вступление
Принятые на Западе теории личности и душевного здоровья сосредоточены главным образом на причинах и симптомах неврозов и психозов; в то же время они редко дают точные объяснения того явления, которое составляет нормальное функционирование психики здорового человека. С другой стороны, восточные традиции подчеркивают состояние оптимального здоровья и расширенного бытия, не особенно останавливаясь на болезнях или психопатологии. Как для восточного, так и для западного подхода к психотерапии требуется внесение в лечебный процесс более широкого понимания человеческого благополучия.
В соответствии с древним изречением "Врач, исцелись сам!" для психотерапевтов и целителей-профессионалов существенно важно обладание большим внутренним знанием природы благополучия, чтобы это знание стало у них личным внутренним переживанием; тогда они смогут лучше распознавать его у своих клиентов и пациентов и способствовать его пробуждению. Именно эту проблему исследует данный раздел книги - каким образом самопознание, способ наших взаимоотношений с самими собой и со своими эмоциями, оказывается центральным принципом психического здоровья.
Раздел открывается статьей Эриха Фромма, где рассматривается природа благополучия - не только как нормального функционирования или приспособленности, но скорее как чего-то большего: благополучие - это быть вполне рожденным, преодолеть узкие взгляды на самого себя, быть полностью пробужденным и правильно реагировать на мир, в котором мы живем. Фромм признает, что задача эта нелегка; он показывает, как это большее осознание может выйти за пределы целей психотерапии, и выдвигает важные предположения относительно того, каким образом психотерапия могла бы стать полезной для изучающих духовные традиции, как практика медитации могла бы повести человека далее того уровня, на котором его оставила психотерапия.
В следующей главе мастер дзэн роси Сасаки просто и ясно описывает двойственную природу людей как индивидуальных и универсальных существ. Он указывает на то, как природа человека постоянно изменяется от осуществления индивидуальности к освобождению от индивидуальной личности ради связи с более широким чувством бытия. Подлинное благополучие явственно требует сознавания этих двух движений человеческого сознания и уважения к ним.
Карл Шпербер обращается к печальным последствиям смешения этих двух видов осознания, попытки приписать своей личности заслуги в явлениях роста и перемен, которые приходят из более обширного уровня нашего бытия. Эта короткая глава звучит важным предостережением тем, кто избрал своей профессией помощь другим людям. Автор говорит о том, как в самом процессе стараний освободить себя и других мы можем еще прочнее запереться в тюрьме.
В следующей главе я рассматриваю важный вопрос об эмоциях и о работе с ними, подходя к этой теме в контексте как психотерапии, так и медитации. В главе разбираются те бесполезные пути, которым мы следуем в эмоциональных кругах, удаляясь от более непосредственного ощущения эмоций; здесь указывается, как мы можем уважать эмоции и позволить им соединить нас с более широким потоком жизни, проходящим через нас.
Адриан ван Кам детально останавливается на вопросе о том, как работать со специфической эмоцией гнева в контексте мягкости. Мягкость - один из важнейших побочных продуктов практики медитации; мягкость играет важную роль во взглядах Востока на рост человека. Однако в западной психологии и в ее литературе мягкость упоминается лишь изредка; поэтому уникальное феноменологическое описание ван Кама оказывается весьма ценным; особенно полезным является тот способ, при помощи которого он показывает, что для мягкости не требуется подавления гнева; фактически мы помогаем ее развитию, когда можем дать подлинное выражение гневу как форме общения, а не пользоваться им в качестве оружия для оскорбления других.
Наконец, Роджер Уолш заключает раздел интересным описанием собственного личного путешествия - от общепринятых, унаследованных верований относительно реальности в сторону более исследовательского подхода к жизни - прежде всего благодаря своему опыту медитации випассана. Эта глава удачно завершает весь отдел, графически иллюстрируя необходимость работы над собой как базиса для работы с другими людьми. Юмор и честность Уолш а позволяют читателю самому почувствовать, в чем может заключаться путешествие к открытию благополучия.
Глава 5
Эрих Фромм
ПРИРОДА БЛАГОПОЛУЧИЯ
Эрих Фромм (1900-1980) возглавил развитие гуманистического психоанализа, был одним из первых западных психологов, проявивших активный интерес к мысли Востока. Среди его книг: "Искусство любви", "Бегство от свободы", "Человек для себя" и "Разумное общество".
В начале нашего века люди, посещавшие психиатра, страдали главным образом от симптомов. У одного оказывалась парализована рука, у другого появлялся навязчивый симптом вроде вынужденного мытья рук; или же посетители жаловались на неотвязные мысли, от которых не видели избавления. Иными словами, это были больные в том смысле, в каком слово "болезнь" употребляется в медицине; что-то мешало им функционировать в социальной сфере так, как функционирует так называемая нормальная личность. Если они страдали именно от таких расстройств, их понятие об исцелении соответствовало точно такому пониманию болезни. Им хотелось избавиться от подобных симптомов, и их понимание "здоровья" заключалось в том, чтобы не быть больными. Они желали оставаться здоровыми настолько, насколько бывает здоров средний человек; мы могли бы выразить эту концепцию и по-другому: они желали оставаться несчастными и обеспокоенными не в большей мере, чем средний член нашего общества.
Такие посетители все еще появляются у психоаналитиков в поисках помощи, и для них психоанализ продолжает оставаться терапией, целью которой является устранение их болезненных симптомов и возвращение им способности социального функционирования. Но если раньше в клиентуре психоаналитика они составляли большинство, то сегодня остаются в меньшинстве - возможно потому, что их число относительно уменьшилось в сравнении со множеством новых "пациентов", которые являются к психоаналитику, не зная, от чего они в действительности страдают. Они жалуются на подавленное настроение, бессонницу, на неудачные браки, на то, что не получают удовольствия от работы, и на многие сходные расстройства. Обычно они уверены в том, что тот или иной отдельный симптом и составляет их проблему, что если бы они смогли избавиться от этого отдельного расстройства, то были бы здоровы. Однако чаще всего эти пациенты не видят, что их проблема заключается не в подавленном настроении, не в бессоннице, не в неудачном браке или неподходящей работе. Эти различные жалобы представляют собой лишь сознательную форму, в которой наша культура позволяет им выразить нечто лежащее гораздо глубже и свойственное разным людям, сознательно уверенным в том, что они страдают от того или иного отдельного симптома. Общее же страдание - это отчуждение от самих себя, от своих собратьев, от природы; это осознание того факта, что мы умрем, не успев пожить, что мы живем среди изобилия и все же не имеем радости.
Но какую помощь может предложить психоанализ тем, кто страдает от этой "болезни века"? Такая помощь отличается и должна отличаться - от "излечения", состоящего из устранения симптомов, предлагаемого лицам, неспособным функционировать в социальной сфере. Для тех, кто страдает от отчуждения, излечение состоит не в отсутствии болезни, а в наличии благополучия.
Однако, если нам потребуется дать определение благополучия, мы встретимся со значительными трудностями. Оставаясь в пределах системы Фрейда, мы должны будем определять благополучие в терминах теории либидо как способность полноты функционирования в половой сфере; или же, рассматривая явления под другим углом, мы определим благополучие как осознание скрытой эдиповой ситуации. Но, по моему мнению, эти определения остаются лишь касательными по отношению к реальной проблеме человеческого существования и достижения благополучия, необходимого человеку в его тотальности. Любая попытка дать приблизительный ответ на проблему благополучия должна выйти за пределы системы координат Фрейда и привести к дискуссии, хотя и неполной, об основном понятии человеческого существования, которое лежит в основе гуманистического психоанализа. Только таким образом сможем мы заложить основу для сравнения между психоанализом и дзэн-буддизмом.
В первом приближении можно дать следующее определение благополучия: благополучие есть пребывание в согласии с природой человека. Если мы пойдем далее этого формального утверждения, возникнет вопрос: что это значит пребывать в согласии с условиями человеческого существования? Каковы эти условия?
Само человеческое существование - это постановка вопроса. Человека бросают в этот мир без его желания и забирают из него опять-таки против его воли. В противоположность животному, которое в своих инстинктах обладает "встроенным" механизмом приспособляемости к своему окружению и живет полностью внутри природы, человек лишен этого инстинктивного механизма. Он должен прожить свою жизнь, а не жизнь живет внутри него. Он находится внутри природы, однако выходит за ее пределы; он обладает самосознанием, и это осознание себя, как отдельного существа, заставляет его чувствовать невыносимое одиночество, покинутость, бессилие. Сам тот факт, что он рожден, является проблемой. В момент рождения жизнь предлагает человеку вопрос, и на этот вопрос он должен дать ответ, причем ответ необходимо давать в любой момент; и этот ответ дает не его тело, не ум, а он сам, личность, которая думает и мечтает, которая ест, пьет, спит, плачет и смеется, - на поставленный жизнью вопрос должен отвечать человек в целом. Что же это за вопрос? Вот он: как нам преодолеть страдания, скованность, стыд, создаваемые переживанием этой нашей отдельности? как нам обрести союз с самими собою, с нашими собратьями-людьми, с природой? Человеку необходимо каким-то образом ответить на этот вопрос; и ответ дается даже в состоянии безумия человек выбивает из себя реальность и живет, полностью замкнувшись в скорлупу своего "я", преодолевая таким образом ужас отдельности.
Вопрос всегда остается одним и тем же. Однако на него есть несколько ответов. А если смотреть в самый корень, то этих ответов оказывается только два. Один из них заключается в том, чтобы преодолеть отдельность и найти единство при помощи регрессии, возвращения к состоянию единства, существовавшему до того, как возникло осознание, до того, как родился человек. Другой ответ заключается в том, чтобы вполне родиться, развить свои осознание, разум, способность любить - и все это до такой степени, чтобы преступить пределы собственной эгоцентрической вовлеченности и прийти к новой гармонии, к новому единству с миром.
Говоря о рождении, мы обычно имеем в виду акт физиологического рождения, который происходит у человеческого младенца приблизительно через девять месяцев после зачатия. Но значение этого рождения во многих отношениях переоценивается. В своих наиболее важных аспектах жизнь младенца в течение недели после рождения более напоминает внутриутробное существование, а не существование взрослого человека. Однако имеется один уникальный аспект рождения: при нем перерезается пуповина, и ребенок начинает свою первую деятельность - дыхание. С этого момента всякое разрушение первоначальных связей становится возможным только в той степени, в какой это разрушение будет сопровождаться подлинной деятельностью.
Рождение - не единый акт; рождение - это процесс. Цель жизни заключается в том, чтобы вполне родиться, хотя в силу особого трагического ее элемента большинство из нас умирает еще до того, как успевает таким образом родиться. Жить значит ежеминутно рождаться. Когда прекращается рождение, наступает смерть. Физиологически наша клеточная система пребывает в процессе постоянного рождения; но психологически большинство из нас в определенном пункте перестает рождаться. Некоторые люди появляются на свет совершенно мертворожденными; они продолжают жить лишь физиологически, тогда как психологически в глубине их существа скрывается желание вернуться в матку, в землю, во тьму, в смерть; они безумны или почти безумны. Многие другие продолжают двигаться по пути жизни, однако они неспособны полностью как бы перерезать пуповину и остаются в состоянии симбиотической привязанности к матери, к отцу, к семье, к расе, к государству, к своему положению, к деньгам, к божествам и т.п., они никогда не проявляются полностью в виде самих себя - и, таким образом, никогда не рождаются полностью.
Регрессивная попытка дать ответ на проблему существования может принимать различные формы; но у всех у них есть одно общее свойство - они обязательно кончаются неудачей и ведут к страданию. После того как человек оказывается вырван из дочеловеческого райского единения с природой, он никогда не может возвратиться туда, откуда пришел; его возвращению препятствуют два ангела с огненными мечами. Возвращение может осуществиться только в смерти или в безумии, но не в жизни, не в душевном здоровье.
Выход индивида из регрессивного единства сопровождается постепенным преодолением нарциссизма. В первое время после рождения у ребенка нет даже осознания реальности, существующей вне его, в смысле чувственного восприятия; он все еще един с материнской грудью, с ее соском; он пребывает в состоянии, предшествующем какой-либо дифференциации субъекта и объекта. Некоторое время спустя в каждом ребенке развивается способность дифференцирования субъекта и объекта; но эта способность проявляется лишь в смысле осознания очевидной разницы между "мной" и "не-мной". Однако в аффективном смысле для преодоления нарциссического отношения всезнания и всемогущества требуется развитие до полной зрелости - если такая ступень вообще оказывается когда-то достигнутой. Мы явственно наблюдаем это нарциссическое отношение к действительности в поведении детей и невротиков - с той лишь разницей между ними, что у первых оно обычно сознательно, а у вторых бессознательно. Ребенок не принимает реальность такой, какова она есть, а принимает ее такой, какой ему хочется. Он живет в своих желаниях, и его взгляд на реальность - это то, какой он ее хочет. Если желание не сбывается, он приходит в ярость; функция его ярости в том и состоит, чтобы вынудить мир (через посредство отца и матери) прийти в соответствие его желанию. При нормальном развитии ребенка такое отношение постепенно меняется на зрелое, на осознание реальности и приятие ее с ее законами; а отсюда появляется приятие необходимости. Но у невротика мы непременно обнаруживаем, что он не смог прийти к данному пункту и не отбросил нарциссическое толкование реальности. Он настаивает на том, что реальность должна прийти в соответствие с его идеями; и когда он признает тот факт, что этого соответствия нет, он реагирует или стремлением принудить реальность к соответствию его желаниям (т.е. сделать невозможное), или чувством беспомощности, поскольку он не в состоянии совершить невозможного. Понятие свободы, которым обладает такой человек, сознает он это или нет, есть представление о нарциссическом всемогуществе; тогда как понимание свободы у вполне развитого человека есть признание реальности и ее законов, действие в пределах законов необходимости, продуктивное отношение к миру, овладевание этим миром благодаря своим силам мысли и действия.
Возвратимся теперь к вопросу о благополучии. Как мы определим благополучие в свете всего, что было до сих пор сказано?
Благополучие есть состояние прихода к полному развитию разума - разума не в смысле простого интеллектуального суждения, а в смысле овладения истиной, благодаря тому что мы, пользуясь термином Хайдеггера, "позволяем вещам быть тем, что они такое". Благополучие возможно только в той степени, в какой мы преодолели собственный нарциссизм; в той степени, в какой мы открыты, реактивны, восприимчивы, пробуждены, пусты (в понимании дзэн). Благополучие означает полную и благожелательную связь с людьми и с природой, преодоление отдельности и отчужденности, достижение переживания единства со всем существующим - и вместе с тем чувствование себя самого отдельным существом, таким, каков я семь, индивидом, т.е. неделимым. Благополучие - это значит быть вполне рожденным, быть тем, чем мы потенциально являемся; это значит обладать полной способностью к радости и печали, или, выражаясь еще по-другому, пробудиться от полусна, в котором живет средний человек. Если все это так, благополучие означает также способность быть творческим, т.е. реагировать и отвечать на самого себя, на других людей и на все существующее так, как реагирует реальный, тотальный человек, каким являюсь я сам, на реальность всего и всякого, каким является оно или он. В этом акте истинного реагирования и заключается область творчества, виденья мира таким, каков он есть, и переживания его как моего мира, мира, созданного и преображенного моим творческим обладанием; так что этот мир перестает быть чуждым, "тамошним" миром и становится моим миром. Наконец, обладать благополучием - это значит отбросить свое "я", отбросить алчность, прекратить погоню за сохранением и возвеличиванием "я", быть самим собой и переживать себя в акте бытия, а не в обладании, сохранении, накоплении, потреблении.
Я сказал, что человеку самим фактом его существования задан вопрос, что этот вопрос поставлен наличием противоречия внутри него самого - он пребывает среди природы и в то же время выходит за пределы этой природы в силу того факта, что он являет собой жизнь, сознающую самое себя. Каждый человек, который прислушивается к этому заданному ему вопросу, который "крайне озабочен" ответом на этот вопрос, ответом человека в целом, а не просто ответом его мысли, - такой человек является "религиозным"; и все системы, которые стараются дать такие ответы, учить им, передавать их, оказываются "религиозными". С другой стороны, каждый человек и каждая культура, которые пытаются оставаться глухими к этому экзистенциальному вопросу, являются безрелигиозными. Нет лучшего примера людей, глухих к вопросам, поставленным существованием, чем мы сами, люди двадцатого столетия; мы стараемся уклониться от этих вопросов, заботясь о собственности, о престиже, о власти, о развлечениях; наконец, мы стремимся забыть о том, что мы существуем, о том, что я существую. Неважно, как часто подобный человек думает о Боге или ходит в церковь, как часто говорит о религии, как сильно верит в идеи религии; если он, как человек в целом, глух по отношению к вопросу существования, если у него нет на него ответа, тогда он просто тратит время, тогда он живет и умирает, как миллионы созданных им вещей.
Что является общим для иудейско-христианского и дзэн-буддийского мышления - так это осознание того обстоятельства, что я должен отказаться от своей "воли" (в смысле желания принудить, направить, задушить внешний и внутренний мир) и остаться полностью открытым, чутким, пробужденным, живым. В терминологии дзэн такое состояние часто называется "опустошением себя"; это выражение не означает чего-то отрицательного; имеется в виду состояние открытости для того, чтобы получать. В христианской терминологии подобное состояние часто называли "убить себя и принять волю Бога". Между христианским и буддийским переживаниями, которые оба лежат за этими двумя формулировками, как будто нет значительной разницы. Однако в том, что касается популярных толкований и опыта, такая формулировка означает, что вместо самостоятельного принятия решений человек оставляет решение на долю всезнающего и всемогущего Отца, который надзирает за ним и знает, что для него лучше. Ясно, что при таком переживании человек не становится открытым и чутким, а делается покорным и послушным. Следование воле Божьей в смысле отказа от эгоизма лучше всего совершается в том случае, если вообще не существует никакого представления о Боге. Парадоксальным образом я действительно следую воле Божьей, когда забываю о Боге. Понятие дзэн о пустоте подразумевает этот истинный смысл отказа от собственной воли, однако не вызывая при этом опасности регрессии и отклонения к идолопоклонническому понятию о подающем помощь Отце.
Средний человек думает, что находится в состоянии пробужденности; но в действительности он пребывает в полусне. Говоря о "полусне", я имею в виду факт его соприкосновения с реальностью. Это соприкосновение оказывается очень неполным, ибо большая часть того, что он считает реальностью (внутри или вне самого себя), представляет собой набор вымыслов, сконструированных его умом. Он осознает реальность только в той степени, в какой это вызвано необходимостью его социальных функций; он осознает своих собратьев-людей постольку, поскольку нуждается в сотрудничестве с ними; он осознает материальную и социальную реальность постольку, поскольку это нужно ему для манипулирования ею. Он осознает реальность в той мере, в какой цель выживания делает такое осознание необходимым. Сознание среднего человека является главным образом "ложным сознанием", ибо составлено из вымыслов и иллюзий, тогда как именно то, чего он не осознает, и есть реальность. Поэтому мы можем провести различие между тем, что человек осознает, и тем, что он начинает осознавать. Осознает он главным образом вымыслы; начать осознавать он может те реальности, которые скрываются под этими вымыслами.
Поскольку сознание представляет лишь малую часть социально предусмотренного, а подсознание раскрывает богатство и глубину универсального человека, состояние подавления имеет своим результатом тот факт, что "я", как случайная, социально обусловленная личность, оказывается отделено от меня, как целостной человеческой личности. Я чужд самому себе, и в той же самой степени каждый другой человек чужд мне. Я отрезан от обширной сферы общечеловеческого опыта и остаюсь лишь фрагментом человека, калекой, который чувствует только малую часть того, что составляет реальность для него и для других.
Человек в состоянии подавления не видит того, что существует; однако он вкладывает свои мысленные образы в вещи и видит вещи в свете этих мысленных образов и своей фантазии, но не в их реальности. Именно это создавание мысленных образов, искажающей завесы, создает и его страсти, и тревоги. В конце концов человек в состоянии подавления вместо переживаний вещей и людей переживает продукцию мозга. Он находится под действием иллюзии соприкосновения с миром, тогда как на самом деле соприкасается лишь со словами. Паратаксические искажения, ложное сознание и умствование, строго говоря, не являются отдельными путями нереального; это скорее разные, однако совпадающие аспекты одного и того же явления нереальности, которое существует столько же, сколько универсальный человек остается отдельным от человека социального. Мы только по-разному описываем одно и то же явление, говоря о том, что человек, живущий в состоянии подавления, есть человек отчужденный. Он проецирует собственные чувства и идеи на предметы, а затем не чувствует себя субъектом своих чувств и попадает под власть объектов, заряженных его чувствами.
Противоположностью отчужденному, искаженному, паратаксическому, ложному, мозговому переживанию является немедленное, непосредственное, тотальное восприятие мира, которое мы видим у младенца и маленького ребенка, пока сила воспитания не изменила эту форму переживания. Для новорожденного младенца еще нет разделения между "мной" и "не-мной". Такое разделение появляется постепенно и наконец завершается в том факте, что ребенок может говорить "я". Но постижение ребенком мира все еще остается относительно непосредственным и немедленным. Когда ребенок играет с мячом, он действительно видит, как движется мяч, он полностью находится внутри этого переживания; и вот почему это переживание может повторяться без конца, вызывая у него непрекращающуюся радость. Взрослый тоже уверен в том, что он видит, как катится мяч. Это, конечно, верно, если речь идет о том, что он видит, как объект-мяч катится по объекту-полу. Но в действительности он не видит, как катится мяч. Он думает о том, что мяч катится по поверхности пола. Когда он говорит "мяч катится", он на самом деле подтверждает:
a. свое знание того факта, что находящийся перед ним круглый предмет называется мячом;
b. свое знание того явления, что круглые предметы, получив толчок, катятся по гладкой поверхности.
Его глаза действуют с целью подтвердить его знание и таким образом обеспечить ему безопасное существование в этом мире. Состояние свободы от подавления - это также такое состояние, в котором мы снова обретаем то же самое немедленное, неискаженное постижение реальности, простоту и непосредственность ребенка; однако, после того как мы прошли через процесс отчужденности, через развитие интеллекта, свобода от подавления оказывается возвратом к невинности на более высоком уровне; подобный возврат к невинности возможен только после того, как мы ее утратили.
Что же происходит затем в этом процессе, где бессознательное становится сознательным? Отвечая на этот вопрос, нам лучше сформулировать его по-другому. Нет состояния "сознательности" и нет состояния "бессознательности"; есть лишь степени осознания сознательности и осознания бессознательности. Таким образом, нам следует задать вопрос: что происходит, когда я осознаю то, чего не осознавал раньше? В соответствии с тем, что было сказано раньше, общий ответ на данный вопрос гласит, что каждый шаг в этом процессе совершается в направлении понимания фиктивного, нереального характера нашего "нормального" сознания. Стать сознательным по отношению к бессознательному и таким образом расширить наше сознание означает войти в соприкосновение с реальностью и в этом смысле - с истиной (интеллектуально и аффективно). Расширить сознание - значит пробудиться, поднять завесу, покинуть пещеру, внести свет во тьму.
Может ли такое переживание быть тем же самым, которое дзэн-буддисты называют "просветлением", или сатори? Сатори не является ненормальным состоянием ума; это не транс, в котором исчезает реальность; это и не нарциссическое состояние ума, которое можно увидеть в некоторых религиозных проявлениях. "Во всяком случае, это совершенно нормальное состояние ума..." - говорит Д.Т. Судзуки. Сатори оказывает необычное действие на пережившего его человека. "Все виды вашей психической деятельности отныне будут протекать в ином ключе, и эта деятельность окажется более удовлетворяющим, мирным, более наполненным радостью переживанием, нежели все, что вы испытали когда-либо раньше. Изменится весь тонус жизни. В обладании дзэн есть нечто омолаживающее. Весенний цветок покажется более прелестным, а горный ручей - более прохладным и прозрачным".
Вполне ясно, что сатори, описанное в цитированном выше отрывке Д.Т. Судзуки, есть истинное осуществление состояния благополучия. Если бы мы попытались выразить просветление в психологических терминах, я сказал бы, что это такое состояние, в котором человек полностью настроен на реальность вне и внутри него, состояние, в котором он целиком осознает реальность и полностью ее воспринимает. Он осознает это - иначе говоря, осознает не его мозг, не какая-то другая часть его организма, а он, человек в его целостности. Он осознает это, т.е. осознает реальность, не какой-то внешний объект, который воспринимает при помощи своей мысли, а это - цветок, собаку, человека в их полной реальности. Он тот, кто пробудился, кто открыт и восприимчив по отношению к миру; он способен быть таким открытым и восприимчивым, потому что перестал держаться за самого себя, как за предмет, и таким образом стал пустым, готовым принимать. Быть просветленным означает быть "тотальной личностью, полностью пробужденной к реальности".
Эта цель полного пробуждения сферы бессознательного при помощи осознания вполне очевидно является более радикальной, чем общая цель психоанализа. Легко увидеть и причины: достижение подобной тотальной цели требует усилия, далеко превышающего те усилия, которые люди Запада в большинстве своем пожелают совершить. Но даже целиком оставляя в стороне вопрос об усилии, мы должны иметь в виду, что только отчетливое представление такой цели возможно лишь при некоторых условиях. Прежде всего, эту радикальную цель можно ясно увидеть только с точки зрения определенной философской позиции. Нет необходимости детально описывать эту позицию. Достаточно сказать, что она направлена не на отрицательную цель, не на отсутствие болезни, а на положительную цель, на наличие благополучия; это благополучие понимается в смысле полного единения, непосредственного и незамутненного постижения мира.
Но было бы ошибкой полагать, что радикальная цель устранение состояния подавления - не имеет никакой связи с целями психотерапии. Точно так же, как мы признали, что излечение какого-нибудь симптома и предупреждение формирования будущего симптома невозможно без анализа и перемены характера, мы должны признать, что и изменение той или иной черты невротического характера невозможно, если мы не преследуем более радикальную цель - цель полного преображения человека.
Что же происходит в процессе психоанализа? Человек впервые ощущает, что он тщеславен, испуган, полон ненависти, тогда как сознательно был уверен в том, что является скромным, храбрым, любящим. Это новое прозрение может потрясти его; однако оно открывает ему двери прозрения и дает возможность прекратить проецирование на других подавляемых в самом себе качеств. Он продолжает анализ; он переживает внутри себя младенца, ребенка, подростка, преступника, безумца, святого, художника, мужчину и женщину; он приходит к более глубокому соприкосновению с человечеством, с универсальным человеком; он подавляет меньше; он становится более свободным, менее нуждается в проецировании, в действиях мозга; затем он впервые становится способен почувствовать, что видит цвета, видит покатившийся мяч; его уши внезапно открываются для музыки, тогда как до настоящего времени он только слушал ее; ощущая свое единство с другими, он может впервые уловить проблеск иллюзии, говорящей ему, что его отдельное индивидуальное "я" есть нечто, что за него можно держаться, можно его культивировать, спасти; он почувствует бесплодность поисков ответа на вопросы жизни при помощи обладания собой, а не при помощи бытия и становления самим собой. Все эти переживания оказываются внезапными и непредвиденными, лишенными интеллектуального содержания; однако после них человек чувствует себя более свободным, более сильным, менее озабоченным, чем он был когда-либо раньше. Подлинное психоаналитическое прозрение приходит, не будучи вынужденным, даже не будучи предусмотренным. Оно начинается не в мозгу, а, пользуясь японским образом, в животе. Его нельзя адекватно сформулировать в словах; а если кто-то пытается это сделать, оно ускользает; и все-таки оно реально и сознательно и оставляет пережившего его человека изменившимся.
Я предположил, что метод раскрытия бессознательного, если его довести до крайних следствий, может оказаться шагом к просветлению - при условии, что он применяется внутри философского контекста, наиболее радикально и реалистически выраженного в дзэн. Но только многочисленные дальнейшие опыты применения этого метода показывают, как далеко он может нас повести. Выраженная здесь точка зрения подразумевает только возможность и, таким образом, имеет характер подлежащей проверке гипотезы.
Но что можно сказать с большей определенностью - так это то, что знание дзэн и его практика могут оказать чрезвычайно плодотворное влияние на теорию и технику психоанализа и многое в них прояснить. Дзэн, столь отличный в своих методах от психоанализа, может заострить фокус, бросить свет на природу прозрения, повысить ощущение виденья, творчества, преодолеть аффективную запятнанность и ложную интеллектуализацию, которые являются неизбежными результатами опыта, основанного на противопоставлении субъекта объекту. В самом своем радикализме по отношению к интеллектуализации, авторитету и заблуждениям "я", в своем подчеркивании цели благополучия мысль дзэн углубит и расширит горизонт психоаналитика и поможет ему прийти к более радикальному пониманию постижения реальности как последней цели подлинного, полного и сознательного осознания.
Если позволить себе дальнейшие спекуляции относительно связи между психоанализом и дзэн, можно думать, что существует возможность значимости психоанализа для изучающих дзэн. Я могу представить эту значимость в виде помощи, позволяющей избежать опасности ложного просветления (которое, конечно, не является просветлением), чисто субъективного состояния, основанного на психотических или истерических явлениях, а также на самонаведенном состоянии транса. Аналитическое прояснение может помочь изучающему дзэн избавиться от иллюзий, отсутствие которых и есть самое важное условие просветления.
Какое бы применение ни нашел дзэн в психоанализе с точки зрения западного психоаналитика, я выражаю свою благодарность за этот драгоценный дар Востока. Подобное понимание не было бы возможным, если бы не тот факт, что "природа Будды заключена внутри всех нас", что человек и существование суть универсальные категории, что непосредственное постижение реальности, пробуждение и просветление являются универсальными переживаниями.
Глава 6
Роси Дзесю Сосаки
ГДЕ НАХОДИТСЯ "Я"?
Роси Дзесю Сасаки - настоятель центра дзэн в Симарроне и центра дзэн в Маунт Болди. Учил системе риндзай-дзэн в Соединенных Штатах и Канаде; автор книги "Будда - центр тяжести".
Как человеческие существа мы состоим из двух видов деятельности. Первый вид называется абсолютным Я, в котором вы забываете или не узнаете себя, как это случается в момент, когда по-настоящему обнимаете своего возлюбленного или свою возлюбленную. Когда мужчина и женщина обнимают друг друга, разве женщина думает о том, что она женщина, разве мужчина думает о том, что он мужчина? Проверьте это. Ваша возлюбленная, вероятно, оттолкнула бы вас, если бы вы во время объятий думали о чем-то другом. Лишь после объятий и разъединения мужчина говорит женщине: "Ты - самая прелестная женщина в мире!", а женщина говорит мужчине: "Ты силен, как Геркулес!" Второй вид деятельности - это деятельность индивидуального "я", которая объективизирует мир и самого себя, которая занята этими проблемами. В жизни необходимы оба фактора.
Если бы, например, вам пришлось все время оставаться в объятиях своей возлюбленной, вы никогда не смогли бы вести творческую индивидуальную жизнь. Мужчина и женщина должны разъединяться, чтобы выполнять свою работу в этом мире. Если двое любовников проводят все время в постели, через три или четыре дня простыни начнут неприятно пахнуть. Вам придется встать, попросить возлюбленную выйти на воздух, проветрить комнату, заняться работой, игрой, а затем можно будет возвратиться в кровать. Каждый из нас живет, проявляя себя двояко - как абсолютное Я и как индивидуальное "я". Человеческая жизнь в основе своей является бесконечным циклом повторений забвения "я" и его утверждения.
Когда "я", утраченное в объятиях, вновь возвращается к жизни и двое любовников отделяются друг от друга, обнаруживается, что друг на друга смотрят два пупка. И в этом разделении вы утверждаете свое "я", а затем возникает конфликт: один хвалит чужой пупок, а другой критикует. Когда вы утверждаете себя как "я", "меня", "мое", вы укрепляете свой центр тяжести. Каждый человек обладает тем, что я называю центром тяжести; им обладают также этот стол, эта чашка. Когда вы утверждаете себя как "я", в то же самое время утверждает себя птица, а также сосна, москит, скала. Каждое существо утверждает себя; у каждого есть собственный пупок.
Любая реальность в мире имеет свой собственный центр тяжести. Но центр тяжести - это не такой объект, на который вы можете указать. Это интегративная сила, функция, объединяющая вас, как именно вас самих.
Учение Будды говорит, что вам необходимо прийти к постижению этой функции, составляющей существенное свойство вашей личности, увидеть, как вы собраны в одно целое, увидеть, что удерживает вас в собранном состоянии. На более обычном языке это означает познание себя. Вы можете понимать или не понимать эту функцию "я"; однако даже без ее понимания вы уже проявляете эту функцию точно так же, как в своем естественном состоянии москит, сосна или скала проявляют объединяющую интегративную функцию, не осознавая ее. Мужчина имеет собственный центр тяжести, а женщина свой. В то время как сосна, камень или птица, возможно, не должны думать об этой функции, не имеют осознаваемого "я", человек являет собой мыслящее существо. Когда вы утверждаете себя, говоря "я", или утверждаете нечто для себя, вы отличаетесь от камня или сосны, которые ничего не утверждают. Вы обладаете индивидуальным "я")". Поскольку вы имеете это "я", вам нужно вполне осознавать объединяющую интегративную функцию центра тяжести. Мужчина, глядя на женщину, должен достичь осознания того факта, что он проявляет себя как объединяющая интегративная функция вместе с этой женщиной; он должен пережить Абсолютное Я совместно с ней. Не растворив индивидуальное "я", вы не можете пережить абсолютного; и если вы будете просто утверждать себя как "я", без абсолютного переживания, неизбежно возникнут конфликты.
С осознанием природы "я" вы почувствуете уважение к себе; вы сможете также уважать и других людей. Мужчина относится с уважением к женщине, а женщина - к мужчине. Если вы не обладаете этим видом осознания, тогда, увидев красивый цветок, вы срываете его, нюхаете, а затем выбрасываете. Здесь налицо полное неуважение к этому цветку, который также обладает своим собственным объединяющим интегративным центром, при помощи которого он проявляет себя как цветок. Когда вы, как индивид, обладаете осознанием того, что вы такое, того, как вы составлены, когда вы обладаете осознанием глубинной функции своего существа, вы оказываетесь настоящим человеком. С этим осознанием взаимоотношения между людьми, будь то другие мужчины или женщины, протекают гладко, потому что при них наличествует основа уважения. С буддийской точки зрения на жизнь, вы должны научиться в равной мере уважать даже самую малую вещь, даже камень, как и других людей, потому что каждая вещь проявляет такой же самый центр тяжести, что и ваш. То самое сознание, которое понимает природу "я", является основанием уважения к жизни.
И вот когда вы обнимаете свою возлюбленную или держите в руках любимую собаку, куда уходит это "я"? Куда исчезает пупок? Когда я глажу поверхность этого стола, чтобы ощутить, какая она гладкая, какая прекрасная, куда уходит мое "я"? Нет необходимости объяснять это; нам ясно и так, что мой центр тяжести и центр тяжести стола стали одним. Мое индивидуальное "я" полностью отдано индивидуальному "я" этого стола, и у меня более нет необходимости утверждать какое-то отдельное "я". Когда двое заключают друг друга в объятья, дело не в том, что "я" оказывается утраченным просто нет нужды утверждать это "я"; нет нужды оспаривать его. Как раз это состояние и подразумевается под абсолютным Я в буддизме; а я называю его абсолютным центром тяжести. Истинная любовь есть осуществление такого абсолютного центра тяжести. Когда вы любите цветок, когда вы обнимаете любимого человека, когда играете с любимой собакой, вы проявляете абсолютный центр тяжести; однако вы не знаете этого, не узнаете, потому что индивидуальное "я", которое знает, при этом растворено.
Я работаю с американцами в течение шестнадцати лет, но мне как-то кажется, что им очень трудно постичь реальность, скрытую за такими словами, как "абсолютное Я" и "абсолютный центр тяжести". Вы получили образование и воспитание, рассчитанные на то, чтобы утверждать свое "я", видеть жизнь и мир, думать о них с точки зрения этого утверждения, даже не подвергая сомнению его истинность. Вы, вероятно, никогда не получали подготовки в деятельности абсолютного Я. Вот почему, даже несмотря на то, что вы постоянно проявляете абсолютное Я, вам не хватает признания его функции и способности оживлять ее, когда это требуется в вашей жизни. Однако даже без какого-либо формального обучения в сфере деятельности абсолютного Я в вашей истории были индивиды, которые достигали этого осознания и отражали переживание абсолютного Я в своих произведениях, полных любви, истины и красоты. Буддизм учит, что для постижения абсолютного Я вы не нуждаетесь в каком-то специальном даре.
Здесь каждый говорит о сатори. Американцы любят это экзотическое животное по имени сатори. На самом же деле сатори имеет две части: постижение абсолютного Я (в котором не остается никакого переживаемого "я") и затем, когда это единение оказалось расторгнутым, следует постижение индивидуального "я", которое объективизирует абсолютное Я. Именно в этом и заключена существенная трагедия современного воспитания: вас учат только утверждать "я", развивать лишь один этот аспект. Утверждая индивидуальное "я", не зная абсолютного Я, вы подходите к проблемам мира, как если бы они были внешними по отношению к вам. Однако с такой односторонней перспективой "я" вы вечно будете стремиться к тому, что кажется вам только каким-то внешним объектом. Поскольку вы переживаете мир как нечто внешнее по отношению к вам, поскольку вы никогда не бываете едиными с ним, вы вечно стремитесь к этому миру, вы порабощены им, а потому никогда не в состоянии почувствовать мир в его истинной радости. Сатори в наивысшем смысле означает, что во вселенной есть только один центр тяжести и вы сидите в этом центре тяжести. То, что вы обычно называете абсолютной или высочайшей реальностью, должно стать вашим собственным переживанием. Когда вы будете обладать таким переживанием абсолютного, тогда не будет необходимости продолжать искать вещи за пределами самих себя. Когда вы действительно обнимаете своего друга, вы не ищете ни друга, ни самого себя. Это и есть абсолютное Я.
Отделившись друг от друга после объятий, вы затем узнаете переживание осуществления. Пережив Бога или Будду, ощутив в них не что иное, как самих себя, вы возвращаетесь к отдельному существованию и поклоняетесь Будде или молитесь Богу. Двое возлюбленных, обняв друг друга, переживают абсолютное Я; но когда они отделяются друг от друга, тогда возникает уважение друг к другу. В этих двух видах деятельности нет ничего мистического; их бесконечное повторение являет собой основу человеческой жизни. Все, чего нам не хватает, - это истинная мудрость, понимающая эту функцию.
Приходится ли абсолюту, Будде или Богу есть? Если Будда или Бог голоден, он не "абсолютен"; в мире абсолютного, в мире самадхи нет ресторанов, нет комнат отдыха. Гарри Снайдер сидит здесь; это поэт; и если он поймет сказанное, он, вероятно, напишет стихи:
На небесах нет туалетов,
В Чистой Земле нет ресторанов,
Вот где я не хотел бы жить!
Ибо поэт возносит хвалы миру, цветку, москиту, мужчине и женщине. Будучи людьми, вы, несомненно, предпочитаете жить в этом человеческом мире со всеми его разделениями, с его многообразием предметов. Но, будучи людьми, вы также способны постичь этот мир как абсолют. В конце концов, кто говорит о Боге, кто переживает просветление? Не кто иной, как люди. Глубочайшая мудрость человека состоит в том, чтобы основывать свою жизнь на постижении мира, как относительного, или индивидуального, так и абсолютного.
В человеческой деятельности индивидуального "я" желание естественно. Однако нынешняя культура основана только на этом одном аспекте жизни, на индивидуальном "я"; поэтому она представляет только человеческое желание. Таким образом, если мы будем по-настоящему рассматривать проблемы данного общества, нам придется начинать с рассмотрения природы желания и индивидуального "я", на которых построено это общество.
Буддизм учит, что нет постоянного существа, такого, как "я". "Я" подобно настоящему времени: проходит одно мгновенье за другим, настоящее растворяется в прошлом, будущее становится настоящим, и не оказывается такого фиксированного образования, которое можно было бы назвать "настоящим". Деятельность, создающая настоящее, не прекращается. Подобным же образом мы можем понимать и "я". "Я" не есть какой-то постоянный предмет. Оно возникает в ограничивающей деятельности абсолютного. Привязанность к "я" фактически невозможна, так как "я" не обладает постоянной природой. Поэтому невозможно и пытаться удовлетворить желания "я". Культура, основанная на обеспечении этого удовлетворения, не может иметь успеха. То, что нужно, - это мудрость, постигающая привязанность к тому, что превыше "я", и создающая культуру, основанную на этой привязанности.
Когда вы переживете это абсолютное Я, вы ясно поймете функцию повторения, проявляющуюся в жизни: индивидуальное "я" растворяется в постижении абсолютного Я; за этим следует раскол абсолюта, и снова возникает индивидуальное "я", чтобы опять раствориться в абсолютном. Эта функция повторения называется шуньята, пустота; а я называю ее нулевой функцией. Постижение нуля есть истинный путь утверждения "я". Поскольку это истинное самоутверждение не полагается на удовлетворение желаний, оно представляет собой подлинную свободу. Когда вы переживете абсолют, ограничение ваших собственных индивидуальных желаний возникнет естественно, с радостью.
Эта культура знакома лишь с деятельностью индивидуального "я". Мы говорим о том, как решать мировые проблемы, как спасти нашу среду обитания; но кто хочет отбросить свою привязанность к "я" и свободно проявляться как нуль? Такое бесконечное самореформирование единственно возможная для нас жизнь.
Глава 7
Карл Шпербер
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
Карл Шпербер - психолог, работает в департаменте психического здоровья округа Онеид, штат Нью-Йорк; возглавляет клинику воспитания детей. Проявляет долговременный интерес к восточной культуре; изучал даосизм и дзэн, а также айкидо.
В моей жизни был период, когда я, в качестве клиента психотерапии, только что закончившего работу в групповой сессии, выражал упорный и сильный гнев, который просто бил через край, и лишь слегка ощущал свою малость, оскорбленность и беспомощность, скрытые за этим гневом. Я закончил работу, пожалуй, еще раньше, чем она фактически закончилась, и после этого почувствовал себя расколотым. Одна часть меня самого смотрела перед собой с большим одобрением, с гордостью. Я качался взад и вперед, согнувшись, я цеплялся послушными пальцами за то, что произошло, и кричал, что вот это я сделал такую вещь; я прибавлял сделанное к коллекции собственных доказательств, свидетельствующих, что я оказался тем, чем считал себя, тем, чем мне нужно было быть. Я оказался достаточно сильным, чтобы прямо взглянуть на свою боль, достаточно сильным, чтобы рискнуть, чтобы "расти". Я смог снова увидеть себя целостной личностью с открытым умом. Мой образ самого себя как бы получил подтверждение.
Но, конечно, бывали и другие времена. Неясное и неприятное чувство более не рассеивается, несмотря на все производимое мной давление, несмотря на сосредоточенность и глубокое дыхание. Вопреки всем моим стараниям, всем сознательным усилиям, я чувствовал себя замкнутым, неуверенным в себе; я сомневался во всех предыдущих приобретениях и переживаниях роста. Все они оказывались под угрозой сделаться неполноценными в свете нынешней неспособности превратить данный момент в еще одно подтверждение того "я", каким я желаю быть. Я становлюсь самокритичным до такой степени, что у меня повисают плечи, голос утрачивает всю энергию, а тщательно подобранные слова оказываются бессодержательными. Я стараюсь; я толкаюсь; я осознаю, что на меня устремлены все взоры; я воображаю, что все эти взоры осуждают меня. Но, конечно, самое строгое осуждение выношу я сам: "Боится собственных чувств; скрытен; недостает осознания самого себя; никакого движения; подражателен; утомителен; малоподвижен". Я украдкой пробираюсь в собрание группы, мрачный и подавленный; и это продолжается до тех пор, пока снова не придет время, когда я, опять-таки в силу все еще неизвестных мне причин, перестаю толкаться, перестаю стараться, перестаю что-то делать, и тогда что-то такое, что сидит внутри меня, получает возможность выйти на поверхность.
Именно в оценке личности на основании подобных переживаний, в их коллекционировании, в попытках утвердить свой подобранный образ самого себя - в этом и заключается психотерапевтический материализм. Чогьям Трунгпа описывает то же самое явление в психике искателя духовного просветления. "Проблема состоит в том, что "я" способно обратить в свою пользу все, что угодно, даже и духовность", т.е. переживания роста. "Наши обширные коллекции знаний и опыта - только часть тщеславия "я", часть его грандиозного хвастовства. Мы выставляем все это напоказ перед целым миром; поступая таким образом, мы уверяем себя в том, что существуем в безопасности и неприкосновенности как "духовные" люди".
По отношению к себе я могу все это в точности перефразировать следующим образом: мы демонстрируем миру накопленные нами переживания роста и понимания себя; поступая таким образом, мы успокаиваем самих себя, доказываем себе, что мы существуем в безопасности и неприкосновенности как "проявляющие себя" люди.
Разумеется, такое самоутверждение продолжается недолго. В него всегда включено сомнение; оно порождается не только другими людьми, с которыми мы сталкиваемся и которые как будто ушли дальше нас; дело также и в том, что такая достоверность постоянно требует нового подтверждения. Поскольку рост - это Процесс, а не конечное состояние, для того чтобы добиться удостоверения растущей, целостной личности, без переживания этого своего роста нельзя уйти слишком далеко, пока мы не начнем чувствовать его отсутствие, не начнем желать его, нуждаться в нем. Существование без подкрепления того образа самих себя, который мы избрали как свою уникальную личность, угрожает этой личности неполноценностью, угрожает смертью. И точно так же, как в стремлении к духовности, такая потребность в переживаниях роста становится просто помехой, возникающей на пути к собственному удовлетворению. Все подобные устремления это функция "я", неудовлетворенного тем, что существует в действительности, испытывающего потребность чем-то становиться, подтверждать свое существование как реального явления.
Психотерапевтический материализм - это парадокс "я", стремящегося перейти границы самого себя; он подобен сознательному стремлению заснуть или, что еще более нелепо, старанию прыгнуть, не пользуясь при этом собственными ногами.
Потребность быть психотерапевтом
Точно так же понятие психотерапевтического материализма применимо и к самому психотерапевту. Как я думаю, истинная психотерапия имеет место тогда, когда психотерапевт пуст, когда все его присутствие и осознание находятся вместе с пациентом, так что при этом оказывается налицо та интимная связь подлинного понимания, которая бывает столь редкой и столь питательной. Только тогда психотерапевт на мгновенье становится опустошенным от своих потребностей, в особенности от потребности быть хорошим психотерапевтом или человеком высшего порядка, - только тогда он или она способны на полное соприкосновение с пациентом, с данными психотерапии - с чувствами, мыслями и образами, пробужденными у психотерапевта его клиентом.
Во время такого тотального контакта я только ретроспективно узнаю, что находился вместе с клиентом, вижу это лишь косвенно. Иначе говоря, мне приходится заново создавать и переделывать свое переживание, чтобы привести его в соответствие с дуалистической необходимостью субъективно-предикативной вербализации. В такие моменты нет сознавания "я", отличного от другого человека. Человек и мгновенье - вот все, что существует для меня в этот редкий момент полного контакта. Я ничего не делаю. Кажется, появляются какие-то слова; они как будто текут сквозь меня. Клиент тронут; он может заплакать; вспышка прозрения, значительное облегчение, интеграция. Или же клиенту вообще нет нужды отвечать как-то по-особому; все же я знаю, что "это" произошло. Я радостно хватаюсь за этот случай: я достиг того, чего постоянно добивался. Я "почувствовал" то единство со своим клиентом, которое, как я убежден, представляет собой сущность хорошей психотерапии.
В то же мгновенье, когда я более не нахожусь в состоянии единения, когда я более не пребываю в полной связи с клиентом, когда я выношу суждение о том, что произошло, терапевтические взаимоотношения закончились. Они пришли к концу в силу моей потребности видеть в себе "хорошего психотерапевта", в силу потребности прибавить этот случай к моему собранию доказательств того, что я - такая достойная, целостная личность, а другие люди растут благодаря контакту со мной.
И вот как раз этот внутренний, противоречивый процесс, в котором "я" приписывает себе то, что является результатом только полного присутствия в данном моменте - и потому оказывается на мгновенье лишенным "я", - я называю "психотерапевтическим материализмом". Это тонкая форма невроза.
Стремление к росту
Здесь на пути к цели, которую я наметил для себя, возникает кажущееся непреодолимым препятствие. Как смогу я когда-нибудь стать просветленным, или вполне целостным человеком, или пустым, если все мои усилия представляют собой всего лишь другой, более тонкий способ утверждения существования и подлинности моего "я" т.е. как раз того аспекта, который я стараюсь преодолеть?
Гуманисты долго твердили нам, что природная склонность человека направлена к росту. Однако психотерапевтический материализм - это одно из подтверждений "я", которое стоит прямо на пути роста. Все такие суждения и стремления имеют двойственный характер: пока я сужу о своих чувствах или о состояниях своего сознания, я нахожусь вне роста, я не могу быть целиком захваченным ростом. Отсюда видно, что такие суждения и стремления суть антитезис достижения его цели антитезис единства.
Мне приходит на ум образ. Передо мной берег океана; цепь скал выступает над водой и скрывается под ней; этот подводный утес, узкий и мощный, как бы рассекает воду на два отдельных видимых тела. На каждой стороне плещут волны; их движения представляются двумя потоками, устремленными друг к другу; с каждым порывом они стремятся преодолеть этот утес, который мешает им соединиться в едином порыве. И вот когда я в достаточной мере суживаю свое поле зрения, оно напоминает мне этот подводный утес. Но вот, просто отступив назад и расширив поле зрения до всеохватывающей перспективы, расширив сознание, я вижу, что это разделение волн утесом есть всего лишь иллюзия; ибо обе волны - часть одного океана и всегда были едины, хотя кажутся раздельными только вследствие моего отбора восприятий и представления о стараниях, направленных на то, чтобы стать единым.
Мне ясно, что это - подходящая метафора. Теперь для меня этот утес - то, что я диагностировал как свой "психотерапевтический материализм", непреодолимое препятствие на пути к психологической интеграции. Однако, когда я по-настоящему "вижу", я вижу себя уже целостным, вижу, что мне нечего преодолевать.
В такие мгновенья пустоты, освобожденности, полного контакта с другим человеком, я знаю, что я - все, чем могу быть. Ценность этих мгновений "неделанья" заключается не в том, как далеко они уводят меня по направлению к моему идеалу совершенного психотерапевта (или совершенного человека); такие мгновенья суть не более и не менее, чем полное бытие. И они не имеют цены.
Глава 8
Джон Уэлвуд
ДРУЖБА С ЭМОЦИЯМИ
Эмоции представляют собой наиболее обычные переживания, при которых нами движут силы, кажущиеся уже неподвластными нашей воле. Как таковые, они считаются одними из наиболее смущающих и пугающих явлений повседневной жизни. Люди часто относятся к ним как к чему-то вредному или угрожающему; однако неспособность прямо и непосредственно переживать эмоции подрывает душевное здоровье и благополучие.
Как могли бы мы подойти к эмоциям с большей прямотой и бесстрашием? Способны ли мы когда-нибудь подружиться со своими эмоциями и принять их как часть нас самих? Почему в нашей культуре так трудно прийти к согласию с эмоциями? В чем заключается различие между бесполезным блужданием в эмоциональных кругах и работой с эмоциями в более здоровом подходе? Возможно ли углубиться в эмоции, пойти им навстречу, взглянуть на них прямо, увидеть их такими, каковы они есть, так, чтобы позволить им расширить наши ощущения при помощи своей энергии? Можно ли нам благодаря эмоциям глубже почувствовать то, что мы такое? Если мы сумеем разрешить себе чувствовать просто то, что мы действительно чувствуем, вместо того чтобы реагировать против этого переживания, осуждать его, пытаться манипулировать им, подавлять его, мы, может быть, выработаем в себе большую уверенность при встречах с трудностями и ударами жизни.
Эмоции в западной психологии
Предмет эмоций оказывается одной из самых запутанных глав современной психологии. Любой желающий изучить эмоции по трудам западной психологии обнаруживает в теориях эмоций, их возникновения и значения такое обилие противоречий, что приходит в полное замешательство. Джеймс Хилмэн в конце своего кропотливого исследования этих теорий смог прийти только к такому заключению: "Проблема эмоций, до каких бы пределов она ни расширялась, остается вечной и невыразимой в словах".
В истории западной культуры существовал период, когда к эмоциям относились с недоверием и презрением, считая их чем-то чуждым, "другим", отдельным от нас. Начиная с Платона, "страсти" обычно рассматривались как наша "низшая природа". Точка зрения на источник страстей, высказанная Фрейдом, где этим источником названо "оно", или первобытный хаос, котел, в котором бурлит возбуждение, еще более затрудняет дружественный подход к эмоциям и приятие их в качестве части нас самих. Взгляд на эмоции как на нечто примитивное и чуждое представляется классической точкой зрения Запада; он вносит разделение между нами и эмоциями и являет собой резкую противоположность медитативному подходу, который считает, что как раз наша отчужденность от эмоций делает их столь неконтролируемыми и самовластными.
Дуалистическое отношение к эмоциям, видящее в них нечто "чуждое", может привести к стараниям избавиться от них при помощи импульсивного их выключения или подавления. Однако ни один из этих стратегических приемов не позволяет нам переживать свои эмоции такими, каковы они есть, встречать их лицом к лицу. Уклонение от эмоций и их подавление часто лишь удерживают нас в состоянии отдельности от них.
Прежде чем исследовать вопрос о том, как работать с эмоциями по-иному, важно понять, что такое эмоции и как они обычно возникают.
Спектр глубинной энергии
Жизнь наших чувств обладает целым спектром выражений - от глобального и диффузного до острого и напряженного. Этот спектр энергии чувств можно изобразить графически в форме конуса с широким и глубоким основанием; по мере того как мы приближаемся к вершине, очертание конуса становится более узким и напряженным.
эмоции
чувства
глубинное самочувствие
глубинная жизненность
Все наши чувства и эмоции произрастают из глубинного жизненного потока, текущего сквозь нас. Биолог Рене Дюбо описывает эту глубинную жизненность как некое животворное чувство, сохраняющееся под поверхностью всех подъемов и падений внешних обстоятельств:
Большинство людей находится под властью иллюзии относительно переживания жизни: они полагают, что могут быть счастливы только в том случае, если происходит что-то особенно приятное. Как ни странно, существует лишь одна известная мне фраза для выражения того факта, что жизнь сама по себе хороша, что хорошо уже просто быть живым... Это французское выражение "радость жизни". Фраза "радость жизни" означает только то, что просто быть живым необыкновенное переживание. Каждый может увидеть качество этого переживания, наблюдая за маленьким ребенком или за молодым животным во время его игры весной. Вам совершенно неважно все, что происходит, кроме того факта, что вы живете. Это не значит, что вы очень счастливы тем, как живете; вы можете даже страдать; но просто быть живым - это само по себе особое качество.
Наша глубинная жизненность есть также источник нашей восприимчивости и нежности. Поскольку мы фундаментально открыты и восприимчивы к жизни, мы оказываемся уязвимыми. Наша мягкая кожа, тонкая деятельность органов чувств, мозга и нервной системы - все это рассчитано на то, чтобы открыть доступ миру. Чувство и эмоция - то, что возникает в ответ на этот вход мира.
Наша жизненность - не только источник чувств; она вместе с тем содержится внутри них, как вода, будучи колыбелью жизни, одновременно является универсальным элементом всех живых тканей. Подобно земле, наше ощущение жизненности окутывает и питает нас особыми чувствами, растущими из его почвы. Подобно вдыхаемому воздуху, оживляющему все тело свежим источником энергии, наша жизненность обеспечивает открытым пространством ядро чувств, и это всегда предохраняет эти чувства от тотальной неподвижности или плотности. И подобно огню, наше чувство жизненности обладает всеобъемлющим теплом. Установить связь с этой жизненностью, в которой заложено наше глубинное здоровье и благополучие, - значит открыть нашу наиболее глубокую чувствительность, из которой возникают все чувства и эмоции.
Глубинное самочувствие
Между чистой жизненностью и специфическими чувствами и эмоциями, которые нам более всего знакомы, мы обладаем еще глобальными "самочувствиями", связанными с жизненными ситуациями, в которых мы находимся. Например, я могу испытывать гнев по отношению к какому-то человеку; но этот гнев никогда не охватывает всех моих чувств к нему. Мой гнев - только верхушка айсберга гораздо более широкого чувства моего общего отношения, тревоги во взаимоотношениях с ним, а также многих других ощущений, отражающих его воздействие на меня, а также мое отношение к сходным людям и ситуациям в прошлом. Этот более обширный "айсберг" гораздо шире и глубже моего гнева; по-настоящему все эти ощущения можно пережить как глобальное самочувствие тела. Мы можем проникнуть в глубину такого самочувствия, задавая себе вопрос: "Как этот человек чувствует меня в целом?" или "Какой чувствуется для меня эта ситуация в целом?"
Поскольку самочувствие включает в себя многие различные аспекты нашего отношения к ситуации, оно сперва может показаться нам неясным или неотчетливым, проявляясь, например, в виде стеснения в груди или тяжести в желудке. И все же мы способны начать раскрытие его значений, предлагая ему вопросы и давая возможность говорить с нами. К примеру, у клиента, описанного в главе 4, чувство тяжести в желудке, как оказалось, содержало в себе разочарованность, неудовлетворенность, сдержанность, желание более глубокого общения и заботы. Развертывание самочувствия способно помочь раскрыть находящуюся под ним глубинную жизненность и снова связать человека с положительным направлением жизни, которое могло оказаться подавленным затруднительной ситуацией.
Чувства и эмоции
В противоположность самочувствию, которое часто сначала бывает неясным, чувства, такие, как печаль, радость или гнев, бывают сравнительно знакомыми и узнаваемыми. Эмоции представляют собой более интенсивные формы чувств; чувство печали, например, может перерасти в горе, чувство раздражения способно превратиться в дикую ярость. Отличительной чертой эмоции является то обстоятельство, что она господствует над нашим вниманием, так что ее невозможно игнорировать, тогда как чувство может таиться под покровом осознания.
Рождение эмоциональной стесненности
Я предположил, что чувства и эмоции сами по себе не должны были бы превращаться в проблему, если бы мы могли относиться к ним непосредственно. Как же тогда получается, что они становятся такой проблемой, делаются плотными, клаустрофобными или взрывчатыми? Предположим, я пробудил в себе чувство печали. Вместо того чтобы дать этой печали возможность затронуть меня, привести в соприкосновение с тем, что происходит в моей жизни, я могу сосредоточиться на том, как она рассекает мой образ самого себя - образ целостной и удачливой личности. Поскольку мне кажется, что она подрывает этот образ, который мне хотелось бы сохранить, я отхожу от нее и выношу суждение о том, что она плоха. А когда я выношу о печали отрицательное суждение, я отсекаю себя от нее, и она становится замороженной, теряет свое качество нежности, связывающее меня с жизнью. Я захвачен печальными "сюжетами", печальными мыслями и фантазиями, которые проецирую в прошлое и будущее (например: "Что это со мной?", "Никак не разберусь!" и т.п.). Чем больше я копаюсь в этих сюжетах, тем сильнее в них замыкаюсь; чем больше расширяются сюжеты, тем печальнее я становлюсь - образуется некоторый порочный круг, который в конце концов перестраивается в более интенсивные эмоции подавленности и отчаянья. По мере того как из простой печали по поводу какого-то отдельного случая вырастает более тяжелая депрессия, я могу начать видеть в этом свете целый мир, историю всей своей жизни, а также будущие перспективы. Мои подавленные мысленные импульсы излучаются по всем направлениям и все сильнее замыкают меня в состоянии депрессии. Таким образом, моя печаль стала плотной, прочной, тяжелой.
Фактически же печаль может быть чувством своеобразной полноты, в данном случае - полноты сердца. Мы нередко чувствуем печаль, когда сердце, та наша часть, где мы бываем затронуты вещами, оказывается полным. Эта полнота может излиться в слезах; она все еще остается очень нежной и живой - в противоположность замороженному состоянию депрессии, возникающему в результате того, что мы отбрасываем печаль, а не открываемся для нее. Цикл чувств, дающий начало мыслям, уплотняет и замораживает чувство, являясь причиной нашего движения в кругах эмоций, откуда мы никогда никуда не приходим. Когда мы вертимся в этой путанице эмоций, восприятие становится туманным, и мы зачастую говорим или делаем такие вещи, о которых впоследствии жалеем. Чтобы преодолеть эту склонность оказаться захваченными строками эмоционального повествования, требуется некоторая дисциплина; психотерапия и медитация разными способами могут обеспечить такую дисциплину.
Терапевтический подход к эмоциям
Терапевтическая работа располагает одним способом, для того чтобы освободить нас от эмоционального круговращения. Нужно углубиться под поверхность эмоций, чтобы раскрыть более обширное глубинное самочувствие, выражающее всю нашу связь с ситуацией, которую мы столь сильно чувствуем. Когда, например, клиент, описанный в главе 4, под слоем гнева обнаружил более глубокую заботливость, он освободился от давления гнева. Этот довольно простой пример служит иллюстрацией того, что может произойти в терапии на большой глубине при более длительном времени лечения. Попутно может оказаться необходимым также дать выход эмоциям; однако то, что часто кажется освобождением от эмоциональной стесненности, это не сам по себе катарсис, а просто полученная нашими чувствами возможность поговорить с нами и открыть то, на что они хотели бы направить наш взор, то, что они говорят нам о нашем отношении к ситуациям своей жизни. В терапевтической работе нам часто помогает уменье отделить себя от эмоции, персонифицировать ее и дать ей голос, так, чтобы она могла свободно разговаривать с нами без цензуры, которая может возникнуть, если я буду рассматривать эмоцию как "меня". Если мы даем эмоциям раскрыться и говорить с нами, это открывает еще одну возможность - возможность появления "глубинного сдвига", возникновения разрыва в логике ума, в последовательности эмоционального повествования; таким образом разрывается засилье логики, заглушающее жизненный поток, и тогда последний может начать течь более свободно.
Однако существует одно ограничение в терапевтическом подходе к эмоции: это его тенденция не обращать внимания на более обширные ощущения жизненности, зачастую открывающиеся в момент сдвига и облегчения. Исследование чувств может сделаться бесконечным занятием, превратиться в самоцель, нередко затемняющую более широкую жизненность, нежность и открытость, которые мы способны обнаружить с его помощью. До тех пор, пока главнейшей целью психотерапии остается разрешение эмоциональных проблем и укрепление личности, она часто не обеспечивает средств для приобретения полного доступа к этой более широкой жизненности, которая переливается через границы нашей личности.
Медитативный подход к эмоции
Этот доступ в состоянии обеспечить практика медитации - частично потому, что она помогает нам более непосредственно встречать эмоции и работать с ними. Во время медитации практикующий не старается раскрыть значение своих чувств, а просто признает их наличие и возвращается к дыханию. Когда возникают волны эмоциональной бури, он "продолжает сидеть на месте" и как бы едет на этих волнах верхом. При таком образе действий практикующий может начать улавливать, как под белыми гребнями эмоциональной ярости и более крупными волнами чувства в глубине океана все остается спокойным, и личные проблемы вливаются в обширные потоки вселенской жизни.
Практика випассана помогает нам лучше осознавать просветы и разрывы, которые всегда спонтанно обнаруживаются в логике строк нашего повествования. Например, даже среди самого интенсивного гнева мы можем начать улавливать проблески мыслей: "Но почему же я так сержусь? Нужно ли поднимать из-за этого такой шум? Действительно ли дело так важно, каким я его делаю?" Медитация позволяет нам заметить, как большой ум всегда остается доступным, как он порождает вспышки осознания даже тогда, когда мы в наибольшей мере захвачены своими повествованиями. Хотя зачастую мы чувствуем в себе чрезвычайный прилив жизненности, будучи вовлечены в эмоциональные драмы, медитация помогает нам понять свою глубинную, непрерывно движущуюся жизненность, которая всегда присутствует и в драматических, и в недраматических моментах.
Трансмутация
Не подавляя эмоции и не исследуя их смысл, медитация учит нас особым образом чувствовать их обнаженную жизненность и сдерживать их энергию, не касаясь самого повествования, раскрывающегося в их строках. Такой подход к эмоциям, как к средству собственного просветления, прозрения в глубину самого себя и в глубину своих психических комплексов, в буддизме ваджраяны и в других традициях называется трансмутацией. Понятие трансмутации, восходящее к древним традициям алхимии, подразумевает преобразование какого-то кажущегося нестоящим вещества в вещество чрезвычайно ценное, например превращение свинца в золото. Следующее исследование трансмутации будет просто предположительным; оно не претендует на то, чтобы уловить тонкости этого процесса или концептуализировать их, ибо эти тонкости при переживании оказываются гораздо более яркими, нежели это можно описать здесь.
Первый шаг в сторону трансмутации состоит в том, чтобы преодолеть борьбу суждений о себе, принять эмоцию как выражение нашей собственной жизненной энергии. Вместо того чтобы видеть в эмоциях угрозу, можно сотрудничать с ними, позволить им быть просто самими собою. Не будучи захвачены их осуждением, мы можем непосредственно почувствовать их действительную текстуру и качество.
В буддийской традиции трансмутация становится возможной только благодаря практике медитации, в которой мы учимся встречать и принимать все, что возникает в уме, не теряя чувства своего присутствия. Чогьям Трунгпа кратко излагает некоторые аспекты этого процесса:
Существует несколько стадий в отношении к эмоциям: это стадии "видения", "слышания", "нюханья", "прикосновения" и превращения. В случае "видения" эмоций мы имеем общее осознание того факта, что у эмоций есть свое собственное пространство, собственное развитие; мы принимаем их как часть умственного стереотипа, не подвергая сомнению... Затем "слушание" заключает в себе переживание пульсации такой энергии, которая приходит к нам волнами. "Нюханье" представляет собой уяснение того обстоятельства, что энергия есть нечто пригодное для работы... "Прикосновение" есть чувство структуры всего явления; эту структуру вы можете как бы пощупать, как бы стать ее частью; вы ощущаете, что ваши эмоции не являются особенно разрушительными или неистовыми; это всего лишь приливы энергии, какую бы форму они ни принимали... Трансмутация (это) переживание эмоционального прилива, каков он есть; но вы продолжаете работать с ним, становитесь едиными с ним.
Для того, кто привык к борьбе с эмоциями, такая задача может показаться неразрешимой. "Если я позволю себе по-настоящему пережить свои эмоции, я, может быть, стану берсерком!" В большинстве ситуаций подобный страх указывает на то, как мы отчуждены от самих себя. В силу отчужденности нашей собственной энергии, в силу того, что мы сделали ее "другой" и затем вынесли о ней отрицательное суждение, мы можем прийти к убеждению, что эмоции суть демонические проявления, что внутри нас находятся "чудища". Благодаря отношению к эмоциям как к автономной силе мы предоставляем им господство над собой. В своем первоначальном состоянии эмоции являются неустойчивыми выражениями нашей жизненности; это постоянно меняющийся внутренний процесс. Но наши реакции против них и целые повествования, которые мы ткем из них - "мой гнев справедлив, потому что...", "моя печаль плоха, потому что..." - превращают их текучую жизненность в нечто плотное и тяжелое. Ирония здесь в том, что, пытаясь взять эмоции под контроль, мы в еще большей мере подпадаем под их власть. Поэтому мы обнаруживаем, что застряли в их объятьях; а это ведет нас к новым попыткам взять их под контроль или ко взрывам и вспышкам, после которых мы оказываемся в еще большем отчуждении от них.
Первым шагом в процессе укрощения льва эмоций, в превращении их неистовой энергии в просветление будет сотрудничество с ними: мы оставляем их такими, каковы они есть, не вынося суждения о том, хороши они или плохи. Бегство от свирепого животного или попытка подчинить его силой только провоцирует нападение. Путь трансмутации заключается в том, чтобы прямо отождествить себя с энергией эмоций и стать единым с ней. Хотя нам может показаться, что эмоции держат нас в своей власти, как только мы обратимся прямо к ним, мы не найдем ничего столь прочного, столь устойчивого, как наши суждения или повествования о них.
Буддийское определение "я", как привычки "держаться за самого себя", а также контролирование своих переживаний, помогает нам понять, почему так трудно позволить себе почувствовать свои эмоции и оставить их в покое, обычно мы пытаемся воспрепятствовать протеканию эмоций через нас, потому что они угрожают контролю, который мы стараемся сохранить. Поскольку, в силу самого определения, "я" представляет собой деятельность удержания, оно не в состоянии дать свободу чему бы то ни было, оно хочет предотвратить все, что угрожает его хватке. Однако можно позволить эмоциям как бы промыть нас - и при этом смыть вместе с ними контролирующую часть нас самих. Если мы сумеем по-настоящему открыться действительной текстуре эмоций, качеству какого-нибудь чувства, вместо того чтобы стараться контролировать его или выбирать из него сюжеты для повествований, тогда наше "я", деятельность, стремящаяся удержать нас в целости, может раствориться в "этом", в самом процессе более широкого чувства. Если я целиком и полностью стану своей печалью, она может на короткое время усилиться и, пожалуй, я почувствую всю ее болезненность. Однако подлинная возможность ощутить боль и раствориться в ней пробуждает меня для чувства собственной жизни. Мы могли бы назвать эмоции кровью, проливаемой "я"; они начинают течь повсюду, где мы затронуты, всякий раз, когда скорлупа вокруг "я" оказывается разрушенной. Попытка контролировать их представляет собой попытку предохранить скорлупу от трещин; напротив, когда мы даем "я" возможность пролить кровь, это открывает сердце.
Итак, если я прямо взгляну на собственных демонов, они растворяются, обнаруживая мою жизненную энергию. Затем я могу начать чувствовать свою нежность, свою уязвимость по отношению к жизни; а это напоминает мне, что в действительности я - человек, открытый для воздействия мира, связанный со всеми другими людьми и зависящий от них, как и они зависят от меня. Движение за пределы своих суждений и повествований, чтобы почувствовать это обнаженное качество своей жизни, есть прорыв, который облегчает боль и вырабатывает сострадание к другим.
При помощи такого понимания, возникающего в результате переживания, психотерапевт также способен помочь клиентам прямо и более непосредственно подойти к своим эмоциям. Например, я работал с одним мужчиной, жестоко отягощенным чрезвычайной жаждой любви. Первой задачей было преодолеть его критическое суждение об этой потребности ("мне следует больше полагаться на себя; эта потребность ужасна"). Когда он сумел прямо и непосредственно почувствовать эту потребность, он оказался способен открыть в ней свою жизненность. Вот как иллюстрирует этот факт следующая сокращенная запись:
Терапевт: Что же происходит, когда вы позволяете этой потребности оставаться здесь?
Клиент: Она говорит: "Я несчастен; я совершенно одинок; я боюсь". Трудно сделать этот голос собственной жизнью. Мне нужно, чтобы кто-то любил меня и заботился обо мне.
Терапевт: Ну а что, если вы позволите себе на сто процентов почувствовать эту потребность?
Клиент (после долгой паузы): Действительно, когда я позволяю себе это, положение внутри меня меняется... Когда я по-настоящему вхожу в это чувство, оно дает мне ощущение силы... как будто я чего-то стою... В самом деле, появляется другое чувство... я более уравновешен... я ощущаю почву под ногами... гораздо больше пространства... Нет отчаянья, нет страха... Когда я разрешаю себе испытывать эту потребность, ее переживание оказывается весьма плодотворным, даже несмотря на то, что больше здесь никого нет... Я чувствую полноту.
Таким образом, обратив взгляд прямо на свои эмоции, мы можем ощутить проблеск полноты жизни. Эмоции, как нечто такое, о чем мы выносим суждение, от чего отделяем себя, могут показаться непреодолимыми; но как нечто, трогающее нас, они выражают динамическую энергию самой жизни. Превращение эмоции требует жеста раскрытия перед ее энергией; при этом мы не уклоняемся от нее и не оказываемся захваченными возникающими из нее и эмоционально насыщенными мыслями и образами. Учитель тибетского буддизма Тартанг Тулку весьма точно описывает этот процесс:
То, что мы можем сделать, - это сосредоточиться на гневе, не позволяя вмешиваться никаким другим мыслям. Это означает, что мы сидим со своими гневными мыслями, направив сосредоточенное внимание на гнев, но не на его объекты, так, чтобы не производить никаких различий, не иметь никаких реакций. Подобным же образом, когда возникает озабоченность или иное беспокоящее вас чувство, сосредоточивайтесь на этом чувстве, а не на мыслях о нем. Сосредоточивайтесь на центре чувства, проникайте в его пространство. В этом центре находится уплотненная энергия, отчетливая и ясная; такая энергия обладает большой силой и может передавать огромную ясность. Чтобы преобразовать наши отрицательные свойства, нам нужно только научиться касаться их искусно и мягко.
Сначала это может оказаться деликатными маневром. Возможно, у нас появится краткий проблеск более обширной жизненной энергии; а затем мы вскоре снова скатываемся к строкам своих повествований. Однако необходимое для трансмутации устойчивое внимание легче приобрести благодаря практике медитации, когда мы учимся противодействовать "пиратским налетам" своих мыслей.
Реагировать против своих эмоций - опасаться гнева или страха, сердиться на них, погружаться в депрессию по поводу печали - гораздо хуже, чем переживать сами эти первоначальные чувства; потому что реакции замораживают чувства и обращают нас против нас же самих. Содружество с эмоциями раскрывает нас для самих себя и позволяет нам открыть содержащиеся в них разум и отзывчивость. Гнев может стать средством прямого общения, а не орудием оскорбления себя и других. Страх способен пробудить нас к тому, что происходит на самом деле в некоторых ситуациях, а не просто служить сигналом бегства в укрытие. Мы можем понять, что одиночество - это желание поделиться, тогда как печаль являет собой полноту сердца; и в этом смысле они обладают известными достоинствами, а не указывают на какие-то наши промахи или недостатки. Вынося суждения об этих чувствах, мы отсекаем себя от своей собственной жизненности, тогда как благодаря переживанию их во всей полноте для нас становится доступной их энергия, а это расширяет наше ощущение жизни вообще.
Для описания такого преображения эмоциональной энергии употреблялись самые различные метафоры. Бенуа характеризует его как "процесс превращения угля в алмазы; его цель - не разрушение "я", а преобразование. Сознательное приятие дает свои результаты в угле, который становится более плотным, более черным и непрозрачным, а затем мгновенно превращается в совершенно прозрачный алмаз".
Образ прозрачности и лучезарности, где эмоция становится окном в самую суть жизни, где она уподобляется алмазу, образовавшемуся из угля, особенно явственно выступает в тантрическом буддизме ваджраяны. Слово "ваджра" означает подобную алмазу неразрушимую ясность пробужденного ума. В самом качестве ваджры видят особое свойство жизни, полнейшим выражением которого бывает "мудрость, подобная зеркалу". Поскольку она выражена в понятии абсолютной ясности, ваджраяна, или буквально "алмазный путь", видит мир в его светоносности, как бы освещенным сияньем. Борьба за то, чтобы укрепить образ самого себя, создает преграду неведенья, которая затемняет это естественное сиянье. Превращение эмоций - это один из способов превращения темного, мрачного мира заблуждающегося ума в сиянье чистого виденья.
Такая метафора может создать видимость легкости трансмутации, как внезапной перемены; но на самом деле это часть постепенного пути нарастающей дружественности по отношению к самому себе. Другие метафоры подчеркивают постепенную, органическую природу процесса:
Неискусный крестьянин выбрасывает навоз и покупает удобрения у других крестьян, которые, обладая опытом, собирают его несмотря на дурной запах и грязную работу; когда он готов, они разбрасывают его по земле и собирают на ней урожай... внутри него содержатся все эти отвратительные вещи; хотя работать с ними трудно и, так сказать, негигиенично, это единственный способ начать... Таким образом, там из нечистоты произрастает семя, представляющее собой понимание.
Роси Судзуки в сходных выражениях говорит о том, как можно воспользоваться сорняками ума для обогащения своего пробужденного сознания:
Мы выдергиваем сорные травы и закапываем их около растения, чтобы дать ему питание... Поэтому вы не должны беспокоиться по поводу своего ума. Вам, пожалуй, следует быть благодарными за то, что в вашем уме существуют сорняки, ибо они в конечном счете обогатят вашу практику. Если вы хоть немного почувствуете, как сорные травы вашего ума преображаются в питание для него, ваша практика достигнет замечательного прогресса.
Самое существенное при этом подходе - целиком и полностью отождествиться с глубинной жизненностью, обширным открытым пространством внутри и вокруг эмоций. При постижении этого необъятного пространства эмоциональный водоворот начинает казаться маленькой драмой среди гораздо более широкого осознания. Когда мы способны раствориться в этом более широком осознании, в этой свободной энергии, эмоция превращается в возможность исследования наших глубин, и нам не приходится с разных сторон подвергаться толчкам волн, возникающих на поверхности нашего существа.
Преодоление страха перед собственной энергией может помочь нам выработать бесстрашие по отношению к жизни в целом; такое бесстрашие называется в буддизме "львиным рыком":
Львиный рык - это бесстрашное утверждение, что любое состояние ума, включая эмоции, является ситуацией, пригодной для работы... Тогда могущественнейшие энергии становятся абсолютно пригодными для работы; они не захватывают вас, если вы не оказываете никакого сопротивления... В индийском искусстве эпохи Ашоки львиный рык изображен четырьмя львами, которые глядят в четырех направлениях, символизируя идею неуязвимости. Любое направление перед нами - это символ всепроникающего осознания. Бесстрашие покрывает все направления.
Подведем итоги. Преобразовательный подход к эмоциям заключает в себе:
· сохранение спокойствия среди эмоционального круговращения;
· преодоление суждений об эмоциях, чтобы прочувствовать их с большей полнотой;
· отождествление с их энергией во всей ее мощи и болезненности.
Придерживаясь этих принципов, мы открываем интенсивную нежность своей жизненности.
В традиции ваджраяны подлинная трансмутация не считается возможной без надлежащего понимания и водительства. Поскольку интенсивность нашей эмоциональной энергии способна подавить нас или раздуть, считается существенно важным иметь прочную основу в практике медитации; это помогает нам преодолеть свою порабощенность мышлением и фантазией и выработать в себе силу, чтобы впредь не оказаться увлеченными ими. Важно к тому же работать с живым учителем, обладающим глубоким личным пониманием жизненных энергий, который мог бы уберечь изучающего от многих искажений и опасных поворотов, встречающихся в развитии этого более глубокого осознания. Тогда при помощи дисциплины и практики смятение эмоций может преобразиться в мудрость, видящую вещи такими, каковы они есть.
Глава 9
Адриан ван Кам
ГНЕВ И МЯГКОСТЬ
Адриан ван Кам - практикующий психотерапевт-экзистенциалист, профессор психологии и рукоположенный католический священник; основатель Института формативной духовности при университете Дюкесна, издатель "Исследований в области формативной духовности" (ранее "Гуманитас"). Написал более двадцати пяти книг, среди них: "Искусство экзистенциального совета", "Религия и личность", "Экзистенциальные основы психологии" и "Мистерия преображенной любви".
Цель нашей статьи - уяснить, каким образом мы могли бы лучше жить и почувствовать человеческую мягкость, достигающую наивысшего уровня у нас самих и у других людей в мягком присутствии.
Слово "мягкость" указывает на особое отношение. Такие выражения, как "мягкий жест", "мягкий подход", говорят о поведении человека, выражающем некоторое внутреннее чувство или отношение. Можно также говорить о "джентльмене" как о "мягком человеке". Подумайте об этом английском слове: оно как будто указывает на то, что мягкость может стать характерным признаком человека в целом, а не простым свойством некоторых его проявлений. Мягкость бывает постоянным отношением, влияющим на личность и преобразующим ее. Мягкость отчетливо направлена на что-то или на кого-то; она подразумевает особое отношение человека к себе, к другим людям, к вещам. Что же вызывает мягкость? Обычно мягкость вспыхивает по отношению к чему-то такому, что драгоценно, но уязвимо. Все, что кажется хрупким и уязвимым, но в то же время драгоценным, каким-то особым образом вызывает мягкость: больной человек, ребенок, беременная женщина, жертва несчастного случая, все небольшое и в какой-то мере драгоценное - младенец, новорожденный щенок, старая женщина, изможденная возрастом и болезнями. В то же время нечто большое и мощное также способно вызвать мягкость. Человек может чувствовать мягкость к руководителю большой компании, который шумит, но никому не причиняет вреда. Здесь мягкость вызвана не впечатляющей функцией и властью руководителя, а уязвимостью внутренней привлекательности, скрытой под фасадом силы. Величие вызывает мягкость до тех пор, пока оно указывает на уязвимость скрытых драгоценных качеств, которые, как нам известно, являются более глубокой характерной чертой данного человека. Ибо за силой каждого из нас скрывается личность, которая нуждается в любви, понимании, сочувствии.
Все чистое, незапятнанное, непорочное также может вызвать чувство мягкости, потому что его тонкость кажется столь хрупкой и открытой для загрязнения: яркий и удивительный идеалист, невинная любознательность ребенка, неожиданная спонтанность девушки-подростка вызывают у нас мягкий подход к ним. Наконец, все прекрасное может сделать нас мягкими, потому что мы чувствуем, как легко его испортить: таковы совершенство картины, сиянье человеческого лица, привлекательность свежего цветка. В этих и многих других случаях красота трогает нас и вызывает мягкость.
Могу ли я быть мягким с самим собою? Из всего того, что мы открыли о мягкости, явствует, что я могу быть мягким с самим собою, если ощущаю себя одновременно драгоценным и уязвимым. На повседневном опыте я убедился, что не всегда бываю верен себе. Много раз я чувствовал разочарование в самом себе, чувствовал, что мешаю расцвету своего лучшего "я". Фактически я часто оказывался причиной собственного величайшего разочарования. В большинстве своем люди не склонны относиться с мягкостью к этому разочаровывающему их "я", потому что не могут смотреть с любовью на ту драгоценную личность, которой они призваны быть. Они или относятся к ней равнодушно, или отказываются видеть свои недостатки и ограничения. Когда они начинают понимать, какой хрупкой и уязвимой оказывается их драгоценная сущность, они реагируют на это обидой, отчаяньем, гневом. Подобное самоотчуждение не способствует возникновению мягкости по отношению к самому себе. В такие моменты мне хочется подстегнуть себя, чтобы войти в форму; я чувствую, что должен безжалостно дисциплинировать себя, забывая, что при этом могу повредить свою более тонкую чувствительность и привести к молчанию лучшее "я".
Что же это за другое "я", которое относится ко мне столь безжалостно? Это голос моей гордости и озабоченности, стремление выглядеть лучше в собственных глазах и в глазах других людей. Я не принимаю ту ограниченную, но драгоценную личность, которой могу быть. Я спрашиваю себя лишь о том, что могут подумать обо мне другие, как я мог бы выйти в верхи общества, даже за счет того уникального потенциала совершенства, которым действительно обладаю.
Мягкость как стиль жизни
Часть прошлого лета я провел за писанием статьи. Мое решительное намерение закончить дело, развязаться с ним вызвало у меня чувство напряженности и натянутости. Прежде чем идти дальше, я начал говорить себе: "На этот раз постарайся выполнять работу с легким умом!" Так я и постарался сделать. Я принялся размышлять над темой без напряжения, вдумчиво читать относящийся к ней материал. И только тогда я почувствовал себя готовым написать несколько параграфов или страниц. Когда работа начинала вызывать утомление, я бродил по близлежащему парку, смотрел на цветы, следил за возней игравших в пруду уток. Я старался не доводить себя до потрясения, до напряжения или чрезмерных усилий; не пытался я также немедленно добиться в работе каких-то результатов. Я был уверен, что тема сама заговорит со мной в нужное для нее время, если я буду держаться спокойно и открыто, если внимательно отнесусь к намекам, внезапным ассоциациям, проблескам прозрения. Усердное чтение и размышление рано или поздно должны были бы показать мне главные аспекты рассматриваемого мной вопроса.
Итак, я положился на естественный ход событий, сохраняя при этом внутреннюю свободу; я иногда закрывал книги, переставал печатать на машинке, отбрасывал черновики, чтобы насладиться солнечными лучами в саду или приятным ветерком на дорожках парка. И этот новый способ подействовал. Постепенно я сумел почувствовать, что у меня возникают новые идеи, появляются нужные слова. Мягкая настойчивость моего внимания к теме и ее выражению оказалась достаточной для того, чтобы статья была написана.
Сперва я подходил к задаче с настоятельным стремлением поскорее закончить работу. Теперь же я доверился успокаивающему действию мягкого стиля жизни. Я мог почти ощутимо заметить, что голова освободилась от давления, а от мускулов как бы отхлынуло напряжение. Я больше не чувствовал настойчивого желания заставить вещи действовать по-моему, не приказывал своей теме сейчас же проясниться. Я довольствовался тем, что оставался всего лишь самим собой в каждый данный момент, довольствовался способностью пройти такую часть пути, которая не превышала моих человеческих сил. Я не принуждал себя к большей продуктивности, не заставлял себя стать умнее или быстрее работать, а делал то, что было возможно при разумном образе действий и без напряжения. Ушла озабоченность по поводу того, чтобы ускорить процесс работы, а в самую работу проник дух доброжелательности.
В других случаях я испытывал совершенно противоположные чувства. В такие времена я отчаянно старался выиграть время; я чувствовал, что мне нужно выполнить работу как можно быстрее, причем сама тема не играла в этом никакой роли; я не давал ей возможности как следует показать себя. Я пробегал глазами статьи и книги, не позволяя им по-настоящему подействовать на меня. Тема говорила; но я не мог расслышать ее, потому что не подходил к ней мягко, как надлежит подходить вдумчивому человеку. Многие страницы были полны значения - но не для меня. Вместо того чтобы открыть это значение, я собирал поверхностную информацию с предельной скоростью; у меня не оставалось времени, чтобы окунуться в нее, чтобы сделать ее частью меня самого, воссоздать ее по-своему.
Для процесса мышления и для точного выражения мысли существенно важно время. Доброжелательность позволяет времени течь своей чередой. А я беспокоился о том, чтобы выиграть время; я печатал свою информацию, как репортер в общественном зале, в спешке не думая ни о том, какие люди будут ее читать, ни о том, какие люди окружают меня и каковы их нужды.
В противоположность такому подходу доброжелательность открывает меня тому, что могут мне сообщить люди, события и вещи, а также тому, чего они обоснованно ждут от меня. Я разрешаю этим людям и вещам меняться и воздействовать на меня в соответствии с этой переменой. Мягкость представляет собой отношение невмешательства в сочетании с терпеливым пребыванием с самим собой или с лицом, задачей или проблемой, в которые я вовлечен.
Я могу оказаться серьезно занят какой-нибудь неотложной задачей, вроде писанья статьи, организации какого-то дела, борьбы за его осуществление, - и все же оставаться при этом внутренне мягким. Для этого существует одно условие: сохранить настроенность на свое реальное "я" и на подлинные жизненные ситуации, не становиться узником собственных проектов или исхода своей задачи. Нереально добиваться чего-то такого, чего я не в состоянии достичь, не выбиваясь из сил. Подобные усилия приводят меня к износу; я переживаю горькое разочарование, когда оказываюсь не в состоянии достичь каких-то целей, слишком для меня высоких; и если даже я их достигну, результатом все же может оказаться разочарование - я настолько опустошу себя яростной борьбой, что уже не буду способен порадоваться успеху. Он, возможно, покажется жалким в сравнении со всем, через что я прошел, чтобы сделать его достижение действительностью. Слишком долго пользовался я своей жизнью всего лишь как орудием для осуществления каких-то целей, имеющих цену в глазах других людей.
В противоположность этому мягкое отношение оставляет место для чего-то большего, нежели простая полезность. Когда я, вместо того чтобы быть мягким, оказываюсь планомерным, я программирую свою жизнь; вещам, каковы они есть, не позволено появляться передо мной. Планомерный человек втискивает любое переживание в плотную маленькую коробку, перевязанную неразрывными нитями. Его ум становится складом таких крошечных воздухонепроницаемых отделений; он не позволяет никакой новой ситуации прикоснуться к содержимому своего склада; он устроил дело так, чтобы утратить свою способность быть с вещами как бы в первый раз. Он движется по жизни, как запрограммированный компьютер, лишенный какого бы то ни было чувства удивления.
Мягкий человек более свободен. Он может принимать себя и мир такими, каковы они есть, потому что чувствует себя вправе оставаться самим собой и с той же доброжелательностью предоставляет вещам возможность свободного существования. Между ним и его жизненной ситуацией заключено дружеское соглашение. Он не чувствует необходимости подталкивать себя вперед или удерживать позади. Если он не ощущает легкости в том, что делает, он может отложить дело до другого раза, когда появится возможность целиком отдаться ему с большей готовностью. Если ситуация требует, чтобы он продолжал неотложную работу несмотря на свое нежелание, он мягко выполняет то, что не терпит отсрочки. Он не разрешает себе терять равновесие из-за несовершенного результата вследствие неподходящего момента. Он легко берется за дело; будучи мягким, он никогда не проявляет силу по отношению к вещам или ситуациям; однако он никогда не потерпит, чтобы кто-то другой поступал подобным образом с ним или с другими людьми, если у него имеется возможность отразить эти притязания. Все люди, события и вещи, какими бы незначительными они ни были, вызывают у него уважение. Девизом мягкого человека вполне могли бы стать слова: "Я никогда не должен прилагать к вещам силу".
Когда я живу в стиле мягкости, я могу открыть еще нечто. Оказывается, доброжелательность успокаивает и утихомиривает алчность и агрессивность "я". Тогда приведенное к молчанию "я" позволяет мне центрировать себя. Иметь сильное "я" полезно, однако центрировать свою жизнь только по этому "я" вредно: тогда жадность и самонадеянность могут поглотить всю мою жизнь. Я буду настолько занят, поддерживая свое "я", сохраняя его возвышенным, разумным или успешным, что у меня не останется времени для мягкого воспитания своих более глубоких ценностей.
Любая истинная доброжелательность смягчает "я" - и не за счет ослабления его силы, а за счет уменьшения его надменности, ложной исключительности, претензий на высшую власть. А любое уменьшение самонадеянности "я" делает меня более доступным для жизни.
Мягкость и агрессивность
Мягкость остается главным условием здоровой жизни. Могу ли я тогда допустить в своей жизни проявление чувства агрессивности? А как быть с нападениями, с наступательными действиями, с чувством гнева?
Агрессивные чувства могут быть здоровыми и человечными, могут поддерживать в нас состояние живости и динамичности в таких ситуациях, где требуется резкий и быстрый подход. Я могу ошибочно считать все агрессивные чувства недостойными человека, могу начать подавлять свое осознание гнева и агрессивности, возникающих у меня. Верно, что почти все люди, которые хотят жить мягкой жизнью, испытывают затруднения во взаимоотношениях со своими агрессивными чувствами. И я тоже не склонен мириться с этими чувствами; я отбрасываю их, вместо того чтобы переработать. Не решаясь видеть в них человеческие чувства, каковыми они и являются, я могу осуждать их, видеть в них нечто недостойное меня, несовместимое со мной. И за такое отрицательное отношение я плачу чрезвычайно высокой ценой.
Я могу не только отрицать агрессивность, что само по себе ошибочно; я могу даже отрицать свою способность быть агрессивным, потому что агрессивность устраняется из моего осознания так же быстро, как появляется в нем. Энергичное подавление не может покончить с агрессивностью; я умею скрывать ее, но никогда не бываю в состоянии разрушить этот потенциал своей природы и его неизбежное выявление. Я способен замаскировать свою агрессивность мягкостью, но она все-таки выходит на поверхность, как заглушенное насилие. Другие люди чувствуют, что моя мягкость - это притворство, имеющее целью получить от них какую-то выгоду.
Такая маскировка агрессивности, возможно, и не является с моей стороны сознательным обманом. Мои намерения могут оставаться честными, мое желание быть мягким - подлинным. Притворством является отсутствие гнева, сокрытие его, тогда как в действительности он существует. И я один оказываюсь жертвой такого бессознательного обмана. Может быть, я попал в эту ловушку потому, что слишком быстро и яростно подталкивал себя к роли мягкой личности. Я уклонялся от работы по улавливанию своих гневных чувств; мне не хотелось честно выносить их на свет, не хотелось терпеливо их переносить.
Мягкость не отрицает гнева и агрессивности. Наоборот, она помогает мне перенести даже неразумную агрессивность, которую я до сих пор не был в состоянии преодолеть. Мягкость извлекает из этого несчастья смирение, а оно, в свою очередь, углубляет мягкий жизненный стиль. Мягкость с самим собой помогает мне в подходящее время и в подходящем месте привести к правильному пути свое разумное негодование, выражая его без ненужных оскорблений по адресу других людей. Она направляет агрессивные чувства к поверхности и никогда не оттесняет их в глубину.
Трудно сохранить мягкий стиль жизни, когда внутри меня скрывается не нашедший выхода гнев. Загнанный под поверхность сознания, он отравляет мне жизнь. Агрессивное чувство, будучи подавлено, не в состоянии расходовать свою силу разумно и умеренно. Все, что оно делает, устремляется внутрь и расцветает там, как скрытая взрывчатая сила. Такой стиль жизни противоположен мягкому; он извращает истинную доброжелательность. Когда в конце концов скрытая агрессивность взрывается, этот взрыв оказывается неконтролируемым и разрушительным.
С самого начала необходимо позволить гневу выйти на открытое пространство, израсходовать его разумно и умеренно, например, в немедленной беседе с каким-нибудь хорошим другом. Такая открытость освобождает нас от начинающегося гнева и дает возможность снова придерживаться мягкого стиля жизни. После того как гнев был выявлен и рассеян приемлемым образом, мягкость может стать более глубокой. Мягкий стиль должен составлять обычный климат нашей жизни. Мгновенья гнева, выраженные правильным образом и с подходящим человеком, должны быть лишь интервалами в моем основном стиле мягкой жизни, преходящими инцидентами, не затрагивающими покоя глубинной области, где преобладает мягкость. Агрессивность не должна стать постоянным стилем жизни; она оказывается только случайным событием, необходимым в некоторых социальных ситуациях для защиты своих прав, для защиты истины, для защиты той уникальной роли, которую я призван сыграть; она необходима также для психологического облегчения, для сохранения чистоты мягкого стиля жизни, для того, чтобы этот стиль не был загрязнен скрытыми агрессивными чувствами.
Расплата за подавление гнева включает в себя в конечном счете слабость психологического и телесного здоровья, помехи общению с другими людьми, снижение работоспособности. Я должен принять свои чувства гнева и агрессивности и переработать их. Прозрение в эти чувства может освободить меня для более мягкой жизни и сделать доступными мои скрытые энергии, таланты и способности. Принятие более здорового взгляда на гнев и на подавление гнева как будто в общем способствует улучшению здоровья ума и тела.
Теперь уже необходимо рассмотреть конкретно, как нам следует раскрывать, выводить наружу, сублимировать и разумно выражать агрессивность, не нанося вреда другим людям. До сих пор мы только рассуждали об общей совместимости мягкого стиля жизни с периодическими моментами гнева и негодования.
Мягкость и сублимация
Все люди испытывают гнев - и святые, и грешники. Поэтому чувство раздраженности, гнева, агрессивности является таким же человеческим, как и чувства печали, наслаждения, любви, утомления, одиночества. Мягкие люди сердятся, как и все прочие. Разница здесь в том, что в их жизни гнев и агрессивность не являются доминирующими. Они могут случайно рассердиться; обычно это происходит в подходящее время и подходящим образом. Кажется также, что они лучше знают, как справиться со своей агрессивностью.
Рост истинного "я" не сводит на нет мою способность чувствовать гнев или агрессивность; не уменьшает он и моей потребности как-то реагировать на это чувство. Рост помогает мне принимать свою агрессивность как человеческое чувство, которое, несомненно, существует. Кроме того, раскрывающийся дух человека сообщает каждой личности более широкий взгляд на жизнь. Именно в такой перспективе я могу видеть в новом свете людей, события или вещи, которые возбудили во мне гнев или агрессивность. Исходя из этого более широкого взгляда, мой гнев или уменьшается и утихает, или находит правильное выражение в гневной ситуации. Само же более широкое виденье рождено не в гневе, а в мягкости.
Недостаточно просто обладать этим расширенным виденьем жизни; я должен также знать свой гнев и его источник, так, чтобы можно было озарить и смягчить его этим философским или религиозным виденьем. Первое условие для сублимации гнева - знать вполне то, что я чувствую. Затем мне необходимо выяснить, почему я это чувствую. И только тогда в свете своего мягкого виденья "я" и человечества я смогу сделать что-нибудь по поводу того, что я чувствую. Мое гневное "возмущение чем-то" может быть смягчено более глубоким чувством "чего-то". Все же трудно спокойно понять и принять тот факт, что я чувствую гнев и агрессивность. Ложная идея о том, на что должна быть похожа жизнь, вероятно, затмила мое зрение и заставила меня чувствовать стыд, вину или озабоченность вследствие моей агрессивности - и это в такой мере, что я не смею признаться самому себе в том, каким сердитым иногда бываю. Даже когда я откровенно признаюсь себе в гневе, который возникает у меня в некоторых случаях, все еще может оказаться трудным точно определить его первоначальный источник. Для этого необходимо прозрение, размышление и терпенье.
Доброжелательность и эмоциональная реакция. Все мы рождены со способностью ощущать гнев или мягкость. Обычно такие мгновенные реакции не являются свободно избранными: мы подхватываем их от других людей задолго до того, как сможем заговорить или в лучшем случае понять, что было сказано гневно или мягко окружающими нас людьми. Еще ничего не поняв, мы могли ощутить гневные или мягкие настроения, чувства и поступки отца, матери, братьев и сестер. Им не приходилось ничего нам объяснять: мы учились от них прямо на месте, как действовать гневно или мягко.
В детстве мы прислушивались к тому, как они реагировали на наши собственные чувства, в особенности на чувства агрессивности или мягкости, когда мы осмеливались давать им выход. Может быть, мы оказывались настолько счастливыми, что рождались в такой семье, где нам позволяли открыто выражать свои чувства, не подавляя их. Родные относились спокойно и к нашей нежности, и к нашей агрессивности. Затем они также давали нам полную возможность знать, что чувствуют они сами. Дома они создавали такой климат, в котором нам было легко узнать, что чувствуют они и что чувствуем мы. Они реалистически воспринимали тот факт, что у людей могут спонтанно возникать всевозможные чувства, не подлежащие немедленному контролю со стороны воли. В такой семье каждый мог выразить то, что он чувствует, не подвергаясь за это осуждению или угрозам.
Результатом такого климата свободного самовыражения будет всеобщая мягкость, лишь спорадически пронизанная выражениями гнева и агрессивности. Потому что эти чувства выражаются при их первом возникновении, и у них не оказывается времени для внутренней перестройки во внезапную вспышку или взрыв. Слова недовольства становятся все более и более похожими на передачу информации о том, что начинает строиться внутри. Другой человек может принять эту информацию во внимание; тогда легче сохранить или восстановить стиль мягкости. В такой атмосфере мы рано учимся жизни, где вполне можно чувствовать мягкость и любовь и так же возможно иногда почувствовать гнев и агрессивность.
Однако, подобно большинству людей, я могу и не оказаться таким счастливым. Возможно, моя семья, моя школа, моя церковь, мои соседи боялись допустить возникновение чувства гнева у себя или терпеть гневные чувства, возникающие у других людей по отношению к ним. В результате жизнь моих чувств могла оказаться изуродованной. Я могу вырасти с таким опасением неприемлемости моих чувств для любого другого человека, что не посмею разрешить им проявляться даже в присутствии людей, действительно меня поддерживающих. Я могу испытывать затруднения, когда чувствую и выражаю мягкость или гнев перед моими настоящими друзьями.
Из такого положения есть один выход: я должен перестать чувствовать одно, а действовать по-другому, когда ситуация не вызывает настоящей необходимости в этом с точки зрения сочувствия или мудрой дипломатичности. Чувствуя гнев, я не должен сладко улыбаться или хранить мрачную замороженность. Вместо этого мне необходимо научиться быть достаточно смиренным и смелым, чтобы дать возможность своим чувствам выйти наружу - прямо, честно и просто, но в то же время разумно, без разрушительных тенденций, если ситуация оставляет мне эту свободу выражения. К своему удивлению, я увижу, что, когда научусь выражать свои чувства при их первом возникновении тем, кому могу доверяться, мне станет легче выражать их в скромной и непринужденной манере; а это может восстановить атмосферу мягкости. Как раз тогда, когда я отрицаю гнев или притворяюсь спокойным, он может невероятно возрасти внутри; мое более глубокое "я" неспособно далее просветлять и смягчать его. Мои верные друзья, не получая ни малейших указаний на то, что я схожу с ума, могут неразумно подлить масла в огонь. Мое отрицание и их непонимание способны в конечном счете привести к агрессивным взрывам и необдуманным проявлениям ярости, непропорциональным случайной причине, которая внезапно, подобно искре, коснется моего накопившегося безумия. Такие проявления в состоянии отравить атмосферу на длительное время.
Когда я чувствую гнев или агрессивность по отношению к хорошему другу, благожелательному члену семьи или надежному знакомому, мне следует каким-то образом дать ему знать об этом, так, чтобы он почувствовал мое настроение или чувство и смог разумно принять его во внимание. Такая открытость поможет ему также почувствовать доверие, когда я в большинстве случаев нашего общения бываю с ним мягким; равным образом, когда я чувствую гнев, мне не следует делаться холодным и мрачным и лишать своего внимания и привязанности друга или товарища, на которого я сержусь.
Короче говоря, если я действительно сердит, мне нужно дать выход этому чувству по возможности прямо и разумно, с пользой для всех, кого затрагивает ситуация. Если же ситуация делает такое поведение невозможным, я могу, по крайней мере, поговорить о данном случае с каким-нибудь другом или понимающим меня знакомым. Если же таких лиц не окажется - и даже если они окажутся поблизости, -я все же могу поговорить об этом с самим собой, изложить свои чувства на бумаге, сердито обойти целый квартал, хорошенько поколотить боксерскую грушу или совершить агрессивный заплыв. Короче, я никогда не должен позволять гневу и агрессивности храниться в закупоренном виде и таким образом парализовать мой потенциал заслуживающей доверия мягкости к себе и к другим.
Когда гнев и агрессивность проявились в открытую, я способен справиться с ними, способен понять того, кто меня рассердил, понять то, что меня рассердило, в свете моего более широкого виденья жизни и человечества. В этом свете мой гнев может растаять, в особенности когда он окажется просто эгоцентрической эмоцией, полной духа соперничества, или таким гневом, который основан на "я", легко подверженном угрозе и не нашедшем, благодаря своему росту, истинной внутренней силы.
Облегчение гнева и рост в мягкости
Мягкая жизнь лживого человека не допускает чувства гнева; она не принимает его и пытается жить с ним, когда оно спокойно зреет день за днем. Ложная мягкая жизнь начинается с идеализированной картины самого себя: "Отныне я должен быть совершенной личностью, приятной, которую все одобряют". А подсознательно я могу прибавить к этому идеальному образу следующие мысли: "Если я никогда не буду сердиться, другие никогда не рассердятся на меня".
Я начинаю строить свою личность по образу "хорошего парня", которого все любят и уважают. Поскольку я живу этим образом, любое зрелище гнева, даже самого слабого раздражения, как будто загрязняет его. Уважение со стороны других - это путь к безопасности; в любом раздражении, которое я могу вызвать у соседей, ощущается угроза мне самому.
За подобное актерство мне приходится платить огромную цену: я никогда не имею возможности быть самим собой. Постоянные попытки одурачить себя и других стоят колоссальной энергии. Я не расту в подлинно мягкой жизни, а плыву по течению поверхностного зрелища приятного человека. Я не имею успеха у тех людей, которым, возможно, мог бы понравиться в своем первоначальном ограниченном виде; а сейчас я им не нравлюсь, потому что они не в состоянии выяснить, кто же я такой на самом деле.
Следовательно, существует лишь небольшая разница в том, буду ли я сохранять свои эмоции в закупоренном виде или дам им выход, разбивая посуду, ломая мебель или отшвыривая ногой какое-нибудь бедное создание на моем пути. Такой взрыв может освободить меня от затаившегося внутри гнева; но он не способствует моему росту в мягкости. Напротив, я начинаю вырабатывать насильственный стиль жизни, делая упор на мгновенном облегчении гнева в данный момент; я пропускаю тот факт, что повторное действие, исходящее из агрессивности, совершаемое в течение множества таких "данных моментов", будет оказывать длительное воздействие на мою жизнь. Вознаграждаемый приятным чувством облегчения, испытываемым всякий раз после того, как люди перенесли мой гнев, я могу почувствовать желание в следующем случае, порожденном давлением гнева, стать даже более агрессивным. Всякий раз, когда я действую исходя из не ограничиваемой агрессивности, мое внутреннее противодействие яростным вспышкам понижается.
Неумеренный выброс гнева может также означать, что мне необходимо переработать его и выразить, прежде чем я испытаю облегчение. Остатки этого переработанного гнева и его выражения остаются в моей памяти, в моем воображении. Такие остатки делают меня более чувствительным к мельчайшим стимуляторам гнева. После многих переживаний я становлюсь более доступным для гневных вспышек, я способен быстрее взорваться. До того, как я пойму это, я стану сердитым, вспыльчивым человеком, зачастую предающимся обидным фантазиям и восприятиям, которые держат меня на грани взрыва. Я всегда выискиваю оскорбительные слова, оскорбительные для меня поступки. Мой гнев вспыхивает по самому ничтожному поводу. Такая настроенность делает невозможным мягкое, непринужденное отношение к себе и к другим.
Зрелый человек никогда не держит гнев закупоренным, но и не выражает его в необузданных агрессивных словах и действиях. Вначале я, может быть, не сумею вовремя рассеять накопившийся гнев. Поэтому гнев может накапливаться, результатом чего оказывается хроническое мышечное напряжение. В таких случаях иногда можно рекомендовать освободиться от гнева, дать ему выход, толкнув ногой какой-нибудь старый стул, обежав вокруг квартала или разрешив себе взорваться в присутствии хорошего друга. Однако мне следует понимать, что это только чрезвычайный случай, исключительное выражение эмоций, которому нельзя предаваться; иначе его повторения могут отвратить меня от мягкого стиля жизни.
Как мы сказали ранее, нам не следует сохранять закупоренными чувства гнева, играя роль "приятного человека", который никогда не сердится. Так разве мы не противоречим себе, предостерегая против агрессивных действий, исходящих из подобных чувств? Нисколько, если мы вспомним различия между словесной агрессивностью и разговором о своих чувствах.
Если я нападаю на кого-то словесно, если я нападаю на него действиями, я создаю для себя, для него и для окружающих сильные стимуляторы большой агрессивности; я создаю атмосферу гнева и агрессивности. Когда же я просто описываю свои чувства, например, говорю: "Сейчас я по-настоящему сержусь!" - это другое дело. Сказать другому о том, что я сержусь, - информативное действие. Оно способно прояснить атмосферу между нами. Мое честное сообщение может помочь ему своевременно осознать, что он по неосторожности, ненамеренно обидел меня, оскорбил мои чувства; менее вероятно, что он обидит меня еще раз. Я могу даже почувствовать себя лучше, когда моя информация побудит его объясниться со мной, уверить меня, что он не имел действительного намерения меня обидеть.
Мягкость, гнев и более широкое виденье
Лучший способ иметь дело с чувством гнева - это поднять его в свет трансперсонального виденья. Такое движение предполагает уменье уловить относительный характер предметов своего гнева и агрессивности, т.е. рассмотреть их в более широкой перспективе.
Только трансперсональный горизонт окажется достаточно мощным, чтобы успокоить бурное море гневных чувств, когда я действительно сделал этот горизонт своим собственным в течение продолжительного периода времени. Я должен создать живой мир значений, который смог бы со временем уменьшить преобладающую силу гнева и агрессивности. Трансперсональный горизонт проявляется во мне как исход повторных мгновений сосредоточенности на трансперсональных истинах и ценностях, - и он становится живым осознанием.
В то же самое время мне необходимо медленно выработать другую привычку, которая также должна стать для меня второй натурой. Это привычка связывать возникающие у меня эмоции при взаимодействиях с людьми с проявляющимся во мне трансперсональным горизонтом, с горизонтом, который раскрывает меня для человечества, для истории, для космоса. В такой встрече эмоции рано или поздно теряют свою силу и способность поглощать меня; все менее и менее вероятно, чтобы я побагровел от ярости. Таким образом зрелый человек до некоторой ступени преодолевает саморазрушающую силу неудержимого гнева. Больше ему не приходится уклоняться от подлинного интереса к другим людям; не приходится ему и отрицать свои чувства. В свете трансперсонального виденья он отводит эмоциям подобающее им место.
Глава 10
Роджер Уолш
ВЕЩИ НЕ ТО, ЧЕМ ОНИ КАЖУТСЯ
Роджер Уолш - специалист по нейропсихологии, имеет степень доктора медицины и доктора философии. В настоящее время работает на факультете отделения психиатрии Калифорнийского медицинского колледжа на территории Калифорнийского университета в Ирвине. Среди его книг: "К экологии мозга", "За пределами эго".
В течение последних семи лет я жил в состоянии хронического шока и безверия; одно за другим разрушались мои самые дорогие, устойчивые, разумные, общепринятые, обыденные, принятые без доказательств и составляющие часть общей культуры убеждения. Вновь и вновь я собирался составить из осколков системы разрушенных принципов новую, более разумную систему, которая должна будет охватить неожиданные переживания и новую информацию, нанесшие такой ущерб предыдущей системе. Но вскоре эта новая, расширенная система опять оказывалась слишком ограниченной, для того чтобы охватить следующую серию переживаний. Мне пришлось признаться в том, что я просто ничего не знаю.
Я не знаю, прав я или нет, не знаю, насколько правильны нынешние самые дорогие для меня системы убеждений, предположений, взглядов на мир. Я не знаю, как работает мой ум, на какую глубину он простирается; не знаю, как его контролировать, как спастись от всеобъемлющих реальностей, которые он, по-видимому, создает. Я не знаю, что такое сознание, каковы его границы, не знаю даже, применимо ли понятие границ к сознанию или к нам самим. Я не знаю, насколько я лишен осознания или насколько способен осознавать, каковы границы познания, каковы могут быть наши способности и потенциальные возможности, не знаю, сумею ли я в точности определить мудрость и благополучие, если встречу какого-нибудь человека, значительно более мудрого, чем я.
Я действительно чувствую, что ошибался, недооценивал ум, сознание, всех нас, степень нашей погруженности в сон, когда мы бродим как слепые, захваченные индивидуальными и общекультурными иллюзиями. Я также недооценивал огромные размеры человеческого страдания, особенно размеры ненужного, преднамеренного страдания. Мне ясно, что я целиком и полностью ошибался относительно природы великих религий, относительно таких практических систем, как медитация и йога, что я недооценивал потенциальную чувствительность восприятия и интроспекции, а также недооценивал размеры той мудрости, которая заключена внутри нас всех.
Как же все это произошло? Дело началось с совершенно случайного вступления в ряды психотерапевтов. Часть моей аспирантской практики по психиатрии включала курс психотерапии; но, ознакомившись с научно-исследовательской литературой, я нашел в ней очень немного недвусмысленно полезного материала - и потому чрезвычайно мало поверил в психотерапию. И вот я попал в парадоксальную ситуацию: мне нужно было заниматься чем-то таким, в действенности чего я по-настоящему не был уверен. Я очутился на психотерапевтической кушетке, ожидая, что проведу несколько интересных недель, но встречу не слишком много неожиданностей и не извлеку из курса какой-либо пользы. Но едва ли можно было сильнее заблуждаться. У меня не только целой серией начались совершенно неожиданные и ранее неизвестные переживания; оказалось, что они обладают необычайной глубиной и насыщенностью, так что с того времени течение моей жизни полностью изменилось.
Мой психотерапевт Джим Бюдженталь учил клиентов развитию обостренной чувствительности к своим внутренним переживаниям и субъективному миру, а также их правильной оценке. В этом деле он обладал замечательным уменьем, и через несколько недель я начал обнаруживать у себя способность к субъективной чувствительности; как я понял, она по глубине превосходила все мои возможности. Постепенно, как я писал ранее в другом месте, у меня возникло "медленно светлеющее осознание присутствия раньше подпорогового, непрестанно изменяющегося потока внутренних переживаний. Диапазон и богатство этой внутренней вселенной изумили и продолжают изумлять меня. Через пару месяцев я начал с большей ясностью воспринимать постоянный поток зрительных образов, который с необычайной тонкостью символизировал то, что я чувствую и переживаю в каждое мгновенье. По мере возрастания чувствительности я обнаруживал, что эти образы сопровождались тонкими физическими ощущениями в теле, а сами ощущения представляли собой соматические выражения эмоций. При помощи этого "Розеттского камня" я приобрел большую чувствительность к эмоциям, появляющимся от мгновенья к мгновенью. Первоначально я был уверен в том, что внутренний мир непременно должен скрывать в себе скопления зловредных чудовищ, столкновения с которыми я избегал всю свою жизнь; теперь же я стал считать этот внутренний мир весьма привлекательным и приятным источником положительной информации".
Располагая таким повышенным осознанием в качестве инструмента исследования, я затем оказался способен более глубоко, чем когда-либо раньше, изучать свои переживания, ум, убеждения и взаимоотношения. То, что я находил, часто было совершенно неожиданным, противоречило моим собственным предпосылкам и предпосылкам традиционной культуры. Перечислю хотя бы немногие из этих открытий. Я почувствовал - по крайней мере в пределах своей различающей способности, - что преднамеренно создаю собственные переживания. Раньше я думал о себе как о беспомощной жертве неблагоприятных эмоций, симптомов и приемов защиты; а теперь я мог наблюдать тот процесс, при помощи которого все это активно подбиралось и создавалось. Таким образом, мне пришлось признать наличие уровня ответственности, гораздо более высокого, нежели тот, который я ранее предполагал возможным.
Система моих убеждений уже до этого подвергалась серьезным ударам. И чем дальше я шел в проверке этих убеждений, тем более приходил в ужас от их способности действовать в качестве самоосуществляющихся предсказаний. Даже такие, по-видимому, физиологически предопределенные явления, как потребность сна, оказались на поверку функциями моего психологического состояния. В то время как раньше я был уверен, что мне абсолютно необходимы восемь часов сна, для того чтобы на следующий день я оказался близок к нормальному функциональному уровню, теперь я начал понимать те способы, при помощи которых я сам создавал усталость, чтобы избежать переживаний и буквально привести себя в бессознательное состояние сна. И с того самого дня, когда я впервые увидел, как создаю усталость, чтобы уйти от сознательных переживаний, я обнаружил, что ночью мне требуется меньше сна, чем раньше.
Короче говоря, я начал понимать, что мои прежние представления о себе, о природе ума, о сознании, о верованиях, о размерах наших потенциальных возможностей, а также отдельные части системы культуральных убеждений были в значительной мере ошибочными, что я серьезно недооценивал наши способности и способность ума создавать наш взгляд на мир, наше чувство "я". Этим я не хочу сказать, что весь процесс был свободен от тревоги и заблуждений, от неуверенности. Но теперь мне стало ясно, что я и многие другие сильно заблуждались в вопросе о том, кто мы такие и чем можем стать; и я твердо решил посвятить себя исследованию и попыткам понять эти потенциальные возможности, о которых ранее не подозревал.
Некоторым людям я вполне мог показаться похожим на стереотипного искателя, поглощенного своими нарциссическими исканиями; этот тип так справедливо и сурово заклеймили среди других писателей Питер Мэрайн и Кристофер Лэш. Все же этот процесс каким-то образом не казался нарциссическим, по крайней мере был таковым не в большей степени, чем более традиционные достижения в сфере образования, на которые я потратил так много лет. Правда, в мотивации содержался значительный элемент собственной пользы, но наличествовало также и принуждающее чувство важности исследования, и эта его важность не ограничивалась только мной одним.
Вскоре выявился один общий принцип: защитные средства, уловки и недостаток опыта ограничивали мою способность оценивать информацию или людей, обладающих мудростью, более глубокой, чем та, которой обладал я сам. Кроме того, оказалось, что я не только не способен пассивно выслушивать эту мудрость, но также временами активно защищаюсь от нее.
Опишу один такой случай. Как-то я отправился на публичную лекцию Рам Дасса в городском лектории Сан-Франциско. Нас собралось приблизительно три тысячи человек. В течение вечера Рам Дасс начал излагать в общем виде модель многих уровней сознания и описывать все слагающие его состояния в восходящем порядке - от ординарного уровня к более трансцендентному. Моя реакция и реакция аудитории дали возможность неожиданно пережить прозрение в природу нашего обычного состояния сознания, а также его взаимоотношений с кажущимися более развитыми состояниями. Когда он сделал обзор первых двух состояний, они показались весьма разумными и вполне понятными; третье состояние оказалось менее обычным, а описание четвертого немедленно вызвало особое переживание: я совершенно ясно услышал его слова, был поражен их смыслом - и мгновенье спустя не был в состоянии вспомнить ни единого сказанного им слова. Следующее воспоминание об этой лекции отмечает, что мое внимание привлек храп сидевшего возле меня человека. Оглядев зал, я увидел, что приблизительно четверть аудитории внезапно погрузилась в сон.
Прошло не менее двух недель, прежде чем я начал понимать смысл своего переживания. Это произошло во время дискуссии с одним психоаналитиком, моим другом. Мне стало ясно, что я подвергся массивному подавлению или отрицанию, результатом которого оказалась буквальная и чрезвычайно быстрая потеря сознания; вероятно, то же самое произошло и с другими слушателями, значительное число которых заснуло в то же время, что и я. Для того чтобы подавлять нечто, мы должны, по крайней мере частично, узнать нечто и счесть его опасным. Однако, если в данном случае описания более высоких состояний сознания были узнаны и подавлены, это могло означать лишь то, что они уже были известны, что это знание оказалось отрицанием осознания при помощи активной защиты.
Это переживание и некоторые родственные ему привели меня к тотальной переоценке взаимоотношений между ординарным и более "высокими" состояниями. До того я полагал, что более высокая мудрость достигается при помощи приобретения нового знания и понимания. Однако теперь мне пришлось считаться с другой возможностью - с тем, что мы уже обладаем необходимым знанием, что наше обычное сознание являет собой активно, в целях защиты, суженное состояние ума, что более высокие состояния достижимы не при помощи приобретения чего-то нового, а благодаря освобождению от нынешних систем защиты, а результате которого проявляются уже существующие способности.
Нет нужды говорить о том, что многие из этих переживаний противоречили моей прошлой профессиональной подготовке. И вот я принялся изучать литературу по экзистенциальной и гуманистической психологии, поскольку мои традиционные психоаналитические и психиатрические пособия почти не содержали информации относительно появившихся у меня переживаний или же предполагали, что эти переживания являются патологическими. Однако вскоре даже в гуманистической и экзистенциальной литературе я стал обнаруживать пробелы, когда начинались перечисления состояний сознания, заключенных внутри диапазона известных переживаний; короче говоря, я начал сознавать, что или я становлюсь в возросшей степени встревоженным - а это, конечно, было не так, судя по тому, что написано в различных трудах о дисциплине сознания, - или некоторые из наших традиционных психиатрических моделей и положений склонны неправильно истолковывать и патологизировать определенные непатологические состояния и переживания, возникающие при повышении чувствительности восприятия. Действительно, я начал подозревать, что значительное число традиционных ценностей нашей культуры, а также положений относительно природы психики в ужасающей степени неверны, иллюзорны и создают ненужные страдания. Эти подозрения в дальнейшем углубились, когда я приступил к практике медитации.
Медитация
Когда я впервые подвергся воздействию различных практических методов медитации, я нашел, что они не особенно привлекательны и не очень полезны. Сидеть неподвижно и стараться контролировать ум оказалось неудобным как физически, так и психологически. Спорадические периоды сидения по десять-двадцать минут в день не приносили ощутимой пользы; и это продолжалось до тех пор, пока почти через два года я не начал ежедневно практиковать сидение от получаса до часа в день. Тогда я смог обнаружить кое-какую реальную пользу, но даже она казалась совсем небольшой. Если бы не поддержка со стороны друзей, которые в своей практике ушли дальше меня, я, конечно, не стал бы ее продолжать.
Что в конце концов соблазнило меня, так это утверждение Стивена Ливайна, учителя медитации и автора книги "Постепенное пробуждение": он считает медитацию випассана, или прозрения, совершенным инструментом для наблюдения за работой ума. Моя любознательность была немедленно возбуждена; и вот, полный наивной невинности, я сейчас же записался в приют для десятидневного курса упражнений. Я и не подозревал, куда разрешаю себе войти! В этих приютах ежедневные занятия представляют собой около восемнадцати часов продолжительного сидения и медитации при ходьбе; все это выполняется в полном безмолвии и в полном одиночестве; нельзя ни читать, ни писать. Практика заключается в попытках поддерживать непрерывное осознание всех переживаний, как внутренних, так и внешних, которые вторгаются в сознание. Разрешено фокусировать внимание на том стимуле, который в данное время является преобладающим. Интенсивность возникших в результате практики переживаний оказалась совершенно изумительной.
"Когда мы сидим с закрытыми глазами, чтобы привести ум к безмолвию, - пишет Сатпрем, - нас сперва захлестывает поток мыслей; они внезапно появляются повсюду, подобно испуганным и агрессивным крысам". Чем более повышалась чувствительность моей медитации, тем больше мне приходилось признавать, что тот феномен, который я раньше считал своим рассудочным умом, занятым познанием, планированием и решением задач, в действительности состоит из яростного потока энергичных, требовательных, громких, часто бессвязных мыслей и фантазий, заполняющих сознание в невероятных пропорциях даже во время целенаправленного поведения. Та часть сознания, которую занимал этот мир фантазии, мое бессилие устранить его более, чем на несколько секунд, мое прежнее состояние невнимательности все это глубоко поразило меня. Эта "невнимательность" оказалась гораздо более интенсивной и трудной для воздействия, нежели в психотерапии, где глубина и чувствительность внутреннего осознания представляются меньшими, где психотерапевт, создавший фокус восприятия, оставался здесь же, около меня, чтобы вытащить меня из моих фантазий, если я начинал в них теряться.
Когда мы пребываем в этом мире ума, понять всю тонкость, сложность и захватывающую силу фантазий, создаваемых умом, кажется невозможным; они неотличимы от реальности. Еще труднее описать все это тому, кто сам не пережил подобных явлений. В любом пункте, на который направлялось мое внимание, передо мной слой за слоем открывались воображаемые образы и квазилогика. Действительно, постепенно мне стало очевидным то обстоятельство, что возможность моего выхода из этой всеобъемлющей фантазии исследованию при помощи рассудка не подлежит, поскольку сам процесс исследования, мышления и поисков только создает дальнейшие фантазии.
Сила и навязчивость этих внутренних диалогов и фантазий поразили меня; я не мог понять, как это мы остаемся в таком неведенье о них во время нормального состояния бодрствования; здесь мне вспомнилось восточное понятие о майе, всепожирающей иллюзии.
Привязанности и потребности
Скоро мне стало ясно, что главным видом материала, насильственно вторгавшегося в осознание и нарушавшего сосредоточенность, чаще всего оказывались фантазии и мысли, к которым я был привязан и вокруг которых накапливались значительные аффективные заряды. Парадоксальным образом оказалось, что потребность освободиться от некоторого переживания или состояния, желание уничтожить его, может, наоборот, укрепить его устойчивость. Самым ярким примером тому явилась озабоченность. В какой-то момент я внезапно начал чувствовать приступы некоторой озабоченности неизвестного происхождения. В эти минуты я применял все свои разнообразные способы психологической гимнастики, чтобы искоренить эту озабоченность, потому что при ее появлении мне становилось явно не по себе. Однако подобные эпизоды повторялись около пяти месяцев несмотря на мое противодействие - а на деле оказалось, что именно благодаря ему. В течение всего этого времени моя практика сделалась более глубокой, и я приобрел способность все лучше и лучше рассматривать процесс, протекающий во время медитации. Я нашел, что испытываю значительную боязнь страха, а поэтому мой ум наподобие радара обозревает все внутренние и внешние стимулы, чтобы открыть в них потенциал, вызывающий страх. Таким образом, существовал постоянный процесс умственного радарного сканирования, чрезвычайно чувствительным образом выявлявший наличие всего, что напоминало страх. Вследствие этого возникало значительное число ложных позитивов, т.е. не вызывающих страх стимулов и реакций, которые интерпретировались как вызывающие страх или потенциально его провоцирующие. Поскольку реакции на сами эти ложные позитивы включали в себя страх и его компоненты, конечно, возникала немедленная цепная реакция, где одна реакция страха действовала в качестве стимула для другой. Так мне стало совершенно ясно, что моя боязнь страха и противодействие ему явились как раз тем средством, которое укрепляло страх.
Однако причины подобных явлений стали мне ясны не ранее середины следующего периода уединенной медитации. После первых нескольких дней боли и возбуждения я начал чувствовать себя все более умиротворенно; наступило время, когда в течение одного сидения я смог почувствовать, что моя медитация явственно углубляется, а тревожное умственное сканирование все более замедляется. Затем, по мере того как процесс углублялся и замедлялся, меня буквально потрясла вспышка возбуждения и озабоченности, сопровождавшаяся мыслью: "А что же мне теперь делать, если передо мной не окажется озабоченности, за которой нужно следить?" Было очевидно, что если я буду продолжать успокаиваться, не останется ни озабоченности, которую нужно сканировать, ни самого процесса сканирования; и моя потребность избавиться от озабоченности заставляла меня сохранять постоянный сканирующий механизм; а наличие этого механизма, в свою очередь, создавало присутствие озабоченности. Мой страх, выраженный мыслью: "Что же мне теперь делать?", очень эффективно устранял возможность растворения обоих компонентов. И вот парадоксальным образом оказалось, что во внутренней жизни ума, желая избавиться от некоторых переживаний, вы не только должны охотно переживать множество ложных позитивов, но, пожалуй, даже нуждаетесь в их постоянном присутствии вокруг вас, чтобы иметь возможность непрерывно избавляться от них. Итак, внутри сферы ума вы получаете то, чему противодействуете.
Восприятие
С продолжением практики скорость, сила, громкость и продолжительность мыслей и фантазий начали медленно уменьшаться, оставляя после себя тонкие ощущения большего мира и спокойствия. После периода в четыре или пять месяцев произошли эпизоды, во время которых я в конце медитации открывал глаза и глядел на окружающий мир без сопутствующего внутреннего диалога. Это состояние быстро заканчивалось возникновением чувства озабоченности, ощущением необычайности обстановки и мыслью: "Не знаю, что это все значит". Таким образом, я мог смотреть на какой-то вполне знакомый мне предмет, как дерево, здание или небо, и все же при отсутствии сопровождающего это восприятие внутреннего диалога, без наименования и отнесения данного предмета к некоторой категории, сам предмет казался совершенно неизвестным и лишенным смысла. Кажется, то, что делало какой-то предмет знакомым, а потому и безопасным, было не просто его узнавание, но фактический познавательный процесс сравнения, отнесения к категории, наименования. Когда все это оказывалось сделано, на самом названии и его ассоциациях сосредоточивалось больше внимания, чем на первоначальном стимуле. Таким образом, начало фантазии и периоды свободы от мыслей могли чувствоваться странными и отчетливо неприятными, так что мы сперва оказывались потрясены незнакомым видом предмета. Мы создали для себя невидимую тюрьму; ее решетки состоят из мыслей и фантазий и фантастических образов; большей частью мы остаемся в неведенье относительно их существования, если не возьмемся за напряженную работу по совершенствованию своих восприятий. Более того, если их удалить, мы можем испытать страх вследствие необычного характера переживания и быстро восстановить их. Как замечает в одной из своих книг Карлос Кастанеда: "Мы поддерживаем мир своим внутренним диалогом".
Интересно отметить, что сила реакции на сам стимул, как на нечто противоположное наименованию, как будто является функцией степени внимательности или медитативного осознания. Если я внимателен, тогда я склонен к сосредоточенности на самих первичных ощущениях, я даю меньше наименований и меньше на них реагирую. К примеру, у меня был период длительностью около шести недель, когда я чувствовал небольшую подавленность. Я не терял способности работать, но ощущал неудобство и депрессию; настроение было неважным, и в течение большей части рабочего дня я чувствовал неуверенность по поводу того, что со мной происходит. Однако во время ежедневной медитации это переживание и его аффективное качество явственно менялось.
Тогда возникало чувство некоторой перегруженности стимулами со множеством неясных и неопределенных соматических ощущений, а также с большим числом быстро появляющихся и исчезающих неясных зрительных образов. Но, к моему удивлению, я нигде не мог найти действительно болезненных стимулов; скорее, просто наличествовал большой их объем, неясность, неопределенность значения и смысла. Поэтому я вставал после каждого сидения, констатируя тот факт, что на самом деле не испытываю никакой боли и чувствую себя значительно лучше. Это переживание было аналогично одному замечанию Тартанга Тулку о том, что "когда вы глубоко входите в свое беспокойство - и если вы действительно в него входите, - его эмоциональной окраски больше не существует".
Все же в течение весьма короткого промежутка времени я еще раз впал в свое привычное состояние невнимательности; а когда опять стал внимательным, обнаружил, что автоматически давал комплексу стимулов наименование подавленности - и реагировал на это наименование соответствующими мыслями и чувствами, вроде таких: "Я подавлен; я ужасно себя чувствую; что я сделал? чем все это заслужил?" Нескольких мгновений ненапряженной внимательности оказывалось достаточно, чтобы подключить фокус внимания назад, к первичным ощущениям, - и еще раз констатировать, что в действительности я не чувствую никакого неудобства. Такой процесс бесконечно повторялся в течение каждого дня. Он демонстрировал одно из различий между медитацией и большинством систем психотерапии. В то время как последние стараются изменить содержание переживания - в данном случае вывести пациента из состояния депрессии и привести к положительным аффектам, - медитация заинтересована также в видоизменениях перцептивно-познавательных процессов, при помощи которых ум создает свои переживания.
Перцептивная чувствительность
Одним из самых фундаментальных изменений было возрастание чувствительности восприятия. Чувствительность и ясность восприятия, казалось, улучшались сразу же после сидения в медитации или пребывания в уединении. В такие времена, например, я как будто мог яснее различать видимые формы и общие очертания предметов. Я также чувствовал, будто во мне значительно возрастает эмпатия, что я более чутко осознаю тонкости поведения и интонации голоса других людей, равно как и свои собственные аффективные реакции на них. При этом переживании возникает ощущение, как если бы с моих глаз была удалена слабая, но заметная завеса; а сама эта завеса состоит из сотен тонких мыслей и чувств. Каждая из этих мыслей, каждое из чувств, казалось, действует подобно соперничающему стимулу, или "шуму", снижая таким образом восприимчивость к любому отдельному объекту. Таким образом, после медитации всякий специфический стимул оказывается более сильным и ясным; видимо, это происходит потому, что соотношение между сигналом и "шумом" возрастает. Подобные наблюдения обеспечивают феноменологическую основу и возможный перцептуальный механизм для объяснения данных, согласно которым медитирующий в общем имеет наклонность к повышению чувствительности восприятия и эмпатии.
Доверие и покорность
Эти переживания привели меня к большему пониманию медитативного процесса, к желанию отдаться ему; на Западе понятие покорности имеет оттенок подчинения превосходящей силе; но здесь оно употребляется в соответствии с его значением в традициях медитации. Таким образом, в процессе возрастания опыта медитации я начал отдаваться самой медитации, всему ее течению - доверять ему, следовать ему, давая возможность ему развертываться самопроизвольно, не пытаясь как-то изменять его, форсировать или манипулировать им.
Далее, теперь оказалось ясным, что если мы позволяем переживаниям оставаться такими, каковы они есть, спокойно их переносим и не пробуем насильственно изменять, такой образ действий снижает разрушительное возбуждение, противодействие, взрывы защитных механизмов и манипулирования. Кроме того, вопреки моим прежним убеждениям, приятие какого-то переживания или ситуации, непредубежденное отношение к ним, необязательно устраняет мотивацию или способность иметь дело с обстановкой наиболее действенным образом. Мои прежние убеждения утверждали, что мне нужны суждения, неприязнь и отрицательные реакции, чтобы они служили для меня мотивами к изменению ситуации и связанных с нею стимулов.
И, помимо всего прочего, я признал тот факт, что великие учителя медитации действительно знали то, о чем говорили. Вновь и вновь я перечитывал описания, объяснения и предупреждения, относящиеся к медитации, к нормальным состояниям психики и к тем состояниям, которые возникают с углублением медитации; когда-то я смеялся над ними и спорил с ними, чувствуя, что они так далеки от моих переживаний и убеждений, а потому и не могут быть правы. Однако теперь я сам обладал разнообразными переживаниями, которые прежде считал невозможными; ныне я приобрел экспериментальную основу для того, чтобы понять больше из того, чему меня учили. Итак, теперь мне пришлось признать, что эти учителя знали гораздо больше того, что знаю я, что мне, несомненно, стоит обратить серьезное внимание на их суждения. Таким образом, экспериментальное знание может стать существенным предварительным условием для интеллектуального понимания этих сфер знания.
Опасения на пути
Считая себя сравнительно бесстрашным парнем, сорвиголовой (разве я не нырял с высоты? не прыгал с трамплина? не занимался подводным плаваньем? Не прыгал с парашютом? не качался на цирковой трапеции?), я, продолжая более глубокие исследования своей психики, с изумлением обнаружил, до каких размеров доходят мои страхи. Беспокойства и страхи, о существовании которых я совершенно не подозревал, всплывали один за другим, слой за слоем; и эти открытия привели меня прямо в ловушку собственного изготовления. Отсюда я сделал вывод, что, должно быть, представляю собой чрезвычайно боязливую личность; такой вывод на много месяцев растопил мой образ самого себя и своего поведения.
Значительное число этих страхов явилось следствием выхода на поверхность простых тревог относительно своих социальных умений, интимных отношений, производимого впечатления и способностей. Однако еще одно их семейство относилось к моей обеспокоенности по поводу того, кем я стану, что со мной произойдет, если я буду продолжать исследование своего ума и раскрою его; эти страхи центрировались вокруг убежденности, что этот процесс в какой-то мере лишит меня сил и способностей.
Каждый страх проявлялся в виде нового выбора возвращаться ли назад, к безопасному положению, или продолжать идти вперед и подвергаться риску пугающих последствий. Иногда мне хотелось остаться со своими страхами и отступить; часто я защищался особым образом, отрицая даже сам тот факт, что я защищаюсь, и признавая его лишь впоследствии, ретроспективно. Абрахам Маслоу указывает, что ежедневно перед нами встают в качестве стратегии самопроявления десятки решений; и он советует выработать привычку постоянно делать выбор в пользу перспективы роста. Подозреваю, что Маслоу, во всяком случае, недооценил число возможностей выбора; на самом деле здесь перед нами налицо непрерывный процесс, в котором побуждения к самопроявлению соперничают со страхами осознания, вызывая таким образом динамические приливы и отливы в мотивации роста.
Вместе с более глубоким исследованием стала очевидной и следующая истина: все эти страхи, какими бы различными они ни были по своим видимым причинам, оказались основанными на ограничивающих "я" убеждениях. Например, во время своих первых сеансов психотерапии я почувствовал опасение, что при эффективной психотерапии я никогда не смогу чего-нибудь добиться, потому что утрачу большую часть своей мотивации. Я боялся, что без конфликтов и неврозов стану инертным и пассивным и лишусь необходимых побуждений для продуктивной деятельности и достижений.
Однако в тех случаях, когда я делал выбор в пользу роста и продолжал работу вопреки страху, становилось очевидным, что фактически я ничего не утратил. То, что оказывалось необходимым, - это желание освободиться от привязанности, желание пережить вызывающие страх последствия. Но после освобождения дело почти неизменно оборачивалось так, что все, "принесенное в жертву", сводилось к какой-то привязанности и не было каким-либо уменьем, какой-либо способностью.
Существовал также глубокий ранний страх перед перспективой того, что, обратив внимание внутрь, я обнаружу там фрейдовский кошмар. Я охотно предполагал, что открою внутри себя разнообразных чудовищ и призраков, состоящих из неуправляемых эмоций и побуждений, как гнев, зависть, чувственность, жадность, которых удерживает в подчинении только постоянное руководство и подавление со стороны "сверх-я". Я неизменно чувствовал уверенность, что переживание осознания этого внутреннего мира будет в высшей степени неприятным и потребует большой решимости перед лицом отвратительных явлений.
Однако то, что я нашел, оказалось совершенной противоположностью моим ожиданиям. Правда, существовал страх, сильный страх, а также и другие отрицательные эмоции; но они бледнели перед глубинными сферами тепла, радости, заботливости и сострадания, лежавшими под ними. Я начал подозревать, что "бессознательное", которое представляется нам обязательно каким-то зародышевым качеством, на самом деле составляет лишь начальный слой гораздо более положительной сферы бессознательного. Любопытный парадокс заключался в том, что моя вера в существование внутренних призраков эффективно мешала мне смотреть внутрь себя и открывать то, что там действительно находится. Таким образом, эта вера укрепляла самое себя.
Был и страх перед одиночеством: я боялся, что если продолжу исследование, то дойду до положения эксцентричного изгоя, чьи убеждения и переживания столь отличаются от убеждений и переживаний других людей, что делают его обособленным и исключают возможность дружбы и интимности. Меня интересовало, сколько найдется людей, которые смогли бы понять то, что я пережил, с которыми я смог бы поделиться своими вновь появившимися ценностями. Несомненно, чем глубже я уходил в своем исследовании, тем меньше мог рассчитывать найти таких людей, которые способны разделить подобные переживания. Возникала угроза, что ценой глубокого исследования может оказаться жизнь в изоляции от тех, кто не прошел по тому же пути.
Однако и здесь дело еще раз обернулось удивительным и восхитительным парадоксом. Правда, чем дальше я продолжал практику, тем меньше собратьев по путешествию оказывалось со мной вместе; но появились новые связи и новые друзья. Дальнейшая выгода состояла в том, что в этих связях всегда появлялись люди, ушедшие дальше меня; и такие люди оказывались бесценным ресурсом, способным указать путь к дальнейшим ступеням, а также предостеречь против некоторых ловушек на пути. Возможность находиться в обществе подобных людей и учиться у них оказалась одним из подлинных даров всего процесса. С другой стороны, те люди, которые не совершили того же путешествия, включая некоторых моих товарищей по психиатрии, выражали опасения по поводу направленности моей практики. Во время одной групповой встречи с товарищами по психиатрической лечебнице кто-то предположил, что если я буду продолжать практику медитации, мне, по всей вероятности, не удастся функционировать достаточно хорошо, чтобы поддерживать свой профессиональный уровень, а потому, скорее всего, придется оставить психиатрию. Они предположили, что я, вероятно, "кончу тем, что стану продавать свечи на побережье Южной Калифорнии". Сейчас, оглядываясь назад, я с огромным интересом вижу, с какой точностью мои сотоварищи отразили мои собственные страхи, как они проецировали на меня свои опасения. Поскольку мы являли собой довольно однородную группу лиц с некоторой природной одержимостью, едва ли стоит удивляться тому, что мое критическое отношение к разделявшимся нами верованиям и защитным средствам вызывает такие сильные реакции. Сейчас все это кажется очень смешным; но в то время мне было страшно, и если бы не поддержка моего психотерапевта и лиц, занятых сходными исследованиями, если бы не "проверки реальности", я вполне мог бы оставить свои исследования и вернуться к старому стилю деятельности. После этого я действительно переехал в Южную Калифорнию, но пока не начал продавать свечи.
По мере того как эти и прочие страхи появлялись, исчезали и снова появлялись, я начал открывать новую перспективу в вопросе о том, как и почему они возникают. Первоначально я считал их переживаниями, навязанными мне против моей воли. Однако чем больше я их рассматривал, тем больше начинал понимать, что активно создаю их сам, исходя из воспринимаемой мной потребности предохранить себя. Мне со всей очевидностью начало представляться, что я каждое мгновенье создаю для себя переживания и самоощущение в точности таким образом, каким считаю необходимым. Страх и защита от него не обрушивались на меня, как на какую-то беззащитную жертву; они скорее были чем-то созданным мною самим, созданным активно и намеренно.
Духовный толчок
Я начал постепенно понимать, что великие духовные традиции - не опиум для масс, не пища для их ума; напротив, они представились мне, по крайней мере в своем эзотерическом ядре, картами с обозначением дорог к высшим состояниям сознания. Пожалуйста, заметьте: я не говорю, что в этом понимании заключено все их значение; я говорю только, что они являют собой такие карты, во всяком случае в эзотерическом ядре. Это понимание дало ответ на вопрос о моем собственном поведении, которое смущало меня в течение нескольких месяцев. К своему большому удивлению, я обнаружил, что трачу все больше времени на труды различных духовных учителей, прежде всего буддистов и индуистов. Разумеется, я и раньше узнавал некоторые полезные вещи о медитации; но никогда в жизни я не мог себе представить, что каким-то образом приду к духовному миропониманию, тогда как моими интересами являются прежде всего психология и психиатрия. Это было совершенно новым и неожиданным подходом, поскольку прежде я отрицал религию во всех ее видах как всего лишь собрание ошибочных фантазий. Пожалуй, такой поворот событий не оказался для меня полной неожиданностью, потому что мое собственное знакомство с религией было связано с ее западными традиционными организованными формами, а они действительно бедны трансцендентными элементами.
Так или иначе, но я более глубоко принял необычайную мудрость, которая содержится в некоторых системах восточной психологии. В значительной мере против своей воли и не без сопротивления я был вынужден признать, что эти традиции в лице своих основателей и продвинутых практиков знали о деятельности и глубинах ума гораздо больше, нежели я когда-либо мог вообразить.
Иллюзии нашей культуры
Как же могло случиться, что я знал так мало, так заблуждался? Как могли мои убеждения оказаться столь неполными и ошибочными? И как мог я оставаться подобным невеждой относительно своего опыта и своего "я"? В ретроспективном обозрении мое собственное невежество поражает меня, и я подозреваю, что, если это путешествие к собственному раскрытию, как я надеюсь, будет продолжаться, лет через пять я с изумлением оглянусь на его нынешний уровень.
Однако я подозреваю также, что мое собственное незнание, ограниченные убеждения и иллюзии представляют собой отражение, как бы особый микрокосм, в котором проявляются ограничения, связанные со всей нашей культурой. До того как я предпринял это исследование, мои верования, страхи и космологические представления в большой степени были приспособлены к тем нормам культуры, в которые я, как предполагалось, был включен. Если это так, тогда мы весьма действенно разделяем массовый гипноз своей культуры. Это утверждение звучит преувеличением; но едва ли можно считать его новым: оно повторяется всеми дисциплинами сознания по меньшей мере три тысячи лет. Мы верим, что наши внутренние глубины и наша природа по своей сути являются выражением врожденного животного начала; мы считаем их истерзанными чувством вины, ненадежными; мы считаем, что от них надо постоянно защищаться, что их нужно подавлять. Такие убеждения и страхи мешают нам обратиться внутрь, прийти к источнику собственного опыта и самим увидеть, правильны ли они. Таким образом, иллюзии остаются непроверенными и приобретают устойчивость благодаря тем самым страхам, которые они же создали.
Награды искания
Я обратил особое внимание читателей на многочисленные страхи и трудности, связанные с исканием понимания самого себя; но для равновесия следует отметить, что само это искание никоим образом не было сплошным страданием, сплошными затруднениями. Наград было больше, чем нужно; ибо, несмотря на то что мои собственные исследования явились частичными и неполными, они также оказались источником радости, восхищения, понимания и значимости. Постепенно, как бы в форме флуктуации, уменьшался страх, исчезали тревоги, конфликты и другие психологические страдания. Конечно, это состояние никак нельзя назвать полным, непрерывным или постоянным. Оно, как мне кажется, скорее следует циклическому, хотя и постепенному курсу эволюции. При первоначальных успехах я надеялся устроить дело так, чтобы мне можно было навсегда утвердиться в некотором блаженном состоянии, из которого я уже никогда не опущусь вниз; а когда в действительности я вышел из него, меня охватило недоумение: не было ли все это ошибкой, не обманулся ли я, достиг ли вообще какого-нибудь прогресса? Однако после сотен и тысяч подъемов и падений я понемногу учусь сохранять некоторую степень душевного равновесия и не отождествлять себя во всей полноте с настроением в данный момент.
Другим источником все более глубокого наслаждения стали взаимоотношения - и это произошло вопреки моим опасениям кончить жизнь участью одинокого изгоя. Результатом повышенной чувствительности восприятия и самонаблюдения оказалось повышение сочувствия к другим людям и понимания. Это, в свою очередь, как будто облегчает развитие сострадания. Я чувствую, что, по крайней мере отчасти, стал острее осознавать страдания других людей. Признав совместную природу нашего благонамеренного, но неискусного поведения, я нахожу, что умею лучше понимать те способы, при помощи которых люди создают для себя страдания; теперь я менее склонен осуждать их за это. Вспоминается французское изречение: "Все понять - значит все простить".
Существует также радость сангхи, сообщества людей, совершающих то же самое путешествие. Вместе с такими людьми я чувствую общую цель, которая, по крайней мере частично, преодолевает обычные преграды личности и культуры. Все мы пытаемся учиться и расти; и, поскольку этот процесс встречает препятствия со стороны эгоизма, мы все стараемся помогать другим всеми доступными нам средствами; не беда, что эти страдания оказываются неполными или тщетными. Иногда и здесь существуют зависть, соперничество и горечь и все же они также оказываются зерном для мельницы.
Зависть и соперничество могут возникнуть и в виде реакции на тех людей, которые ушли дальше, чем я, научились большему, чем я; но обычно возникает чувство глубокой благодарности - за то, что они расчистили дорогу, за то, что оказались рядом со мной и указали мне путь. Я способен подойти к пониманию слов Будды: "Пусть некто месяц за месяцем тысячекратно в течение ста лет совершает жертвоприношения, и пусть другой воздаст честь - хотя бы на одно мгновенье - совершенствующему себя. Поистине, такое почитание лучше столетних жертвоприношений".
Одним из самых удовлетворяющих результатов была повышенная способность содействовать облегчению страданий других людей. Стало вполне ясным одно: мы не в состоянии вести с успехом глубокие поиски понимания и роста только для самих себя. В противоположность некоторым распространенным ошибочным представлениям исследование подобного рода в своих конечных целях как бы уводит от нарциссической занятости собой и эгоизма, а не приводит к этим качествам. Правда, начиная путешествие, мы берем с собой свои эгоистические привычки и неврозы; разумеется, внес свою долю и я. Да, мы действительно можем пройти через эгоистическую занятость собой и раздутое "я"; вероятно, некоторые из нас остаются привязанными к этой стадии в течение долгого времени. Но существует опасность принять ступень на пути или ловушку за подлинные его цели и возможности, существует опасность предположения, что весь путь и есть ловушка. Кроме того, нет недостатка и в группах и учениях, отводящих в сторону от пути; однако будет ошибкой предполагать, что существование поверхностной практики и поверхностных практикующих отрицает существование глубокой практики и глубоких практикующих.
Всякому, кто продолжает путешествие более длительное время, быстро становится ясно, что эгоизм проблематичен, поскольку укрепляет такие разрушительные мотивы и состояния, как алчность, гнев, ненависть, чувство вины. В понятиях буддизма эгоизм считается неумелым образом действий, причиняющим страдания самому действующему и другим людям. Рано или поздно от практикующего, который пожелает идти дальше, потребуется работа по преобразованию всех форм эгоизма и потворства себе, по избавлению от них. В самом деле, работа по преобразованию своих неврозов и по освобождению от неразумных привычек - это и есть путь. В традиции индуизма служение считается самостоятельным путем, называемым карма-йогой; и любой желающий исследовать самые дальние области пути и самого себя также должен практиковать карма-йогу. Это обстоятельство является интересным примером разрушения дихотомии между "я" и "другими", между "мной " и "вами", потому что такой тип служения воздает как дающему, так и получающему.
По мере того как путешествие идет все дальше, мы в возрастающей степени чувствуем, как оно огромно, как важно, как торжественно. Действительно, оно как будто ведет нас к самым основным и фундаментальным вопросам человеческого существования. Когда-то я считал, что ответы на эти вопросы можно найти во внешнем мире; сейчас я понимаю, что их следует искать внутри самого себя. По мере углубления моих прозрений они как бы выказывают собственную магнетическую силу, притягивают меня к себе с возрастающей интенсивностью, создают мягкий императив быть тем, чем я могу быть, содействовать миру всем, на что я способен.
Такое подчеркнутое внимание к положительной стороне не говорит о том, что я не допускаю ошибок, что я уже научился. Напротив, необходимо признаться, что мне во многих случаях трудно даже вообразить, что я не ошибаюсь. Кажется, характерной чертой этой игры является тот факт, что "я" ищет способы употребить любое новое знание, переживание или понимание для самовозвеличивания. Таким образом, даже наиболее возвышенные цели и переживания могут быть применены неправильно; и это явление в дисциплинах сознания называется духовным материализмом.
Однако путешествие продолжается; я не имею представления о том, куда оно меня отсюда приведет; чем больше я для него открываюсь, тем менее предсказуемым оно становится, потому что выбор роста обычно совершается в сторону неизвестного. Но вот одну вещь я усвоил: какими бы замечательными ни казались мне наш ум, наше "я" и все их исследование, мои убеждения обычно оказываются фильтрами, ограничивающими еще более глубокое понимание.
Сознаем мы это или нет, но все мы движемся к выходу за пределы веры.
Часть Третья
РАБОТА С ЛЮДЬМИ
Вступление
Этот третий и последний, главный раздел книги исследует различные аспекты пробуждения сердца при помощи терапевтического процесса. В главах раздела, разрабатывающих отдельные темы, мы находим много взаимных соприкосновений: эффект немедленного подхода и погруженность в настоящее при встрече с другим человеком; необходимость пребывания в неуверенности и движение в ней в противовес поискам быстрых решений; развитие понимания и сострадания со стороны психотерапевта; признание того факта, что подлинная нежность и уязвимость идут рука об руку с открытым сердцем; наконец, жизненная важность признания внутреннего ядра разума и здоровья, лежащего под внешним слоем любой проявленной патологии.
Тибетский мастер медитации Чогьям Трунгпа открывает раздел характеристикой взаимоотношений помощи: это такие взаимоотношения, которые вызывают проявление взаимной человечности психотерапевта и клиента. Тот фактор, который помогает сделать психотерапию целительной встречей, Трунгпа называет "глубинным добром", внутренне присущим всем людям. Он понимает под этим термином не условное добро, зависящее от какого-то особого способа бытия; это не какая-то установка, не особая своеобразная вера. Каждая принятая нами установка, поза или вера, с которой мы отождествляем себя, создает некоторое внутреннее разделение, активизирующее внутри нас противоположную тенденцию, часто называемую в психотерапии "тенью". Глубинное же добро не является установкой, создающей "тень"; оно более напоминает сиянье самого солнца; оно безусловно, ибо существует превыше и наших стараний быть хорошими, и той тени, которую создают эти старания. Более того, оно все еще светится, даже оставаясь скрытым за облаками саморазрушающего или агрессивного поведения. В этой перспективе задача психотерапевта заключается в том, чтобы благодаря созданию атмосферы тепла и благополучия помочь клиенту открыть в себе это глубинное добро.
Исходя из экзистенциально-феноменологической традиции, Томас Хора подчеркивает, как важно подходить к терапевтической ситуации с вопрошающим умом. Более того, важно задавать правильные вопросы: не "Почему вы так себя чувствуете?", а скорее: "Что в действительности с вами происходит?" Не отход от ситуации, не попытка решить ее логически, а именно переживание того, что в действительности происходит, дает возможность произойти подлинной перемене. Когда нам по-настоящему ясно видно, что именно мы делаем, наше осознание связывается с реальностью, и мы становимся более едиными с самими собою. Как указывает Хора, исцеляет клиента не психотерапевт, а истина; психотерапевту следует освободить дорогу прорывающейся истине. Иначе его усилия помочь, или, как это называет Хора, "терапевтизировать", станут препятствием на пути целительного процесса.
Дэвид Брэндон расширяет тему пребывания вместе с клиентом в погруженности в данный момент настоящего времени. Как показывают его примеры, выслушивание другого человека нередко означает процесс, в котором психотерапевт уходит с пути, так, чтобы предвзятые мнения, основанные на прошлом опыте, не мешали тому, что пытается нам сообщить другой человек.
В следующей главе я исследую глубинную уязвимость как часть человеческого бытия и обладания открытым сердцем. Эта глава рассматривает вопрос о том, как нам можно научиться не только жить с такой уязвимостью, но также высоко ценить ее как свою связь с людьми и жизнью в целом. Если психотерапевт способен полностью принять собственную человеческую уязвимость, он может лучше служить своим клиентам, помочь им найти источник могущества и силы среди самых затруднительных кризисов.
Дайэн Шайнберг обращается к вопросу об открытости психотерапевта по отношению к клиенту. Примерами из своей работы по руководству студентами психотерапии она ясно иллюстрирует то различие, которое может создать особый подход, когда психотерапевты начинают предоставлять клиентам и самим себе свободу оставаться собой, не пытаясь приспосабливать целительный процесс к какой-то заранее определенной модели.
Ричард Хеклер приносит в психотерапию подход воинского искусства, айкидо, описывая эффект встречи с клиентом там, где тот находится, и вхождение прямо в ядро невротического конфликта. Он также исследует вопрос о том, как медитация оказывается способна научить людей отходить от безопасных, знакомых приспособлений и проходить через кризис и промежуточные состояния с открытыми глазами, так, чтобы при этом могли проявиться новые измерения.
В соответствии с западным упором на патологию, а не на здоровье, традиционные системы психологии и психиатрии сосредоточены на истории психопатологии клиента и не обращают внимания на тот факт, что каждый человек в своей жизни имеет также историю здоровья. Эд Подволл объясняет, как раскрыть вехи здоровья в жизни человека, обращая внимание на шесть главных сфер: отвращение к самоубийственным стереотипам; желание преодолеть занятость самим собой; побуждение к дисциплине; стремление к сострадательному действию; переживание ясности и чувство храбрости. Если профессиональные целители обратят большее внимание на эти области, они сумеют полнее мобилизовать ресурсы клиента и приблизиться к его внутренней силе.
В заключительной главе Кэсон и Томпсон описывают свою работу в службе ухода на дому за престарелыми и инвалидами, основанной и осуществляемой сезонными участниками практики буддийской медитации. Тепло, юмор, сострадание и дружелюбие - качества, произрастающие из пробуждения сердца, оказываются особенно важными в работе с людьми, стоящими перед лицом старости и смерти. Эта статья служит иллюстрацией принципов всей книги в их прямом и чрезвычайно человечном применении.
Глава 11
Чогьям Трунгпа
СТАТЬ ВПОЛНЕ ЧЕЛОВЕКОМ
Чогьям Трунгпа - основатель и президент Института Hаропы в Боулдере, шт. Колорадо, автор книг: "Рожденный в Тибете", "Медитация в действии", "Преодоление духовного материализма", "Миф свободы" и "Путешествие без цели". Ученый и мастер медитации, он получил подготовку в области тибетского буддизма по линиям кагью и ньингма. Один из наиболее влиятельных учителей буддизма на Западе, основатель сети центров медитации в Соединенных Штатах, Канаде и Европе.
Главная работа профессиональных целителей вообще и психотерапевтов в частности заключается в том, чтобы стать в полной мере людьми и вдохновлять других людей, которые в своей жизни чувствуют духовный голод, к обретению полного человеческого бытия. Когда мы здесь говорим о "вполне человеке", мы имеем в виду человека, который не только ест, спит, ходит и говорит, но такого человека, который также переживает глубинное состояние пробужденности. Может показаться крайне необходимым дать определение здоровья в понятиях пробужденности; но на деле пробужденность очень близка к нам. Мы способны пережить ее; фактически мы касаемся ее все время.
Мы находимся в постоянном соприкосновении с глубинным здоровьем. Хотя обычное словарное определение здоровья означает, грубо говоря, "отсутствие болезни", нам следует смотреть на здоровье как на нечто большее. Согласно буддийской традиции, все люди в своей глубине обладают природой будды; иначе говоря, в своей глубинной основе они обладают добром. С этой точки зрения здоровье является глубинной сущностью, т.е. здоровье проявляется прежде всего; болезнь оказывается вторичной. Здоровье есть. Поэтому быть здоровым - значит обладать фундаментальной крепостью, когда ум и тело синхронизированы в состоянии бытия, представляющем собой нерушимость добра. Подход к этому состоянию рекомендуется не для одних лишь пациентов, но также и для врачей или их помощников. Его можно принять взаимно, так как внутреннее, глубинное добро всегда присутствует при любом взаимодействии одного человека с другим.
Существует несколько подходов к психологии, и некоторые из них кажутся проблематичными. С точки зрения буддизма проблемы возникают при любой попытке дать точное определение ума и его содержания, отнести ум к какой-то категории, поставить на отдельную полку. Такой метод следует назвать психологическим материализмом. Проблема данного подхода состоит в том, что он не оставляет достаточного пространства для спонтанности, для открытости, не обращает внимания на глубинное здоровье.
Тот подход к работе с людьми, в пользу которого мне хотелось бы выступить, - это такой подход, в котором спонтанность и человечность распространены и на других людей, так что мы можем открыться им и не делить на части наше понимание этих людей. А это прежде всего означает работу с нашей естественной способностью к теплу. Для начала мы вырабатываем теплоту по отношению к самим себе, а затем она распространяется и на других. Так создается почва для взаимоотношений с людьми, охваченными тревогами, друг с другом и с самими собой - и все это внутри одних и тех же рамок. Такой подход опирается не столько на теоретическую или концептуальную перспективу, сколько на то, как мы лично переживаем собственное существование. Можно ощутить свою жизнь с полнотой и глубиной, так, что мы поймем себя подлинными, действительно пробужденными человеческими существами.
Когда вы работаете таким образом с людьми, ваша работа окажется весьма плодотворной. Если клиент начнет чувствовать, что его не ставят на какое-то определенное место, что между ним и вами существует подлинная связь, тогда он начнет освобождаться от напряжения, начнет исследовать вас, а вы начнете исследовать его; между вами возникнет невысказанная, особая дружба.
Хотя я говорю здесь, как буддийский учитель, я не верю, что терапию следует делить на категории. Мы не должны говорить: "Теперь я лечу по-буддийски" или "Теперь я лечу в западном стиле". В действительности здесь нет большого различия. Если вы работаете в буддийском стиле, это будет просто проявлением здравого смысла; если же вы работаете в западном стиле, это также будет проявлением здравого смысла. Суть работы с людьми заключается в том, чтобы обладать подлинностью и проецировать на них эту подлинность. Выполняемая вами работа не должна иметь какого-то особого титула или наименования: она состоит в том, чтобы в конечном итоге просто быть достойным человеком. Возьмите, к примеру, самого Будду - он не был буддистом! Если вы обладаете доверием к себе, если вы вырабатываете какой-то способ преодоления "я", тогда на других людей может излучаться истинное сострадание. Итак, главный пункт в работе с людьми заключается в понимании и проявлении простоты, а не в стараниях создавать новые теории или категории поведения. Чем более вы цените простоту, тем более глубоким становится ваше понимание. Простота начинает приобретать гораздо больший смысл, нежели умствования.
Буддийская традиция учит нас истине непостоянства, преходящей природы вещей. Прошлое ушло, будущее пока не наступило; и потому мы работаем с тем, что находится здесь и сейчас, с ситуацией настоящего. Это на самом деле помогает нам избавиться от категорий, от теорий. Свежая, живая ситуация существует все время, на этом самом месте. Такой свободный от категорий подход проистекает из полного присутствия здесь, а не из попыток восстановить связь с прошлыми событиями. Нам не нужно оглядываться назад, в прошлое, чтобы увидеть, из чего сделаны люди. Люди говорят сами за себя на этом самом месте.
Но вот иногда люди оказываются одержимы своим прошлым, так что вам, может быть, придется поговорить с ними об этом, чтобы установить общение. Однако и это всегда следует делать с установкой на настоящее. Дело здесь не в том, чтобы лишь пересказывать старые истории для возобновления связи с прошлым; вопрос скорее в том, чтобы увидеть, что в ситуации настоящего момента имеется несколько уровней: глубинная основа, которая может находиться в прошлом; действительное проявление, имеющее место сейчас; налицо также направление, куда должно уйти настоящее. Таким образом, настоящий момент имеет три грани; и когда вы начинаете таким образом подходить к переживаниям человека, общение оказывается живым. В то же самое время нет необходимости пытаться прийти к какому-то выводу относительно будущего. Вывод уже проявляется в настоящем. У заболевания может быть некоторая история, но эта история уже умирает. Действительное общение происходит прямо на месте. В тот момент, когда вы садитесь и здороваетесь, вся история этого человека находится здесь.
Поймите, мы не пытаемся разгадывать людей, исходя из их прошлого. Вместо этого мы стараемся выяснить историю их заболевания в понятиях того, что они являют собой сейчас; вот что действительно важно. Я всегда поступаю так во время собеседований со своими учениками: я спрашиваю их, сколько им лет, уезжали они или нет из Америки, бывали в Европе или Азии, что делают сейчас, какие у них родители и тому подобное. Но все здесь основано на этой личности, а не на той. Я подхожу совершенно прямо. Люди, с которыми мы работаем, возможно, пребывают в прошлом, но мы, помогая им, должны знать, где они находятся сейчас, в каком состоянии ума пребывают в данный момент. Это очень важно. Иначе мы можем потерять след того, кем является этот человек сейчас, и думать о нем, как о ком-то другом, как о некоторой совершенно иной личности.
Пациенты должны улавливать ощущение вибрирующей внутри вас крепости. Если они будут ощущать ее, они будут привлечены к вам. Обычно безумие основано на агрессивности; безумец отвергает себя или свой мир. Такие люди чувствуют, что они отрезаны от общения с миром, что мир их отверг. Или они сами изолировали себя, или чувствуют, что мир изолировал их. Поэтому когда вы входите в комнату и садитесь около таких людей и при этом само ваше присутствие излучает некоторое сострадание, если при этом наличествуют мягкость и желание включить их в себя, это и будет предварительной стадией исцеления. Исцеление приходит из простого ощущения разумности, мягкости и полной человечности. Оно проходит долгий путь.
Итак, первый шаг состоит в том, чтобы выразить себя как подлинных людей. Затем, сверх того, мы можем помогать другим, создавая вокруг них надлежащую атмосферу. Здесь я выражаюсь буквально, в высшей степени буквально. Независимо от того, где находится человек, дома или в каком-то учреждении, атмосфера вокруг него должна быть отражением человеческого достоинства; она должна быть физически опрятной. Кровать должна быть убрана; следует готовить хорошую пищу. Таким образом человек в таком окружении может сохранять бодрость и чувствовать себя непринужденно.
Некоторые люди могут считать эти мелкие детали физического окружения мирскими и неважными. Но очень часто переживаемые людьми беспокойства появляются вследствие атмосферы этого окружения. Иногда хаос создают родители на кухне громоздится куча невымытой посуды, в углу свалено грязное белье, пища недоварена. Такие мелочи могут показаться случайными, однако на деле они в большой мере воздействуют на атмосферу. Работая с людьми, мы должны противопоставить хаосу его противоположность. Мы можем проявить чувство красоты, а не просто загонять человека с расстроенной психикой в угол. Высокая оценка окружения является важной частью практики тибетского буддизма и дзэн. Обе традиции считают, что окружающая атмосфера оказывается отражением нашей индивидуальности, а поэтому должна содержаться в незапятнанной чистоте.
Общепринятый терапевтический подход состоит в том, чтобы прежде всего выправить ум человека, затем дать ему принять ванну, наконец помочь одеться. Но я думаю, что нам нужно работать сразу со всей ситуацией. Окружение очень важно, однако часто на него не обращают должного внимания. Если пациенту подадут хорошую еду, если его встречают и принимают как особого гостя, как он того заслуживает, с этого можно начинать работу.
Мы говорим о создании идеальной, почти искусственной жизни для серьезно больных людей, по крайней мере сначала, пока они не смогут взять себя в руки. В самом деле, мы можем купать их, прибирать их комнаты, заправлять постели, готовить вкусную пищу. Мы можем сделать их жизнь элегантной. Основа их невроза заключается в том, что они ощущают свою жизнь и свой мир чем-то весьма безобразным, полным горечи, грязным. Чем более уродливыми и горькими они становятся, тем более такое отношение укрепляется обществом. Поэтому они никогда не чувствуют атмосферы сострадательного гостеприимства. В них видят досадную помеху. Подобный подход не приносит помощи; в действительности люди совсем не являются помехой. Они просто остаются самими собой, такими, какими их сделали обстоятельства.
Терапия должна основываться на взаимном уважении. Если люди почувствуют, что вам просто хочется их "поймать", им может не понравиться созданное вами для них окружение, даже если вы поднесете им поднос с аппетитной едой. Они все же могут почувствовать себя оскорбленными, если будут знать, что ваше отношение не является подлинным, что ваше великодушие - просто лицемерие. Если же ваш подход обладает полным единством, если вы относитесь к своим пациентам как к принцам или принцессам в полном смысле этого слова, они, возможно, захотят ответить вам тем же, они смогут по-настоящему ободриться и почувствовать себя свободно, смогут относиться с одобрением к своему телу, к своим силам, к своему существованию в целом. Дело здесь не столько в том, чтобы найти технические приемы, которые излечили бы этих людей и избавили бы вас от них; задача скорее в том, чтобы научиться по-настоящему включать их в хорошее человеческое общество, сделать их частью этого общества. Для психотерапевта важно создать атмосферу, которая заставляет его клиентов чувствовать доброжелательность. Такое отношение должно пропитывать все окружение; и это - самое главное.
Способность работать с неврозом другого человека, даже с его безумием, в конечном счете зависит от того, насколько вы бесстрашны в этой работе или насколько стесненными себя чувствуете, насколько вас стесняет этот человек или насколько вы в действительности способны расшириться. В случае, например, взаимоотношений матери и ребенка не возникает никаких проблем, потому что мать знает: в один прекрасный день ее ребенок вырастет и станет разумным человеком. Поэтому ее не раздражают ни пеленки, ни другие всевозможные мелочи, которые приходится делать для него. В тех же случаях, когда вы имеете дело со взрослыми людьми, существует особого рода глубокая стесненность, которую необходимо преодолеть; ее надо преобразовать в сострадание.
Безумные люди обладают особенно обостренной интуицией. Они отличаются своеобразной проницательностью и легко улавливают ваши мысли, даже просто их проблески; и у них долго сохраняются эти впечатления. Обычно они пережевывают их и проглатывают - или отбрасывают. Они сделают из них многое. Поэтому тут возникает вопрос о вашей глубинной сущности, о том, насколько вы открыты в подобных ситуациях. Вы можете, по крайней мере, попытаться быть открытыми в такие мгновенья, и это окажется огромным вкладом в дело самообразования и самовоспитания. Далее, здесь налицо проявление возможности развития бесстрашия.
В работе с людьми необходимо все время проявлять терпенье. Так поступаю и я со своими учениками: я никогда не отказываюсь от них, с какими бы проблемами они ни приходили ко мне; я постоянно говорю им: только продолжайте идти. Если вы проявляете терпенье с людьми, они медленно меняются. Вы действительно оказываете на них некоторое влияние, даже если просто излучаете душевное здоровье. Они начнут обращать на это внимание, хотя, разумеется, им не хочется, чтобы кто-то знал о данном факте. Они просто говорят: "Ничто не изменилось; по-прежнему у меня все время возникают те же проблемы". Но вы не отчаивайтесь. Если вы наберетесь терпенья, что-то произойдет. Работа продолжается.
Делайте только то, что нужно, чтобы побуждать и двигаться вперед. Вероятно, они будут продолжать приходить к вам. Как бы там ни было, а вы - их лучший друг, если не реагируете на них чересчур невротично. Для них вы подобны воспоминанию об угощении в хорошем ресторане. Вы остаетесь тем же самым, они по-прежнему приходят к вам. И в конце концов вы становитесь очень хорошими друзьями. Поэтому не хватайтесь за ружье! На все нужно время. Процесс этот идет чрезвычайно долго; но если вы оглянетесь назад, вы увидите, насколько он плодотворен. Вам надо отсечь свое нетерпенье и научиться любить людей. Именно так следует культивировать глубинное здоровье у других людей.
Очень важно быть вполне преданным своим пациентам, а не просто стараться отделаться от них, после того как они излечились. Вы не должны считать, что выполняете ординарную медицинскую работу. Как психотерапевты, вы должны обращать больше внимания на своих пациентов и жить общей с ними жизнью. Дружба такого рода - это долговременная связь; она очень напоминает взаимоотношения учителя и ученика на буддийском пути. И вы должны гордиться ею.
Глава 12
Томас Хора
ЗАДАВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Томас Хора - частнопрактикующий психиатр-экзистенциалист из Нью-Йорка. Автор книг: "В поисках целостности" и "Экзистенциальная метапсихиатрия".
Есть рассказ о том, как американский профессор отправился в Японию изучать дзэн. Его представили мастеру дзэн, и тот пригласил профессора на чай. Оба сидели за столом, мастер разливал чай. Он продолжал лить чай даже после того, как чашка была наполнена, и чай полился через край. "Вы переливаете чай", - сказал профессор. А мастер ответил: "Вот вам первый урок дзэн. Чтобы изучать дзэн, ваш ум должен быть пустым. В нем не должно быть предварительных мнений; иначе не останется пространства, куда могло бы что-то войти".
Существует много вещей, которые кажутся весьма логичными, естественными, разумными и реалистичными; однако они необязательно истинны. Например, нас привели к убеждению, что очень важно понимать все, связанное с нашим прошлым, чтобы мы могли бы исправить настоящее и предотвратить его влияние на будущее. Много энергии расходуется на то, чтобы помочь людям вспомнить прошлое в мельчайших деталях - что случилось, почему случилось, кто виноват в случившемся.
Есть еще рассказ о человеке, который в течение года или двух подвергался анализу. Его главной проблемой была привычка грызть ногти. Как-то он встречает друга, и тот спрашивает: "Ну, как вам нравится анализ?" - "Замечательно! Говорю вам: каждый должен пройти его. Чудесная вещь!" "А все же перестали вы теперь грызть ногти?" - спрашивает друг. "Нет, - отвечает наш герой, - зато теперь я знаю, почему я это делаю".
Французский психиатр как-то сказал: "Мы не выздоравливаем, потому что вспоминаем; мы вспоминаем, по мере того как выздоравливаем".
Так вот, в экзистенциальной психотерапии мы не углубляемся в прошлое; мы позволяем ему раскрыться в процессе приобретения лучшего понимания того, что есть. Существует несколько вопросов, которые в экзистенциальной психотерапии становятся излишними. Совершенно лишним делается вопрос: "Почему?" Мы не задаем вопросов: "Кто виноват?" или "Что мне делать?" В основном мы предлагаем два вопроса:
"Каков смысл того, что как будто существует?"
"Что это такое, что действительно существует?"
Терапевтический процесс - это ситуация встречи, где раскрываются многие аспекты способа пребывания в мире, свойственного данному пациенту. То, что при этом требуется, - это восприимчивость открытого ума, свободного от предвзятых идей относительно того, что должно быть и не должно быть. Если мы займемся практикой наблюдения за своими мыслительными процессами, мы найдем, что чаще всего наши мысли имеют тенденцию вращаться вокруг того, что должно быть или не должно быть. Если освободить сознание от этих предварительных идей, мы будем в гораздо большей мере способны воспринимать то, что действительно есть.
Психотерапию можно определить как попытку распознать добро под слоем патологии. Из чего состоит патология? Она состоит из неверных восприятий. Например, на прошлой неделе здесь демонстрировался случай - больной неверно воспринимал различие между властью и господством. Проявлять власть здоровое состояние; но делать перегиб и превращать власть в господство - это болезнь. И вот мы можем помочь пациенту понять, что он неверно воспринимает нечто, сделать для него ясным то, что является экзистенциально здоровым. Благодаря этому он обнаруживает, что в действительности имеет здоровые намерения, которые искажены неверными истолкованиями и неверными восприятиями. Поэтому мы могли бы сказать, что патология состоит из неправильных понятий о том, что хорошо, что истинно, что экзистенциально здорово. Ранее мы сказали, что экзистенциальная психотерапия является не интерпретирующей, а герменевтической; она проливает свет, проясняет, помогает людям увидеть экзистенциальные проблемы с большей ясностью. Интерпретирующая перспектива имеет целью помочь людям приспособить свою жизнь к другим людям. Этому может выучиться каждый; но такое состояние не является синонимом здоровья. Экзистенциальный же подход нацелен на то, чтобы помочь человеку прийти к гармонии с фундаментальным порядком существования.
Что же это такое - фундаментальный порядок бытия? Чтобы лучше понять его, нам необходимо иметь в виду, что для достижения гармонии с ним необходимо преодолеть несколько препятствий. Одним из них является операционализм. Что такое операционализм? Это забота о том, как бы сделать нечто еще до того, как мы выясним, что есть что. Имеется особый склад ума, всегда озабоченного тем, как делать что-то. Это стремление мешает сосредоточению ума на том, что действительно есть. Необходимо отставить на второе место заботу о том, как сделать что-то, и тогда мы сможем с большей полнотой осознать то, что есть.
Когда мы сидим вместе с пациентом, пациент предлагает нам некоторые проблемы; и если мы будем знать, как задавать правильные вопросы, нам раскроется весь смысл этих проблем. Упор следует делать на раскрытие проблемы. Иногда неопытные психотерапевты, еще не освободившиеся от операционного и вычислительного образа мысли и миропонимания, склонны к попыткам разрешить проблему логически. Но вывести смысл явления нельзя; этот смысл раскрывается перед нами. Если мы возьмем мячик для настольного тенниса, погрузим его в воду, а затем разожмем пальцы, он непременно выскочит на поверхность. Так же обстоит дело и со смыслом явления: если мы оставим попытки его вывести логически, он откроется нам спонтанно.
Возьмем в качестве аналогии плаванье. Какой вопрос будет правильным по отношению к плаванью? Некоторым людям бывает трудно научиться плавать, потому что они склонны спрашивать: "А как вы это делаете?" Если мы будем задавать неверный вопрос, у нас возникнут трудности в любом обучении. Что это значит? Люди, испытывающие затруднения в обучении плаванью, вероятно, в глубине души задают неверный вопрос: "Как вы это делаете?" Каким же будет правильный вопрос? Что такое плаванье? Плавать - значит держаться на поверхности. Сущность плаванья - это плыть. Когда мы это поняли, разве не будет нам легче научиться плавать?
Теперь возникает вопрос: не является ли такое плаванье пассивным? Правильно ли утверждать, что, когда мы плывем, мы отдаемся воде? Если бы мы отдались воде, мы утонули бы. Что же требуется для того, чтобы плыть? Какого рода деятельность требуется при плаванье? Внимание. Плаванье это деятельность, которая совершается в сознании. Плаванье не пассивно; это не отдача воде, не расслабление. Это качество сознания, которое бдительно, внимательно, восприимчиво по отношению к той невидимой силе, присутствующей в воде, которая называется плавучестью. Если же мы судим поверхностно, плаванье может казаться пассивным.
Но мы не должны судить по видимости, нам нужно понимать, что действительно заключено в данном явлении. Это качество внимания. Как бы мы описали то качество внимания, которое требуется для успешного плаванья? Первейшее требование - любить плаванье. Нам нужно любить плаванье, нам нужно быть восприимчивыми. Иными словами, существенное качество, которое требуется для плаванья, - это любящая восприимчивость к невидимой силе, на которую мы пытаемся положиться. Это сила любящего разума; она постоянно обеспечивает нас тем, что необходимо для понимания смысла явлений; она дает нам разум, чтобы вносить в них ясность; она вдохновляет нас на правильное решение того, что представляется нам проблемой. Психотерапия заключается не в Том, чтобы кто-то что-то делал; она заключается в том, чтобы дать возможность произойти. Она не пассивна; но она и не активна. По отношению к тому, что есть от мгновенья к мгновенью, она проявляет глубокое уважение, любящую восприимчивость.
Интересно обратить внимание на тот факт, что некоторые люди плавают с большими усилиями, тогда как другие целыми часами не выходят из воды, не совершая при этом усилий и не испытывая усталости; они при этом даже не напрягаются. То же самое относится и к жизни вообще, и к психотерапии в частности. Разница заключается в качестве осознания. Если мы уверены, что должны плавать сами, плаванье будет для нас очень трудным, утомительным занятием, и мы окажемся плохими пловцами. Но если мы поймем, что здесь налицо поддерживающая нас сила, тогда плавать становится все легче и легче. Сходным образом, если мы уверены, что нам в психотерапии надо кого-то лечить, что мы должны исцелить человека, изменить его личность, мы получим весьма трудное занятие, сделаемся разочарованными и измученными людьми.
Это напоминает рассказ о том. как два психиатра работали в одной и той же поликлинике. В конце дня они вместе спускаются на лифте. Один из них - пожилой джентльмен; он выглядит весьма энергичным и опрятным; другой - молодой человек, с виду усталый и измученный. Однажды молодой человек говорит: "Не пойму, как вам это удается. Целый день вы работали, принимали одного пациента за другим; и все же вы не обнаруживаете совершенно никакой усталости. А я, выслушав всех этих пациентов, вконец измучен. Скажите, как вы это делаете?" Старший отвечает: "А кто же их слушает?" Конечно, это не то, что мы стараемся делать, но есть способ работать активно, действенно и без усилий - это дать возможность производить работу любящему разуму.
Что же требуется от психотерапевта, для того чтобы проявилось хорошее общение? В чем причина того, что некоторые психотерапевты не испытывают никаких проблем в общении? Есть такие индивиды, которые могут прийти в психиатрическую лечебницу, сесть около пациента, не разговаривавшего несколько лет, - и вскоре этот пациент начинает разговаривать; тогда как другие психотерапевты могут целые годы безуспешно пытаться вызывать его на разговор, а пациенту всякий раз, когда к нему приближается такой человек, становится хуже и хуже. Что же это за таинственное качество? Или это магия? Нет, дело здесь в мотивации. Психотерапевт должен обладать правильной мотивацией. Чтобы общение происходило разумно и терапевтически благотворно, существует несколько требований. Одно из первых - психотерапевт должен быть свободен от желания лечить. Это нелегко. Для пациента такое желание лечить может означать чуждое вторжение; ему может показаться, что им манипулируют. Качество присутствия в каждом из нас различно; оно предопределено нашей системой ценностей и мотивацией.
Одним из самых частых мотивов психотерапевта оказывается желание лечить. Оно неизбежно, особенно среди психотерапевтов, обладающих операционным подходом к жизни. Если способ пребывания в мире психотерапевта является операционным, его пациенты будут оказывать значительное противодействие. Никому не нравится быть объектом терапии. Что же тогда способно облегчить общение? Должно существовать качество ненавязчивости. Многие ошибочно принимают этот принцип за невмешательство. Однако между ними имеется весьма тонкое, но коренное различие. Ненавязчивость - это форма любви и уважения, а невмешательство есть пренебрежение. Научиться ненавязчивости довольно трудно.
Разрешите мне лишь кратко пояснить слово "приятие". Кто мы такие, чтобы принимать или не принимать кого-либо? В тот момент, когда мы думаем таким образом, мы немедленно устанавливаем некоторого рода структуру, в которой занимаем место выше пациента. Лучше оставить категорию приятия; мы не принимаем и не отвергаем; мы существуем, для того чтобы понять все, что раскрывается от мгновенья к мгновенью; и мы доступны тем, кому интересны пояснения по этому поводу. Если нет, мы будем просто сидеть в состоянии спокойной восприимчивости к тому, что есть, что существует от мгновенья к мгновенью. Это будет тотальной ненавязчивостью в духе любви. Мы доступны для пациента. Мы сидим с ним в этом духе доступности и помогаем ему выяснить все, что он, возможно, желает узнать или понять.
Раньше мы говорили о влиянии. Влияние - это великое проклятье в жизни, в дружбе, в семейной жизни, в делах, в профессии; а в терапии оно абсолютно ядовито. Конечно, мы не имеем никакого права пытаться оказывать влияние в каком бы то ни было направлении; однако мы можем оказывать влияние просто качеством своего присутствия и своей доступностью, готовностью прояснить то, что мы поняли, то, что у нас спрашивают. Когда мы в таком духе сидим с пациентами, обычно трудности в общении не возникают. Очень скоро пациенты начинают задавать вопросы; число вопросов все увеличивается. Всякий раз, когда задан какой-то вопрос, мы находимся здесь же, чтобы дать пояснения, стараясь понять ситуацию как можно лучше. Если нам случится понять то, что есть, вопрос "как?" не возникнет. Психотерапия представляет собой герменевтический процесс прояснения всего того, что нуждается в прояснении. Именно эта ясность понимания некоторых вопросов имеет силу исцелить пациента. Целительная сила - не в психотерапевте, а в правильности его пояснений. Исцеляет истина, а не человек, который свидетельствует об истине. "Палец, указующий на Луну, - это не Луна", - говорят мастера дзэн. Следовательно, мы ничего не делаем; ничего не делает и пациент; терапия не производится; она развертывается спонтанно, как прогрессивный процесс прояснения, рассвета.
Ен Гуй был учеником даосского мудреца по имени Чжуан-цзы. Этот Ен Гуй был также выдающейся фигурой при императорском дворе и должен был стать советником императора. А император обладал большой склонностью к тому, чтобы рубить головы своим советникам, если те ошибались. Ен Гуй боялся браться за такое опасное дело. Придя за советом к учителю, он сказал ему: "Не думаю, что я достаточно просветлен, для того чтобы оставаться в безопасности в этом высоком положении". На это Чжуан-цзы ответил: "В таком случае ты должен удалиться от дел и практиковать пост ума". "Что это такое - пост ума?" спросил Ен Гуй. Чжуан-цзы дал ему следующее наставление: "Когда ты хочешь слышать ушами, не слушай ушами; когда ты хочешь видеть глазами, не гляди глазами; когда ты хочешь понять умом, не думай умом. Смотри - увидишь и поймешь при помощи дао". Ен Гуй удалился от дел и провел три года, практикуя эту дисциплину. По прошествии трех лет он вернулся к учителю и сказал: "Господин, думаю, я уже готов". "Что ж, докажи это", - ответил Чжуан-цзы. И вот Ен Гуй сказал: "До того как я стал практиковать пост ума, я был уверен, что я - Ен Гуй; а теперь, после того как я практиковал пост ума, я пришел к пониманию, что Ен Гуй никогда и не существовал". - "Да, ты готов", - сказал учитель.
Что он имел в виду, говоря это? Если он никогда не был Ен Гуем, кем же тогда он был? И если Ен Гуя никогда не было, кто же мы такие? Ен Гуй открыл, что он - не личность с собственным "я", с собственным умом, с собственными мнениями, что он - проявление любящего разума. Он стал благотворным присутствием в мире, человеком, который полагается не на личное мнение, но на вдохновленную мудрость. Такой человек живет в безопасности.
Цель экзистенциальной психотерапии заключается в том, чтобы помогать людям в достижении подлинного бытия. Для того чтобы знать, что истинно, нам надо смотреть прямо на то, что неистинно. В человеческом существовании есть одна странность: без проверки существование имеет склонность оставаться не подлинным. Каково происхождение слова "персона"? Слово "персона" означает маску. В греческой трагедии актеры держали перед своими лицами соответствующие маски, буквально надевали на себя "лики". В действительности же нет личности, нет "персоны". Однако в жизни мы все ведем себя так, как если бы были различного рода персонами. Мы говорим о конституции личности, мы изучаем ее, становимся поглощены ее улучшением. Что такое эта конституция? Разве не стремление притвориться кем-то, притвориться тем, чем мы не являемся? Конституция может улучшить видимость индивида, может исказить ее или отвлечь от нее. Мы не говорим, что так должно быть или не должно быть; но давайте поймем то, что есть, то, что действительно существует.
Многие годы психотерапевтов смущал вопрос о тревоге; в этой области имелось и имеется множество теорий и рассуждений. Были выработаны разнообразные технические приемы, чтобы помочь людям справиться с тревогой. Но пока мы, такие, каковы есть, бессознательно или по неведенью живем ненастоящей жизнью, пока притворяемся чем-то другим в сравнении с тем, чем действительно являемся, всегда будет существовать тревога. Тревога - это страх: мы боимся, как бы не обнаружилось то, что мы - не то, чем кажемся.
Невротическую тревогу можно сдержать, можно контролировать, подавить, скрыть, приглушить лекарствами; но ее невозможно излечить до тех пор, пока человек не станет подлинным. Легко узнать, что являет собой личность; но что такое, что действительно есть? Что такое мы - в действительности, без масок? Так ли отвратительно это существо, что его нужно скрывать? Настолько ли мы ужасны, что нам необходимо надевать на себя внешнюю форму конституции личности, чтобы сделать себя приемлемыми для своих собратьев? В чем смысл этой игры в прятки, которой мы заняты всю жизнь? Что мы скрываем?
Хайдеггер говорил об экзистенциальном ужасе, об "ужасе перед ничто". Главная тема Хайдеггера заслуживает внимания, особенно в контексте затронутых здесь вопросов. Он говорил: "Ничто по контрасту со всем, что кажется существующим, является завесой бытия". Что он хотел этим сказать? Мы упомянули об ужасе перед пустотой. Дети часто выражают желание быть кем-то: "Я хочу быть тем-то, когда вырасту". Каков смысл этого желания? Так вот, оно указывает на то, что мы как раз хотим почувствовать себя кем-то. В психологии мы говорим об игре, о разных ролях, о функционировании; но когда же мы бываем самими собою, тем, чем действительно являемся? И что это такое? Мы можем пройти через всю жизнь, ни разу не встретившись с самими собой, никогда не обнаружив истины нашего собственного бытия. Важно ли это? Есть ли в этом какая-нибудь выгода?
Экзистенциальная литература часто упоминает об отчуждении; что это такое? Это, главным образом, отделенность от истины того, что мы в действительности такое. Мы настолько вовлечены в свое притворство, тратим так много энергии на улучшение своих масок, мы настолько озабочены функционированием, исполнением роли, влиянием и подверженностью влиянию, что, по мере того как проходит время, становимся все более и более отчужденными от осознания своей истинной, подлинной сущности.
При помощи какого метода мы могли бы приблизиться к цели - достижению подлинности? Наделе этот метод очень прост. Все, что нам нужно сделать, - это научиться задавать правильные вопросы. Вся область психотерапии в целом является жертвой неудачного выбора вопросов. Какие же вопросы чаще всего задаются в этой области?
Первый - "Почему это произошло?" Этот вопрос - из сферы причины и следствия; он предполагает, что, поскольку нечто произошло, оно должно иметь причину или обоснование. Это звучит весьма логично; к сожалению, в более широком контексте логика недостаточно разумна. Второй вопрос - "Кто виноват в случившемся?" - является персоналистским вопросом. В действительности никто не виноват; нет ни причины, ни виновного. Третий вопрос - "Что делать по этому поводу?" - является операционным; он предполагает, что мы способны остановить неверный ход событий. И четвертый вопрос - "Как нам остановить это?" - являет собой вопрос процесса: предполагается, что для исправления положения, что кажется нам необходимым, требуется некоторый процесс.
Эти вопросы ведут по неверному пути. Всякий раз, когда мы успешно отвечаем на них, мы гонимся за недостижимым. Для того чтобы быстро достичь цели постижения истины, мы можем задать два правильных вопроса:
Первый - "В чем смысл того, что кажется существующим?"
Второй - "Что это такое, что действительно есть?"
Глава 13
Дэвид Брэндон
ПОГРУЖЕННОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПОМОЩИ
Дэвид Брэндон - глава отделения практических социальных исследований Престонского политехнического института в Англии. Двадцать лет работал в области патронажа, руководил исследованиями среди бездомной молодежи, производившимися по поручению правительства Англии. В числе его книг: "Человеческое - это человеческое" и "Дзэн в искусстве помощи".
В практике медитации настоящее мгновенье - самый неуловимый пункт. Вы сосредоточиваете всю энергию на вдохе и выдохе. Дверь открывается и закрывается. Вы стремитесь к этому спокойному пункту настоящего - и видите, что он вечно уклоняется от вашей хватки. Настоящий момент подобен текущей реке: вы можете опустить в воду руку, но вещество реки течет сквозь ваши цепкие пальцы.
По течению этого потока плывут эмоции - это как бы бревна и ветки, на которых тщательно прикреплены ярлыки; кажется, что они плывут к страху, алчности, гневу. Каждое из этих состояний в свою очередь прикрепляет к ним еще один ярлык с надписью "плохо" или "отвратительно". Какова же природа этой энергии, прежде чем я дам ей какое-то наименование и приму решение относительно ее ценности? Я пытаюсь выяснить это; но река течет все быстрее.
Настоящее мгновенье находится с нами, внутри нас; но оно всегда неуловимо ускользает от нашей хватки. Привести себя к настоящему, находящемуся здесь и сейчас, - это звучит обманчиво просто, но в сущности очень трудно. Мы делим жизнь на серию событий и происшествий, которые имеют для нас вид больших и мелких. Мы живем, главным образом, так, что сосредоточиваемся на тех событиях и людях, которые видим большими и важными. Жизнь становится серией дыр во времени - она напоминает проколы, сделанные случайными крупными происшествиями. Например, влюбленность может означать, что в промежутках между встречами со своей возлюбленной я как бы перестаю жить.
Другие времена и мгновенья - следы прошлого и тени будущего - вторгаются в наше осознание настоящего момента. Иногда они ясно различимы; но часто видны как бы в тумане. Практика погружения в настоящее не означает исключения прошлого и будущего, это - осознание подчиненности обоих настоящему моменту.
Сущность медитации, - говорит Чогьям Трунгпа в "Медитации в действии", - это понятие настоящего момента... Все, что мы делаем, все, что стараемся практиковать, не имеет особой цели, такой, как достижение некоторого более высокого состояния, следования какой-то теории или идеалу; это просто старание увидеть то, что существует здесь и сейчас... Нам нужно стать способными осознавать настоящий момент...
Я постоянно отклоняюсь от тех стандартов, которые установил для себя, противопоставляя нынешнюю ситуацию тому, что могло бы быть. Сосредоточенность здесь и сейчас это важная дисциплина; она помогает внести ясность в непрерывное трение и наказание. Здесь и заключается различие между вопросами: "Как мне себя чувствовать?" и "Как я себя чувствую?"
Настоящий момент - это единственное время, когда мы действительно способны сделать все что угодно. Я могу чувствовать вину за прошлое, могу опасаться будущего; но только в настоящем я способен действовать. Способность находиться в настоящем моменте - главная составная часть душевного здоровья. Обычно мы восхищаемся некоторыми людьми, обладающими качеством "присутствия"; это качество чаще всего в какой-то мере означает, что они как будто имеют корни в настоящем моменте и благодаря этому сообщают нам особое чувство достоинства.
До какой степени можем мы внести свое восприятие и энергию в происходящее вокруг нас в момент его протекания? Какая часть нашей энергии отметается озабоченностью и опасениями? Уменье исключать ненужные беспокойства и заботы, касающиеся прошлых переживаний и будущих происшествий, представляет собой большую ценность. Многие нынешние восприятия так интенсивно окрашены прошлым, что я едва вижу какого-то отдельного человека. Часто я наблюдаю других сквозь наложения теней и отражений значительных людей и событий моей жизни.
Недавно я стал избегать общества одной студентки, с которой мы встречаемся в кофейной комнате. Я чувствую, что, имея дело со мной, она испытывает горечь и гнев; и вот всякий раз, когда мы с ней встречаемся, я вношу в ситуацию это убеждение и воспоминание. Я чувствую обиду; я реагирую гневно и догматически, хотя близок к тому, чтобы заплакать. Я едва вижу ее. Она стала ходячим символом тысяч случаев, когда люди кажутся мне недобрыми и несправедливыми.
Часто мне бывает трудно даже слышать некоторых людей: они говорят на частотах особенно болезненной для меня длины, так что я отталкиваю этот эмоциональный звук. Они проникают сквозь поверхностный слой некоторых образов, которые я стараюсь излучать. Часто я оказываюсь заряжен таким количеством радиостатических и личных рекламных объявлений, таких, как "беспокойный ум", что их слова и чувства почти не слышны. Мое внимание оказывается отвлечено личными проблемами или тем, чем заняты за окном дети; или же оно просто утомлено словами клиента. Способность хорошо слушать обладает колоссальным качеством погруженности в настоящее. Слушатель не принял никаких предварительных решений, не положил в основу ситуации никакой драгоценной для себя структуры по отношению к говорящему. Чогьям Трунгпа устанавливает три типа неэффективного слушанья:
В первом случае ум слушателя настолько блуждает, что в нем совсем не остается места для того, о чем говорится. Слушатель присутствует только физически. О нем говорят, что он подобен горшку, перевернутому вверх дном. Во втором случае ум устанавливает какую-то связь с тем, о чем говорится, но по существу все еще продолжает блуждать. Его аналогия - горшок с дырой в дне: сколько бы в него ни вливали, все вытекает снизу. В третьем случае ум слушающего полон агрессивности, зависти, всевозможного разрушения. У него по отношению к сказанному возникают смешанные чувства, и он не может по-настоящему понять то, что говорится. Горшок не опрокинут, в его дне нет дыры, но он не очищен как следует, в нем содержится яд.
Многие из вопросов, предназначенных для помощи, содержат предположения относительно того, каким будет ответ. Уменье задавать вопросы и слушать, не создавая заранее структуру ответов или создавая ее лишь в минимальной степени, - это большое искусство.
Я писал книгу совместно с приятельницей, обладавшей физическим недостатком. Когда-то Энни была первой красавицей, королевой красоты, а затем в результате автомобильной аварии оказалась парализованной. Очень осторожно я спросил ее, как она чувствует себя в этом состоянии.
- Забавно! - был ответ.
- Но ведь вы не можете считать это положение забавным...
- Нет, могу; когда я была маленькой девочкой, я мечтала о том, чтобы стать сказочной принцессой, которой во всем прислуживают. Так оно и вышло!..
- Однако вы, должно быть, ощущаете боль и неудобства.
- Конечно. Но поймите меня: если бы я не попала в эту аварию, жизнь была бы совсем иной, но необязательно лучшей. А благодаря такому случаю я оказалась вынуждена исследовать себя, медитировать. Я стала сильным человеком.
Но я уже не слушал Энни. Она пыталась сказать мне нечто, совершенно противоположное моему понятию о физически неполноценных людях, нечто, совершенно не входящее в рамки ожидаемых мной ответов. Она просила меня разучиться - а это всегда очень болезненно.
Слушать с пользой для говорящего - это просто слушать. Здесь особая форма медитации, где говорящий становится объектом сосредоточения, а не дыхание или мантра. Фокусом сосредоточения помогающего становится звук голоса говорящего и возможный смысл его слов.
Как-то я почувствовал действительную гармонию с человеком, которого только что оставили жена и вся семья. Его физическое здоровье разрушалось уже несколько лет, значительно снижая подвижность и способность наслаждаться жизнью. Погруженный в тяжкую депрессию, он уже не раз покушался на самоубийство. Довольно обстоятельно беседуя со мной о самоубийстве, он повторно и настойчиво задавал мне вопрос: "Можете ли вы найти какой-нибудь довод в пользу того, чтобы я продолжал жить?"
Я уклонился от ответа, прячась и увертываясь за каждым психотерапевтическим кустом. "Как могу я дать ответ на такой вопрос? Вы должны найти свой собственный довод". Для меня настоящий момент заключается в том, что я мог понять все доводы в пользу его желания умереть; но работникам медицинской помощи "не рекомендуется" говорить этого людям. Такие слова могут оказаться "разрушительными". Однако этот человек настаивал на ответе, на подлинном ответе. Я долго думал обо всей его жизни - о его депрессии, о нищете, о плохом здоровье, о потере семьи. Наконец, я сказал в ответ: "Я не в состоянии найти довода в пользу того, чтобы вы в вашем положении продолжали жить. Я могу понять ясные доводы в пользу желания умереть".
Я чувствовал страх. Мне казалось, что я пошел на огромный риск, сказав ему это. Какой будет моя ответственность, если он в конце концов убьет себя?! Как я буду себя чувствовать? Как ему реагировать на мой ответ? Мой ум устремился в будущее по сохранившимся в памяти сложным умственным стереотипам. Но вот через несколько месяцев, когда депрессия почти прошла, он сказал мне, что мой ответ помог ему. В то время, когда ему казалось, что каждый дает ему ответ, не думая, а лишь выражая жалость и симпатию, ему настоятельно требовался честный ответ на этот важный вопрос.
Одна из самых трудных вещей в групповой работе - это уменье просто находиться вместе с членами группы. Ваша задача, как руководителя, состоит в том, чтобы следовать за энергией группы и избегать навязывания ей и ее членам собственных интерпретирующих стереотипов и ожиданий. Когда я сижу спокойно и наблюдаю, как кто-то работает над своими личными проблемами, мой ум гудит от аналогий с прошлым опытом: "Разве она не похожа просто на... ?", "Хотелось бы знать, не испортились ли у нее взаимоотношения с братом, не влияют ли они на то, как она..."
Погруженность в настоящее означает способность отбросить эти интеллектуальные построения, когда клиенты уклоняются от привычного пути и движутся в непредвиденном направлении. Как часто я вынуждал какого-нибудь бедного клиента возвратиться с его пути исследования лишь потому, что сам твердо придерживался своего взгляда на то, что он должен делать! Я употребляю свою силу, чтобы заставить клиента сделать то, что считаю правильным, вероятно, в ущерб ему самому.
Беседы в психотерапии могут оказаться способом попытки уйти в любое другое время и место, кроме настоящего. Паскаль в точности выражает этот факт: "Мы никогда не остаемся в настоящем. Истина заключается в том, что настоящее обычно ранит нас". Оно ранит нас прежде всего вследствие нашего сильного желания других времен и других мест. Мы жаждем лучшего профессионального положения; нам хочется иметь больше денег и платить менее высокие налоги; нашим клиентам тоже нужно больше денег, им нужны лучшие дома в улучшенном окружении. Наша жизнь становится серией слабо связанных между собой переживаний типа "если бы только...": "Если бы только у меня было время сделать это...", "Если бы только у меня были деньги для этой покупки..."
Во время посещения гостиниц с постоянными жильцами, помещений для полевых работ или какого-нибудь добровольного общества я обычно спрашиваю, что делают люди, как они проводят день, как проходит их рабочая неделя. И я редко получаю на этот вопрос прямой и вразумительный ответ. Чаще всего вопрос вызывает появление целой кучи разнообразных мечтаний и видений, прикрывающих глубокую разочарованность и горечь. Люди находят трудным сказать, что они делают в настоящее время, а описывают то, что могло бы случиться через несколько месяцев или через год. Гостиницы в особенности окутывают своих случайных жильцов паутиной фантазии. Нынешняя деятельность кажется невыносимой, потому что она так отличается от видений, в которых нуждается работник медицинского патронажа.
В западном обществе нас постоянно поощряют к отвлечению ума от настоящего момента. Мы боимся; мы отчаянно стараемся занять себя, делать несколько вещей одновременно. Лучше всего мы чувствуем себя, когда бываем заняты. Наши умы расколоты в разных направлениях; мы наблюдаем за собой с неистовой сосредоточенностью. Наша речь тщательно отредактирована, прежде чем слова вылетят в воздух; эти слова экранированы для приемлемости в обществе. "Как повлияют мои слова на отношения с людьми?" Такая деятельность направлена более на то, чтобы стать кем-то, нежели на то, чтобы быть самим собой. Мы учимся скрываться, чтобы сохранить некоторые виды образов, а не просто быть самим собой.
Действия и события нашей жизни видятся в контексте какого-то общего плана личности, который выполняется "правильно" или "неправильно". Мы что-то делаем для достижения положения, любви или власти; мы учимся манипулировать другими людьми и снижать до минимума социальную стоимость различных действий, не принимая на себя ответственность за них. Большая часть нашей деятельности неотрывно связана с этим жизненным планом. Жизнь уподобляется нумерованным точкам, которые дети соединяют карандашом, и из этого соединения получаются силуэты ослов или верблюдов. А силуэты, которые выводим мы, являют собой линии "я". Они связывают наши действия в понятия образа "я". Наше восприятие "я" и своей роли обеспечивает нам некоторую безопасность, устойчивость в этом мире, где, как нам кажется, существует столько опасностей. Мы страхуемся против неожиданностей, вписывая в свою жизнь различные повести и рассказы; мы предлагаем объяснения самим себе; мы окружаем других устойчивыми схемами, а потом следим за ними и сердимся, когда они выходят из этих схем. Р. X. Блайт твердо определяет место этого процесса:
Эта иллюзия формы, прочности и постоянства и есть то, что мы называем "я". Погруженность в настоящее заключается в отсутствии пузыря, разъединяющего наблюдателя и то, что он наблюдает; это отсутствие осознания "я". Погруженность в настоящее - существенное прямое переживание, единство между оказывающим помощь и тем, кому он помогает.
В сутре Будда рассказывает притчу: "Человек, шагая через поля, встретил тигра, и тот погнался за ним. Подбежав к пропасти, человек ухватился за Корень дикого винограда и повис над краем обрыва. Наверху фыркает тигр, чуя его запах; весь дрожа, человек глядит вниз и видит, что там, далеко внизу, другой тигр ждет падения, чтобы сожрать его. Он удерживается только на корне дикого винограда. Но вот две мыши, белая и черная, начинают понемногу грызть корень. Человек видит около себя сочную ягоду земляники. Держась за корень одной рукой, он другой срывает ягоду. Как она вкусна!" Какая великолепная погруженность в настоящее! Несколько лет назад я принимал участие в сэссин, видоизмененном для Запада: это три дня интенсивной медитации. Мы жили в отдаленном замке в Сассексе, ежедневно укладывались спать в полночь, а утром просыпались по звуку гонга в пять сорок пять. Весь долгий день был занят работой в саду, ходьбой в состоянии медитации или сидением лицом друг к другу; все мы боролись с коанами. Каждый человек получил от мастера коан; моим коаном был: "Что вы такое?"
Я старался держать этот вопрос в уме, но он все время вытекал оттуда. Он вертелся с большой быстротой; его постоянно заглушали другие мысли, с грохотом вторгавшиеся в поле ума, подобно шумным, взрывчатым звездам. Буквально целые часы ушли на то, чтобы глядеть в глаза другого изучающего, стараясь ответить на вопрос: "Что я такое?" В течение всего первого дня у меня болели ноги и позвоночник, а ягодицы совершенно онемели. Тело одеревенело; оно стало настолько болезненным, что трудно было вообще сосредоточиваться на вопросе.
Что бы мы ни делали - ели, шагали или работали, - нам нужно было твердо придерживаться вопроса. Вначале мой ум выбросил в качестве ответа целую серию пустых привлекательных фраз. Голова кружилась от образов и символов, от морских берегов, горных ледников, кристаллов, медленно распускающихся цветов; затем я прошел через период появления чудовищ - черных покрывал, ускользающих теней и черных пятен. Все это каким-то образом оказывалось частью меня, но никак не составляло целого.
Потоком неслись мысли о семье и о работе. Я пытался держаться прямо; спина продолжала болеть. Ответы становились все более красочными и поэтическими; это были яркие, поверхностные образы, благоухающие и чересчур умные. "Я - вопрос, звучащий эхом в пустом уме". Ум заволокло тьмой; на широкой деревенской лужайке играли белки. Я завидовал им: у них оказалось больше ума и они не пытались отвечать на такие смешные вопросы.
Я увидел, что я - это свеча - небольшая, довольно неважная, мерцающая свечка. Но тут возник следующий вопрос: "Кто зажег эту свечу?" Как мог я быть и свечой, и тем, кто ее зажигает? Ум напряженно продирался сквозь этот любопытный парадокс. Физические ощущения становились невыносимыми; ноги и руки напряглись, подбородок оставался тугим и неподвижным, зубы - сжатыми до боли. И совершенно внезапно образ свечи исчез, хотя я и пытался его удержать.
Я жадно глядел на себя. Я был узлом; все мое тело и весь ум стали тугими и напряженными, подобными узлу. А кто завязал этот узел, кто нес ответственность за напряжение и горечь? Конечно, я знал, кто зажег свечу, кто завязал узел. Никто сильнее меня не старался разрешить эту задачу и ослабить путы. Это было просто несправедливо; вопрос предложен в шутку; в действительности на него совсем нет ответа. Искать ответ - все равно что ловить солнечные лучи. Я вспомнил, как, будучи малышом, накрывал курткой солнечные пятна.
Казалось, я потерялся; все утратило свою ясность. Теперь я просто сжимал кулаки; сначала я сжимал их в гневе, потом - в отчаянье. Я отвечал: "Я - человек, неспособный дать ответ на такой вопрос!" Вопрос катался вокруг моей головы, подобно грохочущему шару. Стало трудно сосредоточиваться. Я начал убеждать себя в том, что не обладаю необходимой четкостью ума для получения ответа. Ум утратил ясность. Может быть, я получу ответ в следующем воплощении?..
Снаружи зимний день сменялся сгустившейся тьмой и резким ветром. Я шагал взад и вперед по очень просторной конюшне с высоким потолком. Шаги ускорились, и я натыкался на обломки какой-то палки, на камни. А вопрос, подобно маятнику, приходил снова и снова: "Что я такое? Что я такое?" Слова превращались в крик, в настоящий злобный визг, идущий от напряженного лица и рта: "Что я такое? Я безнадежный идиот, не знающий, что он такое. Я - тот, кто не может ответить на простой вопрос". Крики раздавались громче и громче; дождь и ветер относили их обратно ко мне. И эта ковыляющая, кричащая, барахтающаяся в конюшне фигура взлетела в воздух. Каждый мускул был напряжен; казалось, я вот-вот взорвусь.
И вот в самый момент взрыва разочарования, на высоте всех этих порывов ветра, дождя и ярости, я совершенно спокойно осознал, что фактически ответ находился тут же, в самом углу. Как старый и благоразумный друг, он терпеливо ждал все это время, ждал возможности прийти. И вот он вошел - и все мое тело утратило напряженность, подпрыгнуло, ощутило тепло и радость. ТЕПЕРЬ! Я был ТЕПЕРЬ; ответом было ТЕПЕРЬ. Я есмь, и был, и буду всем, что раскрывается и движется, мыслит, задает вопросы и говорит в этот самый момент времени. Это было нечто гораздо большее, нежели просто интеллектуальное понимание - оно обдало меня потоком добра, моего добра, всеобщего добра. Добро происходит сейчас. Охваченный счастьем, я закричал: "Сейчас, сейчас, сейчас!" Мы с вопросом стали друзьями.
Глава 14
Джон Уэлвуд
УЯЗВИМОСТЬ И СИЛА В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ
Существует центральное переживание, которым обладаем мы все и в котором заложена суть человеческого бытия; некоторые из нас обладают им чаще или в разные времена жизни, как бы нас при этом ни называли - "разумными людьми", "невротиками", "психически больными", "просветленными" или "непросветленными". Это переживание являет собой ядро экзистенциалистской и буддийской перспективы. В экзистенциализме - это источник экзистенциальной тревоги; для буддизма - это основа пути к тому, что называется "просветлением", "пробужденностью", "освобождением".
Переживание, о котором я говорю, таково, что на самом деле никто не любит слишком о нем распространяться. Легко вообще его не заметить, потому что мы развили в себе множество привычек и рутинных действий, направленных на то, чтобы избежать прямой встречи с ним. Для этого переживания, насколько мне известно, нет готового термина. Поэтому для его обозначения я изобрел особый термин - и называю его "моментом крушения мира".
Я уверен, что все мы знакомы с такими моментами, когда значения, на которых мы строили свою жизнь, неожиданно оказывались разрушенными. Внезапно они теряли свою важность и сущность, более не оказывали на нас влияния, не поддерживали нас, как поддерживали когда-то. Ранее мы могли иметь свои мотивы для успеха - надо было зарабатывать деньги, обеспечивать семью или стремиться к тому, чтобы нас полюбили. А сейчас, вдруг, в этот самый момент, мы удивлены: зачем мы все это делаем? к чему все это вообще?
Напрасно мы озираемся вокруг в поисках некоторой абсолютной, непоколебимой истины для всего происходящего, некоторой устойчивой опоры; все, что мы видим, - это неумолимо текущее время и наши безнадежные попытки ухватиться за что-то прочное.
В то же время, когда отпадает старая структура, а замены для нее у нас еще нет, мы обычно чувствуем некоторую внутреннюю болезненность. Подобного рода обнаженность и нежность являются одним из наиболее существенных качеств нашей человечности, таким качеством, которое мы обычно маскируем. Когда же отпадает внешняя оболочка, маска, или фасад, мы приходим в соприкосновение с тем, что нам можно было бы назвать глубинной уязвимостью. Переживание глубинной уязвимости, которое сопровождает мгновенья крушения мира, является таким переживанием, которое я узнал весьма близко благодаря практике медитации. Как психотерапевт, получивший подготовку в области экзистенциальной психотерапии и практиковавший много лет медитацию в буддийском стиле, я хотел бы исследовать не только место этих мгновений крушения мира и глубинной уязвимости в обеих традициях, но также и вопрос о том, как они могут пробудить более глубокие качества человечности в терапевтических взаимоотношениях.
В экзистенциальном подходе чувство, сопровождающее эти мгновенья, называется "экзистенциальной тревогой", или, по выражению Киркегора, "ужасом". В нем видят онтологическую озабоченность; иначе говоря, оно возникает из самой нашей природы, природы человеческих существ. И оно приходит в такие мгновенья, когда мы постигаем беспочвенность, внутренне присущую всем нашим личным планам. Страх смерти это один особый случай подобной тревоги.
В экзистенциальном мышлении этот вид онтологической тревоги отличается от невротической озабоченности, которая является продуктом собственного изготовления и возникает из наших попыток отвлечь себя от более глубокой тревоги. Беспокойство по поводу того, что думают о нас люди, по поводу того, что мы "ничего не достигли", служит дымовой завесой, которая удерживает нас от прямого соприкосновения с этим более широким экзистенциальным ужасом. Иногда кажется, что мы почтя влюблены в свой невроз, потому что он занимает нас и дает нам что-то конкретное, за что можно держаться, в противоположность тем мгновеньям крушения мира, где, как нам кажется, ничего нет.
В экзистенциальной традиции сартровское понятие "тошноты", исследование самоубийства Камю, киркегоровское отчуждение от всех рациональных, философских и религиозных структур своего мира, попытка Ницше установить систему ценностей, основанную на жизни, а не на страхе, все они выросли из отчетливого восприятия того факта, что старые значения, которые так хорошо служили человечеству и человеческому обществу, более нас не поддерживают. После индустриальной революции старые структуры общества, которые направляли жизнь людей, более не действуют. Как сказал Ницше, "Бог умер". Экзистенциализму не удалось найти какую бы то ни было абсолютную, непоколебимую основу для оправдания того, что мы делаем со своей жизнью; он представлял собой попытку создать значение из собственного индивидуального существования человека. Это означало, что единственным источником значения является ваше собственное индивидуальное действие; и здесь открывается новая перспектива в истории нашей культуры. Данный факт является в некотором роде замечательным, потому что он создает героический взгляд на жизнь, в которой каждый человек должен найти и сотворить собственный смысл в бессмысленном мире. Одним архетипом такого усилия является миф о Сизифе, как его толкует Камю: в этом мифе, несмотря на то, что камень постоянно скатывается по склону горы, Сизиф снова катит его вверх и каким-то образом находит в этом занятии героический смысл. Таково чувство "будем продолжать возделывать землю" - невзирая на все препятствия. Однако в этом подходе экзистенциальная тревога есть данность; здесь нет никакого способа в конце концов преодолеть чувство страха. Так или иначе, но никогда нет гарантии, что личные значения, которые вы создаете для самих себя, явятся для вас поддержкой в течение очень долгого времени, особенно перед лицом непостоянства и смерти. То, что имеет смысл сегодня, не обязательно будет иметь смысл завтра; то, что имело значение в течение всей вашей жизни, может оказаться ничего не значащим в момент смерти. Может быть, в этот последний момент вы бросите взгляд назад и скажете: "Что же я наделал!" Таким образом, с экзистенциальной точки зрения, поскольку значение собственного изготовления не создает абсолютной опоры, тревога будет неизбежной.
Подобно экзистенциализму, буддизм также представляет собой реакцию на мгновенья крушения мира. Сам Будда, индийский принц, был рожден в мире, полном смысла; его жизнь была запрограммирована обществом и отцом: было определенно известно, что он унаследует престол своего отца; однако сам он обнаружил, что его жизнь находится в постоянном изменении под воздействием четырех мгновений крушения мира; это произошло, когда он увидел старика, больного, умирающего и бродячего святого. Толчок, данный этими встречами, подорвал все значение, которое до того поддерживало его жизнь, и послужил началом собственных личных исканий. Он испробовал различные аскетические методы своего времени и наконец решил просто сидеть в медитации и увидеть, нельзя ли дойти до самой основы всех вещей. Среди других фактов, открытых им после шести лет практики, один оказался центральным; и мне хочется подчеркнуть его здесь: это - факт иллюзорной природы "я". Он увидел, что "я" не имеет подлинной прочности, подлинного постоянства. Обычно то "я", которое мы знаем, построено при помощи отождествления с объектами осознания, которые приходят и уходят - это наши занятия, принадлежащие нам вещи, наша личная история со всеми ее драмами и достижениями, интимные взаимоотношения, которые мы считаем самыми дорогими. Все эти вещи, за которые мы держимся, как за нечто такое, с чем можно отождествить себя, должны составить некоторое постоянство. Само понятие постоянства означает "то же самое". Таким образом, обладание постоянством означает буквально, что мы пытаемся оставаться одними и теми же изо дня в день. Наше постоянство удерживает нас в целости, и мы пользуемся им среди прочего, для того чтобы избежать переживания крушения нашего мира, ибо оно бывает таким пугающим.
Почему же нам требуется с такой полнотой отождествлять себя с вещами, приходящими в наше сознание? Именно здесь подход буддизма как будто оказывается несколько более глубоким в сравнении с подходом экзистенциализма. Медитативное переживание, на котором основан буддизм, учит нас, что сама природа сознания радикально непрочна, открыта, восприимчива по отношению к миру. И вот это в высшей степени созвучно с тем, что утверждали также и многие экзистенциалисты. Например, Сартр говорит о человеческой ностальгии по прочности скалы и определенности дерева. В данном случае он говорит о внутренней природе дерева, как вещи в себе. Дерево - это просто дерево. Что такое человек? Мой отец - это мой отец; дерево - это дерево. А кто такой я? Мы хотим обладать таким же видом прочности, какой постигаем в другом. Однако с точки зрения буддизма сам тот факт, что мы можем вбирать в себя вещи, давать им возможность касаться нас, вообще видеть "другое", как прочное, означает, что мы сами не обладаем прочностью, а скорее пусты, подобно зеркалу, открыты, подобно пространству. К несчастью, мы склонны считать свою широту и непрочность, сравнительно с другими "недостатками", чем-то таким, что должно быть заполнено, должно быть сделано прочным. Таким образом, мы сперва предполагаем, что все входящее в нас имеет независимое и прочное существование в самом себе; а затем мы задаем себе вопрос: "А что я такое в сравнении с 'другим'? Кто я такой?" Завидуя кажущейся прочности "другого", мы не в состоянии правильно понять то обстоятельство, что природа нашего сознания состоит в том, чтобы обеспечить пространство, в котором вещи могут проявляться и раскрываться. Именно здесь чрезвычайно полезной может оказаться практика медитации - она учит нас по-иному устанавливать связь со своей широтой.
Прежде чем показать, какую связь с терапией имеют мгновенья крушения мира и глубинной уязвимости, мне хотелось бы сообщить, как я лично совершил переход от экзистенциализма к буддизму. В начале шестидесятых годов я отправился в Париж; мне было немногим больше двадцати, и я находился под сильным влиянием экзистенциализма. Тогдашний Париж был местом, впитавшим в себя экзистенциальное чувство того времени. Экзистенциалисты были моими личными героями, потому что мир, в котором я вырос, не вызывал у меня особых чувств; а эти люди, по крайней мере, пытались создать какое-то ощущение смысла и для себя, и для мира. И вот я сидел в кафе, где частенько бывал Сартр, я шагал по улицам, о которых писал Рильке. Даже камни, улицы и стены Парижа обладали некоторым экзистенциальным качеством. Я ходил по мостам через Сену и воображал, что с них хотел броситься в воду Камю. Но я как-то не чувствовал удовлетворения в том, чтобы просто принимать абсурдность мира и, исходя из этого, вести героическую борьбу. К счастью, как раз в это время, когда я начал чувствовать, что уже в который раз вкатываю камень на гору, я наткнулся на работы Алана Уоттса и Д.Т. Судзуки.
Единственной книгой, которая сразу же изменила мой взгляд на мир, оказалась книга Уоттса "Психотерапия Востока и Запада". Однажды, читая ее, я ясно увидел выход из тупика экзистенциализма. Подлинная проблема заключается не в том, что человеческая жизнь абсурдна, не в том, что не существует абсолютной основы для непоколебимых значений. Вместо этого проблему надо как-то искать в природе того "я", которое мы пытаемся создать. И это понимание некоторым образом сделало для меня возможной работу с вещами в новом разрезе. Мне не пришлось отрицать тревогу и бессмысленность существования, чувство отчаянья; они даже могли оказаться ступенью к чему-то другому. Экзистенциализм изо всех сил старается как-то заполнить новым значением пустоту, открывающуюся в момент крушения мира. А здесь я увидел, что буддизм не пробует ничем ее заполнять или как-то преодолеть. Он скорее предлагает путь для дальнейшего вхождения в эту пустоту. Фактически, когда я читал веселые рассказы о мастерах дзэн, мне казалось, что они даже наслаждаются пустотой. В то время это показалось мне действительно радикальной переменой перспективы. В контексте буддизма момент крушения мира можно представить как всего лишь одно мгновенье в более широкой картине мира, в некотором дальнем странствии; этот момент не будет наивысшим конечным мгновеньем.
В медитации випассана вы обнаруживаете, что поток мыслей, чувств и восприятий каждое мгновенье продолжает вступать в осознание и выходить из него. Ум старается схватить их, удержаться за них, отождествиться с ними; но по-настоящему этого никогда не получается. Вы не можете удержаться ни за что. Вы продолжаете попытки прийти к какому-то выводу относительно вещей; но проходит несколько мгновений - и любое занятое умом положение сменяется другим, отличным от первого. Это создает весьма прямое переживание непостоянства, отсутствия устойчивости "я". Однако такое переживание не должно вести к экзистенциальному ужасу; если вы остаетесь внутри процесса медитации, вы часто обнаруживаете, что в промежутках между последовательными моментами попыток ухватиться за нечто вы начинаете немного освобождаться от напряженности; вы не в состоянии непрерывно продолжать эти попытки. Вам нужно на короткое время освободиться перед новым захватом; затем вы снова освобождаетесь и снова хватаетесь. Когда приходит мысль, вы хватаетесь за нее и стараетесь что-то с ней сделать - либо отождествиться с ней, либо освободиться от нее, бороться с ней, присвоить ее или отказаться от нее; но в промежутках между захватами существует это мгновенье освобожденности, где происходит нечто, не являющееся захватом. В разрывах между следующими друг за другом захватами возникает ощущение чего-то иного. По мере того как в ходе практики вы освобождаетесь от напряжения в этих открытых пространствах, вы обнаруживаете там особого рода пустоту, более обширную глубинную основу, на которой и происходят захваты; такое состояние мы могли бы назвать "открытым грунтом" нашего переживания. Это открытие указывает на освобождение иного типа, нежели экзистенциальная свобода разумного выбора. Это начало пути, ведущего за пределы экзистенциального отчаянья.
Думаю, многие из нас знают, что жизнь постоянно изменяется, что природа жизни заключается в движении вперед, что мы не сможем двигаться вперед, если не уйдем с того места, на котором уже находимся. Иными словами, свобода требует, чтобы мы оставляли позади старые структуры. Мы знаем это рассудком, однако освободиться бывает так трудно; когда же старые структуры разрушаются сами, это оказывается крайне болезненным!
Медитация предоставляет нам способ научиться освобождаться. Во время сидения то "я", которое мы старались построить, превратить в изящный и чистенький пакет, продолжает распутываться. Тогда мы можем ясно видеть, как мы его строим, как стараемся сохранить, как, продолжая надувать его, только причиняем себе новую боль, новые неудобства.
Иллюзорная природа постоянного "я" не является уникальной идеей буддизма. Мы находим ее также и в западной традиции, хотя здесь она проистекает по существу из философского анализа. Например, Юм говорит: "Со своей стороны, могу сказать, что когда я глубже всего погружаюсь в то, что называю самим собой, я всегда натыкаюсь на то или иное особое восприятие". Здесь говорится почти то же самое, а именно: мы осознаем главным образом объекты сознания. "Я никогда не улавливаю себя", - говорит он. К такому же выводу приходит и Уильям Джеймс. Он нашел, что постоянное "я" есть убеждение, построенное на бесконечной последовательности мыслей, набегающих одна на другую; и в этом процессе создается иллюзия обладания, "подобно бревну, которое сначала несли Уильям и Генри, затем Уильям, Генри и Джон, потом Джон и Питер и так далее. Все подлинные единицы переживания набегают одна на другую... ". "Каждая мысль, умирая, заменяется другой, говорящей: ты принадлежишь мне, мы с тобой части того же 'я'". Именно этот фокус создает иллюзию постоянного "я": каждая мысль немедленно подхватывает предыдущую, угасающую мысль и принимает ее. Это звучит весьма по-буддийски. Также и Сартр говорит об иллюзии "я": "Существенная роль 'я' состоит в том, чтобы маскировать от сознания саму его спонтанность. Все происходит таким образом, как если бы сознание было загипнотизировано этим "я", которое оно само же построило, как если бы сознание было поглощено этим "я", чтобы сделать его своим хранителем и законом".
Но без пути, который помог бы нам открыть более широкое ощущение того, что мы такое, мы можем почувствовать недоумение: "Что из того, что 'я' представляет собой конструкцию, - ведь мы все еще остаемся с экзистенциальной тревогой!" Поскольку значения, на которых мы строим свою личность, постоянно меняются и отмирают, это приводит к тому, что мы все время подвергаемся воздействию кризисов личности. Особенно в эпоху толчка к будущему, когда смысловые значения, которые культура считала ценными, меняются все с большей быстротой, кризисы личности станут возрастать в соответствующем масштабе. Итак, открыв несубстанциональность "я", мы продолжаем ощущать потребность в некотором пути, чтобы куда-то идти отсюда.
Для наших клиентов по терапии данное обстоятельство кажется даже более существенным. Если мы поможем им понять, что "я" представляет собой фикцию, это само по себе не облегчает их страдания. В терапии часто возникает критический момент, когда многие клиенты начинают прозревать через старое "я". Как медитирующий, я отчетливо осознаю эти моменты, когда клиент понимает: "Я не знаю, кто я такой". Действительно, этот факт может быть чудесным моментом, однако многие терапевты и клиенты предпочитают уклоняться от него. Часто в терапии дело подходит к такому пункту, где старые структуры, распутавшись, начинают разрушаться, а какое-то новое направление еще не возникло. Здесь - особое промежуточное состояние; но у западной психологии не слишком много возможностей подготовить людей к тому, чтобы иметь дело с подобными моментами. Большинство наших терапевтических направлений руководствуется теорией личности; и мы сами в большинстве своем обычно полагаем, что нам необходимо знать, кто мы такие; ведь, в конце концов, другие люди как будто ходят мимо нас и знают, кто они такие. Но если мы заглянем вглубь себя и не найдем ничего, на что нам можно было бы положиться, это приводит нас в ужас. Возможно, мы не понимаем, что ни один человек в действительности не знает, кто он такой; такова природа нашего бытия; и если мы вообще обладаем истинным "я", оно каким-то образом находится в самом центре непознаваемого, с которым мы встречаемся лицом к лицу, когда начинаем вглядываться внутрь самих себя. Если мы сумеем "высунуть голову" за край этого неведомого состояния, мы, возможно, откроем для себя способность просто быть самими собою, не испытывая необходимости при этом быть еще чем-то.
Когда старые, малоприспособленные структуры начинают разрушаться, клиент часто смотрит на раскрывающуюся перед ним пустоту и спрашивает: "Что же теперь?" Что же делаем в этом пункте мы, психотерапевты? Пытаемся ли мы заменить старые структуры новыми? Даем ли клиенту возможность свободно повиснуть в пространстве, на краю бездны?
Медитация создает для меня некоторый контекст, в котором становится возможной работа с такими моментами. Я пережил сильное ощущение этой своей личности во время трехмесячного уединения со своим учителем медитации. После первых трех недель я обнаружил, что мой мир уникальным образом разрушается, что уровень интенсивности этого разрушения оказался сопоставимым с уровнем прежних дней экзистенциализма, пожалуй, даже несколько превзошел его. Я нашел, что по-настоящему не верю в то "я", за которое держался и которое строил в течение всей своей драгоценной жизни, даже несмотря на то, что я считал это "я" лучшим, нежели то, которое имел когда-либо раньше. И все же что будет, если я освобожусь от него? Я знал, что это будет падением - и не мог представить себе, куда оно меня приведет.
Однако в самом окружении работы с этим страхом было что-то такое, что оказывало мне большую помощь. Я нашел, что могу позволить себе перенести крушение. Атмосфера окружения практики способствовала этому каким-то дружеским образом: практикой были заняты также и другие люди; вся цель пребывания здесь заключалась в том, чтобы дать возможность вашему миру распасться, чтобы продолжать движение вперед и найти в этом движении что-то важное. Не хочу сказать, что все это "имело смысл", потому что я не обязательно находил там какой-то новый смысл, используемый в качестве основы для построения новой и лучшей структуры "я". И все же я больше не впадал в то чувство бессмысленности, от которого предлагал помощь экзистенциализм.
Освобождение от необходимости быть чем-то, именно чем-то, отбрасывание этой борьбы за смысл даже на короткое время оказывалось подобным тому, как если бы я очищался от чего-то; это уменьшало хаос в уме. А это, в свою очередь, позволяет нам открыть то, что в буддийской традиции называется "глубинным разумом", или "природой будды"; это ясность и открытость, о которых мы говорим как о почве нашего сознания. Здесь не просто нейтральная открытость, которая появляется в экзистенциализме, не пугающая пустота; она обладает блеском и остротой, прорезающими туман, пробивающимися сквозь сумрак; она подобна свету, который не позволяет ничему стать на его пути. И чем дольше вы сидите и практикуете медитацию, чем больше времени тратите на нее, тем сильнее глубинный разум начинает пробиваться сквозь весь созданный вами туман, рассеивать этот туман, растворять все вещи, за которые вы пытаетесь держаться и которые преграждают путь этому свету. Он как будто обладает собственной энергией, сияющей сквозь все действия рассудка и все прочие фокусы, которые мы проделываем над собой.
Часто психотерапевт старается сосредоточиться на содержании проблем клиентов, с тем чтобы отвести этих клиентов в сторону от глубинного чувства крайней уязвимости, от незнания того, что они такое, от отсутствия чего-то такого, с чем они в конечном счете могли бы отождествить себя. Однако я вижу в этой уязвимости сущность человеческой природы, сущность сознания. Как люди, мы представляем собой животных с прямой походкой и незащищенной передней частью тела; эта часть полностью открыта для воздействия мира. Открываясь миру, мы также полностью вбираем мир в себя через всю переднюю часть тела. Иметь чувствительную кожу - это значит иметь такую кожу, которую легко проколоть. Эта буквальная мягкость и нежность отражены в нашей психологической конституции как глубинная чувствительность, где мы со всеми нашими проблемами и заботами часто ощущаем себя совершенно незащищенными. Соприкасаясь с этой уязвимостью, клиент может установить связь также и с глубинной жизненностью, способной изменить угол, под которым он рассматривает свои проблемы. Здесь имеет место иной подход в сравнении с тем, который придает проблемам первостепенную важность, хотя сами проблемы могут оказаться средством, помогающим нам соприкоснуться с этой чувствительностью. В своей работе я фактически не пытаюсь заставить кого-то почувствовать эту уязвимость - такое чувство, кажется, появляется в некотором пункте само собой.
Интересно отметить, что слово "уязвимость" обычно имеет в нашей культуре уничижительный смысл. Я думаю, что это происходит потому, что мы отождествляем уязвимость с утратой силы. Если мы говорим, что кто-то уязвим, это обычно означает, что он слаб, чрезмерно чувствителен, что его легко оскорбить. Я провожу различие между тем, что называется глубинной человеческой уязвимостью, и другим видом уязвимости, слабостью "я", той скорлупы, которую мы строим вокруг своего мягкого воспринимающего центра, посредством которой мы вбираем в себя мир. Поскольку мы чувствуем себя столь восприимчивыми и незащищенными, мы по привычке стараемся прикрыть свою нежность фасадом или маской, которая создает некоторое расстояние между нами и миром. Но такая скорлупа оказывается хрупкой и всегда доступной для проколов; а в моменты крушения мира она бывает просто уничтоженной. Другие люди обычно способны видеть под нашим фасадом наше истинное лицо; а смерть или прочие обстоятельства неизбежно разбивают скорлупу. Необходимость охранять и латать самих себя создает некоторую хрупкость; это и есть та уязвимость, которую мы в нашей культуре считаем проявлением какой-то слабости. Фактически так оно и есть: она действительно представляет собой слабость, потому что хрупкость подобного рода отдает нас на милость вещей, непрестанно грозящих проколоть нашу скорлупу. Нам приходится стараться контролировать ситуации, так, чтобы не чувствовать угрозы для себя; с другой же стороны, соприкосновение с нашей более глубокой человечностью и нежностью указывает на источник подлинной силы.
Мне хотелось бы проиллюстрировать сказанное случаем из практики. Ко мне пришел клиент в возрасте около тридцати пяти лет, назовем его Рэем. Он изложил свои проблемы эксгибиционизм и алкоголизм, а также боязнь гомосексуальности и труднейшие проблемы в отношениях с женщинами, хотя в основе своей его ориентация была гетеросексуальной. Мать бросила его в шестилетнем возрасте; и он был взят на воспитание дядей. Дядя оказался личностью типа "мачо", неспособным на близость и нежность к ребенку. Тем не менее вышло так, что Рэй стал очень сильно отождествлять себя с дядей как с человеком, который не может выражать мягкость.
Я выбрал в качестве примера этого клиента, потому что все его симптомы тем или иным образом продолжают указывать в обратном направлении, на вопрос об уязвимости. Например, его эксгибиционизм был одним из тех странных, свойственных ему симптомов, которые являют собой совершенные символы: это способ выказать свою уязвимость, сохраняя при этом особого рода контроль и власть над ней. Его опасение гомосексуализма связано со страхом по отношению к своей мягкости. Алкоголизм - он напивался и буянил - оказывался особым способом освободить из-под тяжкого контроля скрывающегося в нем ребенка, так, чтобы ему можно было проявить спонтанность и вполне ощутить свою жизненность. Наконец, его холодность к женщинам явно связывалась с боязнью отдаться на их милость и снова оказаться в уязвимом положении.
Как ни странно, переживание состояния мужчины казалось Рэю ощущением постоянного пребывания "на краю". Таковы были его слова: "Всегда на краю". У него имелся один образ этого состояния: он с большой скоростью едет по шоссе, задерживаемый людьми, которые едут слишком медленно. Этот образ символизировал его фактическое поведение. Он пришел к заключению, что это помогало ему чувствовать себя хозяином положения, чувствовать себя мужчиной.
Что же я сделал с Рэем? Мы "встречались" с ним в тех незащищенных местах, которые появлялись во время нашей совместной работы. Я никогда не употреблял слова "уязвимость" - оно пришло от него самого. Но было ясно, что эта часть его личности желала признания и включения в его жизнь. Что казалось ему важным - так это открытие того факта, что уязвимость не означает состояния жертвы. Однажды он сказал: "Хорошо, когда тебя оскорбляют; ведь это не значит, что тебя не любят". Он начал понимать, как вызывал в женщинах гнев и противостояние, чтобы почувствовать себя сильным, а не мягким.
У Рэя был и другой подходящий образ состояния "на краю обрыва", который он обычно связывал с ощущением напряжения в верхней части туловища. Он видел себя повисшим на краю утеса. Мы с ним часто возвращались к этому переживанию, в котором он удерживался над обрывом утеса, соображая, что ему можно там сделать. Один раз он исследовал возможность вскарабкаться выше, на площадку; в другое время он несколько раз размышлял о возможности прекратить усилия и упасть. Еще один образ был связан с сидением на ветке влюбленность была для него подобна сидению на ветке. Фактически такое чувство не является необычным. Но если любовь не получала полного ответа, если возлюбленная оставляла его, он снова падал в бездну, переживая все эти пугающие чувства ужаса, пустоты, одиночества. Во время одного сеанса, когда он чувствовал, что сидит на ветке, я попросил его перевести внимание с чувства паники на чувство "ничего не случится, если она меня оставит". Он обнаружил, что в нем возникло какое-то тепло, когда он позволил вниманию войти в ту пустоту, которая открылась под ним; это чувство вызвало у него удивление. Он видел его в красном и желтом цвете. Это переживание начало разбивать существовавшую в его уме установку на то, что уязвимость равноценна состоянию жертвы.
Некоторым образом Рэй оказался в классическом переплете типа "мачо" - ему надо было крепко держаться за самого себя, а это всегда ставило его на край. И все же в его глазах иногда проглядывала беспомощность; его детская потребность напиваться и буянить, а также постоянное желание приходить и работать над своими проблемами говорили мне, что находящаяся внутри него нежность стремится найти какой-то выход, какое-то выражение.
Из проведенного с ним времени мне более всего запомнилось то чувство совместного пребывания на краю обрыва, когда мы в исследовании определяли, на что похоже то, когда мы держимся, на что похоже то, когда мы прекращаем борьбу и падаем. Подозреваю, что такое совместное пребывание каким-то образом заставило его почувствовать, что уязвимость - вещь не плохая; он понял, что она не должна означать уничтожение, позор, унижение, бесчестье или заброшенность. В течение последних лет Рэй женился и перестал пить; он все еще работает со своей уязвимостью на более глубоком уровне, особенно теперь, после женитьбы. Но сейчас он определенно начинает входить в соприкосновение с какой-то мягкой силой, находящейся внутри него самого, и видеть это очень приятно.
Пожалуй, кто-то возразит: "Что ж, может быть, кому-то, кто сохранил нетронутым "я", полезно открыть эту уязвимость; но как быть с людьми, чей мир все время рушится, которые не в состоянии взять себя в руки?" Мне случалось работать с клиентами, имевшими неадекватную охранительную оболочку; я работал с ними по-иному, нежели с теми, кто обладает нетронутой системой защиты. Если крыша клиентов всегда проваливается, тогда я могу сосредоточиться на возведении более прочных опор. В подобном случае я делаю больший упор на твердой обоснованности взаимоотношений данного лица с миром, так, чтобы человек мог выработать обычное доверие к себе и самоуважение.
Если в абсолютных понятиях вера в "я" в конечном счете оказывается фикцией, в этой вере все же может содержаться относительная польза, особенно для тех людей, которые никогда не вырабатывали у себя чувства основательности или уверенности. Даже такой человек, который обладает слабыми средствами защиты или рассеивает эмоции по всему своему окружению, вероятно, до сих пор не установил дружеских взаимоотношений с этим нежным и мягким местом внутри себя. Установление такого рода дружбы и доверия представляет собой важный шаг даже для сильно встревоженных клиентов, так что их уязвимость не должна становиться источником паники.
Чем больше психотерапевты опасаются этого уязвимого центра внутри самих себя, тем более вероятна для них такая мысль: "Что же произойдет, если мы позволим людям входить в эту экзистенциальную пустоту, даже приближаться к ней? Они могут не удержаться на краю этого состояния глубинной незащищенной уязвимости!" В самом деле, у Рэя в более раннем периоде его жизни, когда он сильно злоупотреблял наркотиками, было такое переживание. Он почувствовал, что весь его мир куда-то проваливается, - и после этого попал на несколько недель в психиатрическую лечебницу. Это усилило его чувство: "Не смогу еще раз пройти вблизи этого страшного места внутри. Это запрещенное место". Но я думаю, что происходящая в таких случаях так называемая "ненормальность" не есть следствие пустоты; скорее она представляет собой крайнюю реакцию на эту пустоту. Это переживание есть замерзание вследствие панического страха перед ней. Поэтому важно именно то, как мы относимся к этой пустоте. Как раз здесь может быть полезной медитация, в особенности для самих психотерапевтов, поскольку она дает им своеобразное переживание и уверенность в работе с собственной уязвимостью, так что они не впадут в панику при мысли о возможности для их пациентов пройти над краем.
В заключение хочу сказать кое-что о мощи и силе - в смысле внутренней силы, наличия опоры и способности эффективно действовать в этом мире. Не думаю, чтобы возможно было обладать реальной силой без чувства действительной уязвимости. Сила другого рода, та, за которую держался Рэй, не обладает мощью. Это попытка иметь власть над чем-то; такая сила становится неустойчивой, легко опрокидывающейся. Старание сохранить контроль подобным способом делает нас весьма уязвимыми в понимании слабости, в смысле "я". Поскольку нашей власти над чем-либо очень легко возникают всяческие угрозы, мы должны постоянно оберегать ее. Связывание своей энергии в такой защитной системе лишает нас нашей силы. Совершенно иными оказываются мощь и сила, проистекающие из освобождения от напряженности и проникновения в свою природу, из чувства самых незащищенных и нежных мест внутри самих себя. Эти сила и мощь подобны даосскому образу воды как наиболее уязвимого и мягкого из элементов. Ничто не в состоянии проникнуть в нее; а она делает все, что вы хотите. Однако ничто не может превзойти ее в способности разрушать твердое и плотное. Мост от глубинной уязвимости к этой подлинной человеческой мощи есть мягкость. Мягкость может преодолеть панику, окружающую нашу уязвимость. Фактически мягкость часто оказывается естественной реакцией на уязвимость. Когда вы видите новорожденного ребенка, молодое животное или какого-нибудь страдающего друга, естественной реакцией бывает мягкость. Но, как это ни странно, к себе мы обычно относимся иначе. Нам надо научиться быть в какой-то мере мягкими с самими собой.
Медитация заключает в себе практику, допускающую крушение нашего мира, а также пребывание с самими собой во время этого крушения; она учит нас, как быть мягкими по отношению к себе. И если мы начнем вырабатывать эту мягкость к себе, мы сможем быть мягкими и по отношению к другим - точно таким же образом, какой помогает им найти связь с их собственной уязвимостью. Буддизм описывает эту глубинную уязвимость как семя просветления, которое уже находится внутри нас. Сказано, что когда это "нежное сердце" достигло полного развития, оно становится весьма мощным и может преодолеть все преграды, которые мы, люди, как будто нарочно создаем для себя. В своей вполне просветленной форме "нежное сердце" преображается в "пробужденное сердце".
Таким образом, взаимная уязвимость, существующая в отношениях между клиентом и психотерапевтом, - как и в любых важных взаимоотношениях нашей жизни, - представляется ключевым фактором в воздействии двух людей друг на друга. Если мы посмотрим на образы богов и богинь греческой мифологии, мы увидим, что Афродита была связана с орудиями войны, а Эрос был вооружен стрелами. В силу этого предполагалось, что вступить в связь, быть способным полюбить означает способность позволить себе получить рану. Мы могли бы сказать, что "уязвимый" означает "способный к связи". Здесь подразумевается также, что мы, как психотерапевты, не можем вступить в действительную связь с клиентами, если не обладаем способностью каким-то образом быть уязвимыми именно для этих людей.
Вопросы и ответы
Аудитория: Что вы подразумеваете под "смыслом"? Предоставляет ли нам медитация способ найти новый смысл?
Дж. Уэлвуд: В большинстве своем системы психотерапии пытаются найти смысл там, где до того, по-видимому, не было никакого смысла. Я вижу в смысле некоторую структуру, некоторую форму; мы создаем ее или открываем благодаря своему взаимодействию с миром. Здесь я не говорил об этом; но как раз именно это я большей частью и делаю с клиентами - мы совместно открываем и раскрываем новый смысл.
Взаимодействие смысла и бессмыслицы есть диалектический процесс. Мы вырабатываем смысловые структуры в детском возрасте, чтобы помочь себе найти какой-то смысл в мире и как-то лавировать в нем. Но часто в юности или в начале зрелости возникает период, когда мы начинаем подвергать сомнению эти смысловые структуры. И это может привести к чувству бессмысленности, о котором говорят экзистенциалисты. Экзистенциальная терапия помогает людям раскрыть смысл, заключенный в их жизненном опыте, который обладает гораздо большей широтой и глубиной, нежели те предвзятые значения, которые ему пытаются навязать люди. Я не хочу чернить поиски смысла, потому что найти органический смысл в своем жизненном опыте - весьма важное и могучее средство. Однако мы можем сделать еще один шаг за пределы этих поисков смысла - это раскрытие некоторой свободы от смысла; однако такое состояние - это не бессмыслица в экзистенциальном понимании; здесь мы освобождаемся от борьбы за отыскание смысла. "Открытый грунт" свободен от смысла; мы создаем из него значения и структуры. Но эти структуры могут стать чересчур плотными и прочными, если мы не сможем позволить им опять раствориться в свободном от смысла "открытом грунте". Практика коанов в дзэн предназначена для того, чтобы разбить наши попытки найти смысл. Если вы боретесь за то, чтобы найти смысл коана, у вас ничего не выйдет. Когда мы отбрасываем эту попытку найти смысл коана, раскрывается другой род осознания.
Аудитория: Не состоит ли ваша роль, как психотерапевта, в том, чтобы ускорить дезинтеграцию старых структур? Вводите ли вы медитацию в свою практику психотерапии?
Дж. Уэлвуд: Нет, я не пытаюсь ничего ускорять; я стараюсь идти по тому направлению, которое как будто желает принять процесс клиента. Если психотерапевт полностью пребывает в процессе клиента, а клиент работает со своим собственным процессом от мгновенья к мгновенью, это обстоятельство само по себе направляет дальнейшее движение. Если бы я попытался заставить нечто происходить быстрее, это не было бы тем видом мягкости, которого мы сами требуем.
Терапия касается формы - люди находят новый смысл жизни и строят более подходящие для жизни структуры. Постижение анатта, или отсутствия "я", ведет к большему душевному здоровью, к большему благополучию только в том случае, если мы уже обладаем прочным телесным ощущением бытия в мире. Если у нас есть такое прочное чувство нашего существования, мы сумеем сделать прыжок, вернуться из периода крушения мира и, пожалуй, будем обладать большей силой, чтобы пережить это крушение. А люди шизофренического типа и пограничных состояний психики, лишенные этой относительной опоры, будут просто сметены восприятиями отсутствия действительной опоры. Поэтому лучше всего помочь тем, кто не обладает такой основой, приобрести форму и структуру для руководства в обыденной жизни.
То, что я подчеркиваю здесь, - это не форма, а пустота, которая окружает создаваемые нами формы, подобно обширным просторам космоса, окружающим наше местопребывание на этой планете. Медитация - это дисциплина, предназначенная прежде всего для того, чтобы научиться понимать это пространство и функционировать в нем. Я чувствую, что практика медитации имеет свою целостность и свой контекст, которые необходимо уважать. Она обладает собственной формой - мы сидим с выпрямленным туловищем; эта поза дает нам опору и помогает "сохранить свое место", когда мы открываемся для окружающей нашу жизнь более обширной пустоты. Я не пытаюсь смешивать ее с терапией; последняя представляет собой скорее средство для развития смысловой и здоровой структуры.
Аудитория: Если вы отрицаете наличие у нас постоянного "я", кто же тогда, по-вашему, является свидетелем и носителем всех этих переживаний?
Дж. Уэлвуд: Полный ответ на этот вопрос потребовал бы гораздо более продолжительной дискуссии, чем мы можем себе здесь позволить. Выразим его вкратце; наше осознание и активно, и восприимчиво. "Я" является удобным обозначением для активной части этого процесса; как активное осознание, "я" не обладает формой, которую можно было бы уловить. В то же самое время существует целый набор привычек, стереотипов и структур, которые я могу наблюдать в своей жизни уже ретроспективно. Как раз этого "меня" наблюдает "я". Такие структуры имеют склонность продолжаться и повторяться; данный факт обозначен в буддийской литературе словом "карма". "Я" может наблюдать эти стереотипы и выводить из них существование прочной, постоянной личности. Но непосредственно пережить эту личность "я" никогда не может. Кроме того, никто никогда не был в состоянии выяснить, кто обладает этим активным осознанием. Именно это открыл Будда в течение шести лет медитации - за всем зрелищем нет никакого "таинственного чародея". Предположение о наличии "я", которое обладает осознанием, только создает ненужные осложнения.
Глава 15
Дайэн Шайнберг
НАУЧИТЬ ТЕРАПЕВТОВ ПРЕБЫВАНИЮСКЛИЕНТАМИ
Дайэн Шайнберг - член факультета и методист аспирантуры Центра душевного здоровья и Национального института психотерапии в Нью-Йорке. Изучала веданту и тайцзи; в настоящее время практически изучает дзэн-буддизм. Автор книги "Излечение в психотерапии".
Во время методического руководства клинической практикой психологов и работников патронажа в области психоаналитической психотерапии, а также во время наблюдения за практикой более опытных психотерапевтов я отметила некоторые повторно возникающие трудности, свойственные их работе. Здесь мне хотелось бы рассмотреть эти трудности вместе с кое-какими способами, при помощи которых психотерапевты могли бы избежать этих осложнений при лечении.
В раннем периоде практики психотерапевт обычно испытывает характерное чувство большей напряженности по отношению к "пациенту", нежели по отношению к другим людям, с которыми он встречается в своей жизни. Его пугает уже сам факт пребывания в одной комнате с пациентом, переживание его близости, когда нет времени на размышления по поводу толкования симптомов, значений, теорий, выводов, образов того, как должны идти события, что нужно делать. Когда из-за отсутствия знакомого направления или модели для взаимодействия возникает неуверенность, психотерапевт зачастую чувствует озабоченность. Он обеспокоен, когда ему приходится просто наблюдать за пациентом. Практиканты часто говорят: "Не понимаю, что происходит" или "Не понимаю, что говорит пациент", или "Не знаю, что мне делать". За этими замечаниями скрываются предположения о том, чт возможно в точности знать все, что происходит, что существует "нечто познаваемое", что психотерапия представляет собой процесс понимания того, что находится в голове пациента, а не понимание процесса взаимодействия обоих участников психотерапии. Существует иллюзия, что, поскольку мы знаем, что означает "это", нам можно практиковать некоторую форму применения техники по отношению к пациенту, который тогда получает помощь. Первоначально практиканты воспринимают пациентов, как людей, коренным образом отличных от них самих: пациенты ничего не знают, и практиканту нужно работать с ними; а сам практикант знает или должен знать все, потому что терапия состоит из некоторой предполагаемой техники.
Деятельность руководителя практики состоит в том, чтобы показать, как движется работа; показать, что не существует никакого особого "способа"; что мы никогда в точности не знаем переживаний другого человека; что исцеление происходит при взаимном участии в открытии наиболее важного качества пациента. Человеческие взаимоотношения столь сложны, что никогда нельзя вполне понять происходящее, а потому невозможно и абсолютное решение. Именно это новое событие взаимности, способы совместного виденья и пребывания вместе создают у обоих участников новое ощущение внутренней силы. Вместе с обычным страхом перед тем, что мы неправильно ведем терапию, существует также незнание возможности учиться у пациента, самому находить нужные методы.
Второе наблюдение при руководстве практикой заключается в том, что во время сеансов и после них психотерапевты работают в том направлении, чтобы подогнать теорию к пациенту, его прошлые переживания - к настоящим. Применение теории и интерпретирование подразумевают желание изменить пациента или оставить его неизменным. Такие психотерапевты не понимают, что истинное познание состоит в способности наблюдать то, что происходит в настоящий момент, и описывать происходящее точно, конкретно, в полноте деталей. Подобный образ действий отличается от желания изменить происходящее, избавиться от него, сравнить его с чем-то или вынести о нем определенное суждение.
Мы не изменяем пациента и не фиксируем его; но спустя некоторое время мы узнаем состояние пациента на данный момент, узнаем, как он живет. Таким образом мы облегчаем ему достижение более ясного понимания самого себя; и в это время он в возрастающей степени чувствует готовность измениться.
Задача руководителя практики состоит в том, чтобы дать практиканту возможность осознать то, что действительно имеет место во время сеанса - поведение, переживания, преобразование самого себя и пациента. Мой опыт руководителя практики свидетельствует о том, что многие психотерапевты топят свою эмпатию или понимание борьбы пациента в тревогах о том, что они недостаточно помогают пациенту, делают не то, что нужно.
Приведем несколько клинических примеров того, как наблюдение за практикой дало психотерапевтам возможность ослабить свой детерминистический взгляд на пациента как на какую-то особую личность, которую необходимо подвергнуть интерпретации, чтобы затем излечить.
Так, после десяти интервью один из практикантов заявил, что у него "нет взаимоотношений" с пациентом. Почувствовав безнадежность работы с пациентом и всего его будущего, он решил, что этому человеку необходимо медикаментозное лечение. Психотерапевт почувствовал, что он не в состоянии дойти до пациента; пациент не реагировал на его усилия, и это вызвало у врача гнев. Психотерапевт считал безнадежное состояние пациента "иррациональным", так как это был молодой и интеллигентный человек, "видящий во всем темную сторону". Вот выдержки из протокола десятого сеанса.
Терапевт (после короткого молчания): Так что же у нас происходит?
Пациент (глядя на пол): Ничего...
Терапевт: Как вы себя чувствуете?
Пациент: Хорошо (пожимает плечами).
Терапевт: Что вы хотите сказать этим пожатием плечами?
Пациент: Что?
Терапевт: Что означает это ваше пожатие?
Пациент: Ух...
Терапевт: Вы не заметили, что пожали плечами?
Пациент: Нет.
Терапевт: Вы пожали плечами. Может быть, вы хотели что-то этим сказать?
Пациент (улыбаясь): Я не знал, что пожимаю плечами.
Терапевт: Ну а для меня это служит указанием на то, что вы поручаете мне уладить все ваши дела. Это ли вы чувствуете? Хотите ли вы предоставить мне все дело, чтобы я его начал?
Пациент: Что?
Терапевт: Ваше пожатие плечами говорит, что вы поручаете мне начать сеанс. Чувствуете ли вы это?
Пациент: Я ничего не чувствую.
Терапевт: А ваша предыдущая психотерапевт обычно тоже сама начинала сеанс? Вы привыкли к этому?
Пациент: Не помню (оглядывается по сторонам - обычный жест).
Терапевт: Вы чувствовали себя вполне свободно, когда говорили с ней?
Пациент: Это была милая женщина.
Терапевт: Вы чувствовали, что можете разговаривать с ней без затруднений?
Пациент: Что-то не помню...
Терапевт: Вам, должно быть, стало трудно после ее ухода?
Пациент не отвечает.
Терапевт: А что вы почувствовали, когда ваша психотерапевт уехала?
Пациент: Ничего.
Терапевт: Как это случилось?
Пациент: Не знаю.
Терапевт: Чего вы не знаете?
Пациент: Что?
Терапевт: Когда мы начали говорить о докторе X. вы стали сжимать руками голову. Может быть, есть какая-то связь между вашим жестом и тем, что доктор X. перестала работать в клинике?
Пациент (после молчания): Я очень устал.
Этот психотерапевт явно имел определенное представление о том, как должен идти сеанс психотерапии, что при этом должен говорить пациент. Однако он не имел ни малейшего представления о том, кто такой его пациент, и это мало его интересовало. Моя работа с этим психотерапевтом заключалась в том, чтобы сосредоточить его на факте взаимоотношений с пациентом; их интенсивные взаимоотношения видны из его чувств - он рассердился на человека, пришедшего на сеанс, разочаровался в нем. Данный факт является антитезисом "отсутствию взаимоотношений". Я обратила его внимание на то, как он чувствовал себя с этим человеком; хотя он мог сказать, что ощутил разочарование или гнев, он не решился пойти так далеко. Я предложила ему наблюдать за собой во время следующего сеанса и сосредоточиться на своем ощущении пребывания вместе с этим человеком в течение недели, не помышляя о помощи ему, поскольку он и не в состоянии помогать, пока не узнает больше о том, что происходит с его пациентом; а сейчас он этого еще не знает. Мне было ясно, что терапевт имеет теоретические представления о том, что происходит в голове у пациента, но не умеет найти способ помочь пациенту раскрыться перед ним.
Когда терапевт пришел через неделю, он сообщил, что с ним произошла "ужасная" вещь: наблюдая себя во время сеанса, он не мог удержаться от разговора, не мог вынести молчания. Я предположила, что у него появились неприятные чувства, связанные с пациентом, и это могло пробудить некоторые чувства и в нем самом; я предложила ему на следующем сеансе снова сосредоточиться на наблюдении за своими чувствами во время пребывания с этим человеком.
В следующей беседе он сообщил о желании сделать пациентов людьми, способными работать более продуктивно. У него имелись представления о том, какого рода пациент ему нужен. Я сказала, что меня интересует его работа с тем человеком, который фактически у него лечится. Я спросила его, что он чувствовал во время сеанса. Он сказал, что наблюдал за собой и ничего не чувствовал, что просто "онемел" от удивления, когда увидел, насколько мертвым он может быть по отношению к пациенту; он бранил себя и бранил пациента. Я спросила, что еще он может сказать об этом омертвляющем переживании, и он ответил, что во время сеанса "потерял всякий интерес, хотел закрыть глаза, страдая от своего бессилия". Я отметила, что теперь он обладает некоторым чувством того, что переживает пациент, как болезненно это состояние, как его мысли, теории, знания и объяснения действовали в качестве отвлечения от этой боли, от того, что происходит в душе его пациента. Затем я предложила ему на следующем сеансе сосредоточить все свое внимание на том, чтобы слушать и наблюдать за тем, что он увидит; а затем мы с ним углубимся в это переживание.
Практикант пришел ко мне после двенадцатого сеанса; впервые за все время он был со мной молчалив. Я тоже немного помолчала; затем я спросила его о том, что он действительно увидел. Он начал тихо говорить о том, что находит невозможным облечь в слова то, что произошло во время сеанса. Я еще раз спросила о том, что он увидел, и он произнес с сильным чувством: "Его руки". Затем он умолк. Нам не пришлось словесно углубляться в суть дела. Возникла особая форма контакта, при которой на мгновение исчезло разделение между психотерапевтом и пациентом; и вот там оказалось двое людей, которые теперь, вероятно, могут находиться друг с другом в состоянии неуверенности, вне теорий, названий, представлений и выводов. Этот терапевт теперь сумеет начать видеть то, что происходит между ним и пациентом, а не то, чем, как он думал, должна быть терапия. Он сумел начать осознавать свои собственные мысли и чувства, которые создают рабочее окружение; теперь он смог начать видеть, кем в действительности является его пациент, сумел дать ему большую свободу, предоставить ему пространства для излечения. Психотерапевт рассказал мне, что он ощущает импульс этого переживания и связывает его с особым интересом, побуждающим узнать, кто же такой его пациент. Впервые ему захотелось выяснить, кто этот пациент на самом деле. Я почувствовала, что с этой настроенностью он сможет подойти к пациенту таким образом, чтобы тот начал делиться с ним своими мыслями и чувствами.
Я хочу описать еще одну практикантку. Это была студентка высшего учебного заведения, проходившая у нас клиническую практику; до начала моего руководства она проработала с пациентами два года. Ей была поручена пациентка из дневной программы клиники. Пациентка однажды подверглась кратковременной госпитализации; и вот одним из первых вопросов практикантки был вопрос о том, будет ли эта девушка "кандидаткой на лечение для аналитической работы".
Она рассказала, что психотерапия "не действует" на больную и добавила: "Я не в состоянии притворяться, будто установила контакт с ней". Она рассказала, что на все многочисленные вопросы пациентка давала единственный ответ, опускала глаза и оставалась безразличной. "Зачем она приходит ко мне?" - спросила практикантка с оттенком неприязни, смешанной с нетерпеньем. Она сказала, что ощущает "невыносимое напряжение", возрастающее до такой степени, что после двух первых сеансов она спросила пациентку: "Не хотите ли вы поговорить о чем-нибудь другом?" Когда та оба раза ответила "нет", она закончила сеансы на двадцать и тридцать минут раньше положенного времени.
Рассказывая мне об этом, практикантка говорила о том, что чувствует себя "ужасно", что ей "стыдно"; покраснев, она говорила, что не может и подумать о том, чтобы задавать еще вопросы, что не в силах стоять или сидеть "в ледяном молчании". Я спросила ее о том, какие мысли появлялись у нее во время этих двух сеансов, и она ответила: "Мысли мчались, стараясь найти вопросы, которые нужно задавать". Я спросила ее, что она осознавала во время сеансов в форме мыслей. Когда она рассказала мне, о чем думала, стало ясно, что ей не удавалось совместить свою реальную пациентку с идеальным образом "пациента". Она выносила суждения, иногда сердилась на себя за "некомпетентность", а пациентку называла "не поддающейся лечению". Она подумывала о том, чтобы отказаться от этой пациентки, но затем решила, что ей для практики, возможно, попадется другая неразговорчивая пациентку, похожая на нынешнюю, так что лучше "выдержать до конца". Она полагала, что фактически для нее нет смысла находиться в комнате, поскольку она не обладает "техникой"; и эту технику, заявила она с живостью, ей "необходимо получить" от меня.
После того как психотерапевт описала мне таким образом свои мысли, я спросила ее, что она почувствовала бы, если бы просто поговорила с пациенткой. Она явно рассердилась, но сдержалась и заявила, что не считает терапию "разговорами", что на "это" она неспособна. "На что?" спросила я. "На разговоры с ней". Тогда я спросила, в чем же будет заключаться различие между разговором и сеансом психотерапии. Она рассердилась еще больше и сказала: "Знаете, если бы эта девушка была моей знакомой, я без труда могла бы с ней поговорить... Я могу просто поговорить с кем-нибудь. Но ведь это же пациентка!" Тогда я спросила о разнице между пациентом и просто человеком. Мы углубились в обсуждение вопроса, как из состояния тревоги, порожденного, главным образом, ее представлением о том, что должен делать психотерапевт, она оказалась в плену научных дуалистических понятий о том, как психотерапевт и пациент разговаривают друг с другом, - вместо того чтобы раскрыться и выяснить, как в действительности можно по-настоящему беседовать с этим отдельным, единственным в своем роде пациентом, которого она видит перед собой. Вопрос заключался не в том, чтобы иметь предварительное мнение, а в том, чтобы оказаться в особом внутреннем состоянии ума, найти путь, иметь желание выяснить, как вести себя с этим пациентом, чтобы последний начал говорить.
На это она возразила, что не чувствует пациента таким же существом, каким она чувствовала бы "любого собрата-человека". Она могла чувствовать только то, что "каждый пациент до сих пор оказывался проверкой моей профессии психотерапевта". Тогда я сказала, что она превратила пациента в объект "обработки". Она возразила, что, как ей кажется, все дело заключается вот в чем: "если это просто человек, можно чувствовать себя свободно; но если это пациент, нужно что-то делать, чтобы изменить положение. Иначе что вы здесь делаете?" Я не комментировала употребление ею слова "это", но услышала в нем, каким далеким от себя ощущала она пациента, как если бы пациент вообще не был таким человеком, как она, не разделял с ней общечеловеческие условия страдания, повседневных конфликтов, не имел, подобно ей, отца и матери, не испытывал страха, не стоял перед неизбежностью смерти. Она даже отдаленно не могла представить себе, что она и пациент в жизненной борьбе разделяют одну и ту же участь.
Я попросила ее рассказать мне о ее действительных переживаниях с того момента, как пациентка вошла в комнату, создать наглядный образ этого события. Она закрыла глаза, описала стесненность в груди, небольшую тяжесть в голове, вспомнила, как широко раскрывала глаза, чтобы не задремать, вспомнила проблеск страха, когда подумала о том, что ей придется пробыть с этой пациенткой пятьдесят минут, нарастающее чувство вялости, по мере того как шло время, пустоту ума, желание уйти из комнаты, затем поток таких мыслей, как "возможно, я не способна справиться с этой работой", "не знаю, что делать". Она сказала, что ей хотелось бы, чтобы ей "повезло", что, когда ей удается сеанс, она чувствует себя "полной энергии, почти вдохновленной".
Я спросила ее, не чувствует ли она, как ищет удовольствия в общении с пациентами. "Конечно, - ответила она немедленно. - Что же тогда происходит, если вы его не получаете?" Она сказала, что никогда не думала об этом, но если бы она не чувствовала некоторого удовольствия, то решила бы, что в ее работе не все в порядке; а этого ей не хотелось бы. Тогда я спросила ее, не чувствует ли она своей зависимости от удовольствия в работе, которого, возможно, пациенты не в состоянии ей дать. Она сказала, что работа предполагается приятной или приносящей удовлетворение. Тогда я задала вопрос: "Интересует ли вас действительный характер работы? Хотите ли вы увидеть, что это такое на самом деле? Вы хотите, чтобы пациент дал вам удовольствие, помог вам почувствовать себя уверенно; но так не может быть всегда". Практикантка была потрясена и говорила о том, что пациентка "манипулирует ею", что она чувствует, что пациентка могла бы говорить, если бы захотела. Она продолжала говорить о том, что если у человека нет причины приходить, зачем тратить на него время? "Пусть такой работой занимается кто-нибудь другой, - сказала она гневно, - я не желаю напрасно терять время".
Я предложила, чтобы мы на время отбросили представления о том, каким предполагается ход терапии, и понаблюдали внимательно за тем, как фактически проходит эта терапия сейчас, когда в процессе принимают участие двое людей. Я предложила, чтобы мы считали эту терапию новым начинанием, никогда ранее не описанным, чтобы мы принимали участие во всем, что окажется новым событием для обеих сторон. Поскольку до сих пор ее книжное знание и теория не принесли пользы, я предложила на время оставить их и сосредоточить внимание на наблюдении за тем, что действительно имеет место во время сеанса. Я сказала практикантке: "Сосредоточьте все свое внимание на том, чтобы увидеть как можно более ясно, как ведет себя эта пациентка и что вы думаете или чувствуете, находясь с нею. Не старайтесь обнаруживать смысл, устанавливать закономерности или понимать. Наблюдайте то, что происходит, наблюдайте свои реакции на происходящее".
На следующем собеседовании практикантка была менее напряженной; она заговорила о том, каким неожиданно тяжелым оказалось для нее наблюдение, хотя оно всегда представлялось нетрудным. Она осознала, что много времени у нее занимает желание привести в соответствие то, что она читала о шизоидных личностях, с тем, что она видит перед собой; и это мешает ей увидеть пациентку такой, какова она есть. Она сказала, что во время этого особого сеанса почувствовала облегчение. "Я поняла, что могу видеть все доступное зрению, что мои собственные глаза видят". Она засмеялась, а я сказала: "Вы можете вести сеанс, пользуясь собственными глазами".
Это событие по ассоциации вызвало в ее памяти один случай: я не сделала критического замечания, когда она заявила, что может оставаться с пациенткой лишь в течение тридцати минут; и это повторилось на двух сеансах. Она вспомнила мои слова: "Вы можете в это время быть только тем, что вы такое". При этой мысли она почувствовала облегчение. Я сказала: "Предоставляю вам свободу, как вы предоставляете ее себе на последних сеансах". Она ответила: "А я никогда не думала о том, чтобы предоставить полную свободу пациенту".
После следующего сеанса она сказала, что поняла, как боится взглянуть на пациентку; но также добавила, что сумела заметить, как иногда пациентка бросает на нее взгляд, как бы говоря: "Уйдешь ли ты?" Я спросила, что она обо все этом думает, и она ответила, что пациентка, видимо, почувствовала, что сеанс кончается раньше; может быть, пациентке даже хотелось быть уверенной, что она может остаться с врачом подольше, но она боялась, что это невозможно. Я сказала, что из своих наблюдений она на этот раз получила очень многое.
И снова я попросила практикантку провести следующий сеанс в наблюдении за тем, что происходит; а затем мы должны будем вместе обсудить сеанс. Наличие фокуса внимания во время сеанса снижало ее стремление что-то сделать, что-то понять, но также давало ей возможность начать немного чувствовать пациента в процессе сеанса - впервые за все время.
Явившись на следующее собеседование, она сообщила: теперь она увидела - и увидела, как пациентка "передала ей страх". Она говорила об этом "чувстве страха": "Оно заразительно. Оно приходит не только от меня". Впервые за восемь сеансов было употреблено слово "чувство" по отношению к пребыванию с пациенткой. Я высоко оценила этот факт, считая проявление страха изменением в ее способности присутствовать на сеансе в качестве участницы; и я сказала ей об этом. Должно быть, мое лицо отразило одобрение, потому что она тепло улыбнулась.
Затем мы поговорили о той "власти", которой обладала над ней пациентка, какой она ее ощущала. Мы нашли, что эта пациентка могла, по ее мнению, укрепить или разрушить ее веру в себя, в свою способность оказать помощь, в себя как полезного человека, отдельную личность. Она говорила о том, что именно сейчас ей кажется, что центральным фактом ее внутреннего отношения к пациентке оказывается чувство "боюсь". Я попросила ее наблюдать за тем, что произойдет с ее страхом, если она не станет избегать его. Она медленно ответила: "Не думаю, чтобы я когда-либо смогла посмотреть на то, как я напугана. Я боюсь просто быть в комнате с другим человеком, не зная, что произойдет. Почему так происходит? Даже в собственном 'анализе я не могу прямо смотреть на то, как я боюсь людей. И моя пациентка тоже боится". Это было первым случаем, когда она обратила внимание на то, что пациентка имеет с ней сходство, что обе они - люди.
Итак, разрыв между пациентом и терапевтом, между терапевтом и другим человеком, начал сокращаться. Этот разрыв создал такое внутреннее давление, что терапевт не испытывала никакой эмпатии, а желание найти выход из положения свелось к психодинамическим формулировкам или условным представлениям о том, как действует терапия. На следующей встрече практикантка сообщила: "Я вижу, что она хочет заговорить, а затем как будто отключается. Ее глаза выражают страх, и она уходит в себя". Впервые, благодаря слушанью и внимательному наблюдению, психотерапевт начала видеть какое-то движение во время сеанса. Она видела переходы в состоянии пациентки - от открытости к беседе, затем к тревоге и к своеобразному прекращению общения, к особому отходу, к выключению из взаимоотношений. Я спросила, как она увидела, что пациентке хочется говорить; она сказала об особом выражении глаз пациентки, по которому было видно, что та "хотела что-то сказать, но испугалась". Я спросила: "Что это за выражение?" Практикантка ответила, что ей пришло на ум слово "разум". Затем она добавила, что впервые почувствовала в пациентке разумного человека. Она также увидела, какой "омерзительно грязной" выглядит пациентка в своей одежде: она описала, как блуза не доходит до брюк, а тело "свисает наружу"; и это ее потрясло; неприятно было также видеть, что волосы пациентки выкрашены таким образом, что "выглядят крашеными". Я спросила ее, как в свете этих фактов она чувствует, кем является ее пациентка. Практикантка ответила, что почувствовала гнев, а затем пустилась в интеллектуальные рассуждения о том, как важно в этом обществе иметь "приличный" вид.
Я сказала, что все, только что увиденное нами в методическом разборе, оказывается параллельным курсу лечения, теперь психотерапевт реагирует во время сеанса так же, как реагирует и пациентка. Пациентка вошла, открытая для того, чтобы в это мгновенье быть вместе с психотерапевтом; психотерапевт также открылась для участия. Затем пациентка ощутила тревогу и отключилась, прервав совместное пребывание; точно так же поступает сейчас и практикантка в общении со мной, пускаясь в интеллектуальные рассуждения. Мы видели, как в этом процессе обе участницы терапии взаимно погасили свое стремление к открытости. Затем я спросила практикантку, как произошло это превращение разумного человека, находящегося в комнате с другим разумным человеком; как оно могло произойти на той замороженной почве, с которой мы начали методическое руководство, когда пациентка и терапевт не были в состоянии находиться вместе в течение всего времени сеанса. Мне было ясно, что практикантка не уловила всей глубины этого превращения, когда два незнакомых человека, застывшие от страха на расстоянии друг от друга, начинают испытывать желание поговорить. Я говорила об этом превращении, о его глубине, отметив, что первая фаза работы заключалась именно в том, чтобы просто быть с пациенткой, не вызывая чувства неудобства.
Во время этого методического часа общий фокус занятий подошел к терапевтическим взаимоотношениям. Хотя мы охотно употребляем это слово, лишь немногие психотерапевты до конца понимают, насколько многозначными бывают эти взаимоотношения в жизни их пациентов. Они говорят о них, однако не видят, что совместное пребывание является центральным по важности фактом лечения, как и те мгновенья, когда пациент и психотерапевт вместе заняты переживанием мгновенья - превыше слов., времени, ролей. Именно тогда рождается доверие; возникает особое ощущение, когда человек остается самим собой, предоставляя такую же возможность другому; пациент узнает, что может находиться вместе с другой личностью и пользоваться ее уважением, будучи самим собой. Эти мгновенья дают нам надежду - надежду на то, что мы сумеем найти в жизни новые возможности. Практикантке было указано на их появление, когда они возникли во время описанных сеансов.
Первый фокус методического обучения состоит в том, чтобы практиканты слушали и наблюдали то, что есть. Второй фокус заключается в том, чтобы сделать практикантов способными жить с тем, что есть, дать возможность быть тому, что есть. Мы исследуем то, что мешает им позволить пациентам быть самими собою.
Эта пациентка - просто "недотепа"; а практикантке хочется назвать ее "дурой", потому что это название удерживает других на расстоянии. Таким образом, у психотерапевта имеется внутреннее желание, чтобы ее пациентка была иной, не такой, какова она есть; практикантка начинает непроизвольно оказывать давление в этом направлении. Ей хочется устранить это качество "недотепы" и оставить пациентку; но сама личность этой пациентки и есть качество недотепы. Когда психотерапевту нравится или не нравится какое-то качество пациента, возникает и давление на него, вынуждающее его быть другим. Это давление создает напряжение, и пациент реагирует на давление, вместо того чтобы почувствовать свободу существования во взаимоотношениях с терапевтом, каковы они есть, а затем в этой свободе открыть свой собственный способ существования, а не подчиняться навязанному. Практикантка должна сперва увидеть напряжение, вызванное ее давлением на пациентку, увидеть, как она способствует ему своими чувствами приятного и неприятного, своими собственными ценностями. Эта вторая сфера методической работы для практикантки заключалась в том, чтобы открыть, в какие моменты она действительно находится с пациенткой, какова та есть.
Внимание к приятию или неприятию пациентки, какова она есть, привело нас к рассмотрению того давления, которому эта отдельная пациентка подверглась в жизни еще до того, как психотерапевт навязала ей свои ценности. Практикантка дала мне некоторые данные из истории развития болезни пациентки. В возрасте шести лет она была отправлена в детское учреждение и разлучена со своими родными и единственным братом (он был старше ее). Мать все время болела; однако пациентке не говорили о том, что мать умирает от рака; и только после ее смерти отец рассказал, что все это время мать была больна. Пациентка умоляла, чтобы ей разрешили жить с отцом; в интернате она заболела, ее поместили в изолятор; в это время наконец приехал отец и забрал ее оттуда. В данном пункте истории болезни - к тому времени прошло пять месяцев практики - практикантка остановилась. Ее лицо покраснело, она произнесла: "О Боже!" - затем: "Не могу поверить... я совершенно подавила всякие воспоминания... " Наступило молчание. Затем она продолжала: "Когда мне было одиннадцать лет, отец и мать разошлись... мать попрощалась со мной и с сестрой. Она уехала в Европу. Я боялась, что она не вернется; а нас с сестрой послали в монастырскую школу, и мы прожили там почти год. Это было ужасно. Отец приезжал лишь изредка. Когда он появлялся, я просила его взять меня домой, а он отвечал, что не в состоянии заботиться обо всех нас. Потом я заболела... меня тоже положили в изолятор; у меня была лихорадка; вскоре после этого вернулась мать, и я стала жить с ней... Не могу поверить... я заблокировала все эти воспоминания, когда слушала Джули... (Долгая пауза.) Я всегда думала, что быть психотерапевтом слишком болезненно. Эта работа в самом деле измучила меня". Наступило молчание; она заплакала.
Я спросила практикантку, что она услышала из собственной внутренней речи. Ее ответ имеет значение для всех психотерапевтов. Она сказала: "Вначале я боялась, и знала об этом. Но я не знала или не разрешила себе знать, насколько я чувствую то же самое, что и пациентка, потому что это означало бы, что я не в состоянии оказать ей помощь. Поэтому я ощущала образ мыслей пациентки чем-то таким, откуда нужно выбраться, частью оборудования, необходимого для установки, а мне нужно найти требуемые части. Не можете представить себе, как далеко я находилась от пациентки; в действительности я совсем ее не чувствовала. Я слышала ее слова, я была озабочена, старалась придумать, что мне делать дальше, чтобы помочь ей. Трудно признаться себе, что я все еще чувствую так мало. Вы сказали, что чувствовать страх - хорошо. Так странно видеть во всем этом человечность, видеть человечность моей руководительницы, говорить: вы боитесь чувствовать это - как все это трудно! Мне до сих пор тяжело ощущать, насколько мы все человечны. Господи, это такая важная вещь!" Говорить об этом не было необходимости; мы смогли наконец быть. Мы просто пребывали вместе в человеческом состоянии, и теперь эта практикантка сумеет войти в это состояние во время своей работы с пациентами в последующие годы.
Практикантка чувствует, как она создает терапию вместе с пациенткой, исходя из уникальной природы их взаимодействия. Она научилась распознавать те мгновенья, когда она и пациентка оказываются открыты, когда существует тревога; она распознает те формы, которые ее тревога принимает у них обеих. Она видит, какова ее действительная жизнь в присутствии пациентки, какое влияние на нее оказывает стереотип взаимоотношений, свойственный пациентке. Она способна обсуждать эти стереотипы, когда они проявляются во время терапии между ними при правильной координации поведения или когда они возникают в жизни пациентки. Она способна различить некоторые факты относительно терпимости к тревоге. Она знает, как освободить пациентку от своих требований, как предоставить ей эмоциональное пространство, чтобы и пациентка выяснила, какова она на самом деле. Образы прошлого были ослаблены, так что происходящее в данный момент наблюдается с большей ясностью. Практикантка стала более занята взаимоотношениями с пациенткой, освободившись от множества подавлявших ее эмоциональную доступность мыслей о том, что ей надо делать, о том, что она делает не то, что нужно. Вместе с пациенткой и с методистом она пережила несколько таких мгновений, когда люди бывают просто человечными, не думая о себе. Она испытала эмпатию, и это является пробным камнем для дальнейшей работы. Во взаимоотношениях с методистом она приобрела способность отбрасывать представление о том, какой должна быть терапия, и жить в неизвестном. Теперь ее интересует, кто такая ее пациентка, как она ведет себя с ней и с другими людьми; ее интересуют мысли пациентки, ее чувства, образы, ощущения, потребности. Психотерапевт узнала тот факт, что иногда она ничего не знает. Она узнала, насколько ей интересно что-то найти; узнала, что 'работа психотерапевта - это ежесекундное осознание того, что фактически имеет место; это отсутствие предварительного знания.
Часто пациенты сами не знают ясно, чего они хотят, что думают или чувствуют. Они не понимают, что могут создать собственную судьбу внутренними усилиями. Они зависят от других в самоуважении и направленности. Они способны выносить лишь минимальную тревогу, обладают небольшим терпеньем; они слабо ощущают связь между созданной ими причиной и своими последующими трудностями. Они разрывают взаимоотношения, когда к ним относятся не так, как они ожидали, когда не появляются ожидаемые результаты. Все это делает трудным совместное пребывание с ними; практикант постоянно ощущает направленную к нему просьбу: "Помогите мне, сделайте что-нибудь, чтобы улучшить мою жизнь. Если вы не сделаете этого, вы некомпетентны или неспособны; я возненавижу вас, уйду от вас, не буду вас уважать". У большинства практикантов пребывание с такой личностью вызывает сильнейшую тревогу.
В подобные мгновенья сеанса мысли начинают нестись с необычайной быстротой. Часто они оказываются тревожными: "Что мне делать? Почему я не знаю, что делать? Что это со мной? Я растерян. Не знаю, что здесь происходит. Пациент поймет это. Что случится, когда он узнает, что у меня нет для него ответов? Что это значит? Что пациент пытается мне сказать? Если бы я мог понять, что-то могло бы произойти. Что мне сказать, чтобы как-то прекратить эту путаницу?.. Схожу с ума!.. хуже, чем безумие... я в ярости. В чем дело, почему у меня ничего не получается? Как я могу называть себя психотерапевтом? Пациент более здоров, чем я; он доводит меня до безумия, до дрожи. Как смогу я не показать этого?
Он уйдет от меня. А мне нужны деньги. Смогу ли я когда-нибудь заниматься этой работой? Пациент прав: мы ни к чему не пришли. Почему я не могу почувствовать ничего по отношению к этому пациенту? Я слышу слова, но ничего не чувствую... "
Когда психотерапевт размышляет таким образом во время сеанса, ему хочется избежать внутреннего потрясения, хочется оказать помощь; но он не знает, что ему делать. А фактически из-за всех этих мыслей психотерапевт не в состоянии прислушаться к пациенту. Бесконечный шум мыслей делает психотерапевта эмоционально недоступным для того, чтобы слушать пациента. Но психотерапевт может осознать, насколько он вовлечен в процесс мышления на сеансе и что при этом думает. Обычно он обнаруживает, что его сосредоточенность на мыслях совершенно не помогает пациенту.
В этом процессе я стараюсь указать практикантам, что мысли будут продолжать возникать; однако, как мы видим, они не приносят нам помощи, и мы не будем принимать их чересчур всерьез. Они будут возникать, но мы постараемся увидеть, что они мешают работе. Мысли по-прежнему катятся, но мы не привязываемся к ним, так как увидели, что они окутывают нас плотной завесой. Практиканты приходят к пониманию того факта, что их величайшими врагами в процессе лечения иногда оказываются именно их собственные мысли.
Ключевое преображение совершается внутри практиканта, когда он открыт для наблюдения пациента таким, каков тот есть, когда он дает пациенту возможность просто быть, отбрасывая суждения о себе и о пациенте, которых придерживался раньше, освобождается от идей о том, как должна протекать терапия. Практикант начинает осознавать, как созданная всей его жизнью обусловленность, побуждающая его чего-то достигать, становиться лучше, получить больше, делать приятное, быть любимым, устраивать вещи удобно, избегать насилия, добиваться, чтобы о нем думали особым образом, избегать гнева, страха, безнадежности, - все это препятствует подлинному, свободному от помех проявлению того, что есть в пациенте и в нем самом, во время лечения. Когда имеет место проявление того, что есть, практикант способен чувствовать себя более спокойно в присутствии пациента; он сделает свое присутствие целительным окружением, в котором бытие есть действие.
Глава 16
Ричард Хеклер
ВОЙТИ В МЕСТО КОНФЛИКТА
Ричард Хеклер - один из основателей школы ломи, директор Тамалапас айкидо дозде; вел большую преподавательскую работу в области психотерапии, читал лекции, вел консультации телесного ориентирования. В настоящее время работает над книгой по этому предмету.
М хочу здесь рассмотреть свою тему на основе материала наших взаимоотношений с молодым человеком, с которым мне пришлось работать. Как-то меня попросили вести консультации по айкидо в доме заключения для подростков. Я работал там около трех месяцев со многими мальчиками. И вот как-то один из них в первый же день ворвался в мою комнату из-за большой металлической двери. Ростом около шести футов и трех дюймов, он знал, что мы будем заниматься воинским искусством, а потому попытался нанести мне удар, и мне пришлось уклониться.
Он сказал: "Я так зол, что мог бы кого-нибудь убить". Взглянув на него, я поверил его словам. Он и раньше попадал в отделения для нарушителей порядка и в тюрьму для подростков. И я сказал ему следующее: "Ладно, покажу тебе, как это делается, покажу, как убить человека". На мгновенье это остановило его, глаза раскрылись, и я понял, что он слышал множество разных ответов на эту свою фразу. Всякий раз, когда его агрессивность выступала наружу, ему говорили: "Держи руки в карманах" или "Подставь другую щеку", или "Выпей содовой воды". История его жизни содержала разбитую семью, изоляцию, положение отверженного. Поэтому когда я сказал: "Я научу тебя, как убить кого-то", - он бросил на меня недоверчивый взгляд. Я продолжал: "Мне от тебя нужно только одно: постарайся приходить на каждое занятие; а мы будем заниматься три раза в неделю". На это он согласился. В этот момент мы установили контакт, и я понял, что, по всей вероятности, он действительно будет приходить на каждое занятие.
На первом занятии я показывал ему некоторые приемы давления или удары; мне стало ясно, что он настолько охвачен желанием и возбужден, что не обладает никаким чувством центра, никаким чувством опоры; он просто шарил руками по сторонам. Поэтому я сказал: "Минутку! Так ты не сможешь никого убить. Сначала нам надо выработать кое-что другое". Эти другие способности, которые мы начали развивать в течение некоторого времени, были особыми телесными принципами центрированности, чувством опоры, чувством протяженности, уменьем организовать возбуждение и смешивать его с поступающей энергией. Здесь я могу описать все это лишь вкратце; но для того, чтобы обучить его этим принципам по-настоящему, потребовалось около трех месяцев. Всякий раз, когда я показывал ему точку давления или удара, он начинал шарить руками, и мы снова возвращались к принципам опоры, центра и т.п.
Во время этого процесса начала происходить перемена. Я смогу описать эту перемену наилучшим образом, если скажу, что его внимание стало возвращаться к самому себе, вместо того чтобы заставлять его пялить глаза на того, кого ему хотелось убить. Его интерес начал перемещаться с чувства мщения на то, что происходит внутри него самого; и вот он стал ощущать себя по-новому. Однажды, к концу нашей работы, когда мы кружились около мата и бросали на него друг друга, возникло подлинное чувство совместной игры. Не знаю, понравилось ли ему это слово, но он повернулся ко мне и сказал: "Знаете, убить кого-то легко; но интереснее узнавать самого себя. Это не так легко, но более интересно". В нем произошла некоторая фундаментальная перемена; в какой-то мере она была связана с тем, что у него стал проявляться новый интерес к своим психо-телесным процессам.
Пройденный нами в течение трех месяцев процесс иллюстрирует множество принципов, имеющих значение во время работы с людьми. Я усвоил эти принципы не только благодаря своей подготовке в айкидо, но также и благодаря практике буддийской медитации; оба вида практики оказали влияние на мое отношение к самому себе, к своим клиентам, к семье, к работе. Практика медитации показала мне, как важно видеть людей и работать с ними там, где они находятся, не трансформируя ситуацию техническими приемами, которым я мог научиться во время своей практики.
В случае же с этим юношей, когда я впервые увидел его, я понял, что он в некотором смысле и есть убийца; вглядываясь в него, я узнал убийцу и в самом себе. И вот, вместо того чтобы говорить ему: "Ты не должен убивать, не должен делать этого", - я обнаружил, что его агрессивность была главной входной дверью, через которую я мог общаться с ним. Все полученные им в жизни уроки гласили: "Ничего не делай, но чувствуй свою агрессивность. Старайся быть хорошим юношей". Когда он вошел и толкнул меня, я увидел, что он по существу говорит мне: "Вы должны общаться со мной именно таким образом". С этого-то пункта мы и начали.
Один из фактов, которым меня научила сидячая медитация, состоял в том, что, когда я сижу, я сижу не для того, чтобы стать лучше; я сижу, ибо занят рассматриванием того, что есть, и самого себя; поэтому я могу начать видеть и чувствовать свой психо-телесный процесс. Тем из нас, кто занят лечебным и воспитательным процессами, легко поддаться непроизвольному желанию, чтобы другие вели себя по нашему образцу, чтобы они изменились определенным образом; может быть, нам даже захочется произвести на них впечатление своими знаниями. Но мой опыт говорит, что, если я нахожусь с людьми, первая дверь, которую они открывают - будь то боль, агрессивность или все что угодно, - в основе своей обладает своим особым разумом. Нам не надо стараться как-то обходить их невроз или превращать его в нечто другое. Сам по себе их невроз представляет собой фактический энергетический опыт, с которым, каков он есть, можно работать. В случае моего молодого человека можно увидеть его невроз в этом беспредметном, неконтролируемом проявлении агрессивности. Однако в нем заключено и огромное количество энергии, а это сделало его вполне доступным. Какой бы я ни считал эту энергию, хорошей или плохой, - это не имеет отношения к факту: именно так он ведет себя в нашем мире.
В японском воинском искусстве есть движение, называемое "ирими". Это название означает "войти в место конфликта". Если кто-то нападает на вас, вместо того чтобы пытаться удержать его, убежать от него или отступить и притвориться, что ничего не произошло, вы фактически входите в это нападение. И в последнюю минуту вы поворачиваете дело так, что, не подвергаясь удару, оказываетесь в месте возникновения атаки, стоите около нападающего человека. Обычно, если кто-то хватает меня, я испытываю желание оттолкнуть его, я защищаюсь. Это не "ирими", не вхождение в конфликт. "Ирими" означает прямой подход к конфликту - и не столько с мыслью "вот я встану перед этим", сколько с чувством открытости по отношению к конфликту, как бы желая увидеть, что там происходит. Мне не надо испытывать удовольствие от нападения, однако я все еще двигаюсь навстречу ему, потому что оно идет на меня. Возможно, решение проблемы находится внутри нее; возможно, оно заключается в том, чтобы принять энергию нападения и направить ее в другую сторону, в сторону нейтрализации агрессивности. Поступать именно таким образом я и учил юношу. Работая с людьми, я часто советую им войти в свой невроз с большей полнотой - и не в духе исследования "выясним, что это такое" или "откуда это появилось?", а скорее в форме иного подхода: "Каково действительное чувство невроза, его энергия, его возбуждение? Что мы при этом чувствуем? Какова его температура? Каковы его пульсация и ритм, как с ним работать?" Конечно, кто-нибудь может возразить: "Ведь если я войду в это состояние, я стану более агрессивным, и кто знает, что может произойти!" Что ж, это правильно, может произойти все что угодно. Но я прошу людей входить в их конфликты таким образом, чтобы это позволило им пережить собственное возбуждение и энергию. Когда я употребляю термин "возбуждение", я имею в виду то, что другие культуры называют "ки", "ци", "жизненный порыв", "прана" - это наша самая глубинная энергия жизненности, почва, откуда появляется вся наша жизнь. Из своей практики сидячей медитации я усвоил, что, когда возникает нечто, мне не надо уходить от него, понимать его или создавать ему препятствия. Я чувствую себя более здоровым, просто пребывая с этим фактом, глядя ему в лицо, видя, как энергия невроза приобретает особую структуру.
Я работаю с людьми соматически; греческое слово "сома" относится к живому телу в его целостности. Наша соматическая реальность есть переживание жизни внутри и во всем теле, заключающее в себе чувства, мысли, эмоции, действия, символы, образы и ощущения. Соматическая работа с людьми не обязательно означает такую телесную работу, когда я накладываю на них руки и произвожу манипулирование соединительными тканями, хотя и это также может иметь место. Я могу работать и с мыслями людей, с их чувствами и действиями как выражениями живого тела. Я не обращаю особого внимания на то, что знают мои клиенты или что еще могут узнать. В большинстве своем те люди, с которыми я работаю, уже знают вполне достаточно. А то, что я прошу людей делать, - это начать соприкасаться со своим живым телом, дать возможность возникнуть из этого соприкосновения особого рода мудрости, недоступной познанию. Я побуждаю их увидеть, что за информация приходит к ним, когда они выгибают спину, чувствуют напряжение в диафрагме или дрожь в ногах. Я прошу людей обращать внимание на эту информацию, находиться внутри нее, обосноваться в собственных энергетических стереотипах. Обычно, приходя ко мне, люди спрашивают: "Что мне делать с этим?" А я задаю им вопросы: "Как вы это делаете? Как вы создаете себе препятствия? Как вы преждевременно расходуете свою энергию? Как разбрасываете свои эмоции? Как получается, что у нас не налаживается контакт? И как мы устанавливаем контакт? Как возрастает ваше возбуждение? Что чувствуется, когда мы стоим здесь и встречаемся друг с другом, разделяем подобную интимность?" Так я продолжаю возвращать внимание к тому, как мы существуем. И я нахожу, что если я ежедневно сижу и прошу клиентов и учеников выполнять их собственную своеобразную дисциплину и практику, эти вопросы "как?" начинают возникать и у них самих - и становятся источником информации о том, как продолжать практику.
Когда мы сидим в дзадзэн, мы сидим просто для того, чтобы видеть то, что есть; в то же время мы открываем нечто большее - то, что Трунгпа называет "глубинным добром", которое находится глубоко внутри нас всех (см. главу 11). Работая с людьми, я перевожу это состояние на язык того, что, на первый взгляд, происходит с ними: я прислушиваюсь к звуку их тел, вижу, как их опыт сформировал их тела, прислушиваюсь к их дыханию, смотрю на их жестикуляцию, на то, как они протягивают руки, как берут что-то, как говорят "нет", как требуют, как наносят удар. Вот это я и хочу увидеть прежде всего - то, что есть; а отсюда я пытаюсь разглядеть то, что желает таким образом проявиться. Я знаю, что должны появиться новые структуры, формы и очертания; и они появляются. У некоторых людей прорывается невероятная ярость, которую они сдерживают в глубине; другие испытывают огромную радость, которую никогда не выражали. Иногда это глубокая печаль о ком-то, кто умер много лет назад, и она тоже никогда не была выражена. Таким образом, увидев то, что есть, и его энергию, я стараюсь мягко способствовать этой энергии в принятии ею всех тех форм, которые ей нужно выявить.
Благодаря практике дзадзэн я усвоил и еще кое-что: я узнал, как я препятствую проявлению этих новых направлений, когда настраиваю себя на определенный способ бытия. Я вступаю в битву с самим собой, и напряжение борьбы замыкает меня в очень плотном неподвижном образовании. Однако в процессе этой борьбы я могу внезапно пробудиться и обнаружить, что происходит лишь одно - я нахожусь в центре комнаты и ничего не делаю, а просто сижу. Это научило меня, работая с людьми, помогать им отмечать те способы, благодаря которым они создают некоторую неподвижную сущность из борьбы с самими собою, из противодействия самим себе, из стараний сделать себя чем-то другим в сравнении с тем, что они такое. Если они смогут просто позволить себе увидеть, кто они такие, они смогут дать возможность проявиться новым формам и структурам, а когда придет время, дать им также возможность умереть, а новым структурам проявиться.
Я думаю, что упомянутому агрессивному молодому человеку помогает начать движение от состояния твердого парня "мачо", способного перерезать горло, в сторону ощущения некоторой мягкости и интимности с самим собой своеобразный проблеск того, что Уэлвуд называет "открытым грунтом" (см. главу 14); то, что он переживал, было мгновеньями, во время которых он не обладал личностью. В эти мгновенья он внезапно переставал быть жестким убийцей; он не ощущал также и собственной жизненности. Он как бы пребывал между этими двумя состояниями. И когда он оказывался на этом месте, я просто поощрял его оставаться там - не в смысле пребывания на определенном месте, но в перспективе виденья того, что значит чувствовать себя соматически. Таким образом он почувствовал, что такое не быть связанным. Он не был связан личностью "жесткого парня", но не был еще и новой личностью, немного более мягкой и сострадательной; в этом месте не было никаких границ, никакого чувства формы.
В нормальных условиях границы определяют то, кем мы являемся и кем не являемся. Так, например, ребенок, с которым я работаю, заболевает, когда болеет его мать; у него отсутствуют границы, и это создает путаницу в различении между его опытом и опытом его матери. Его чувство личности растворено в ней нездоровым образом. В этом смысле границы определяются тем, с чем мы отождествляем себя. Когда мы сильно отождествляем себя с чем-нибудь, мы связаны этим объектом; он создает границы, внутри которых мы действуем. Когда же мы перестаем быть связанными, мы становимся чем-то неопределенным; наша прежняя личность делается бесполезной или неприкосновенной. Когда разрушаются наши старые границы, все оказывается неоконченным, по крайней мере на мгновенье. Если, к примеру, я внезапно потеряю работу, с которой сильно отождествил себя, я более не уверен в том, кто я такой. Когда я становлюсь ничем не связанным, это всегда пугает. Но медитация научила меня оставаться в этом подвешенном состоянии без опоры и держать глаза открытыми. Когда я сижу в дзадзэн и это повторяется снова и снова, я начинаю понимать: "Да, конечно, мне здесь страшно; ну и что? Разумеется, здесь налицо смерть и мой страх смерти; ну и что?" Таким образом, практика медитации обеспечивает нас своеобразным окружением, в котором способы существования оказываются одновременно связанными и несвязанными; а отсюда я могу двигаться дальше. Если я освобождаюсь от связанности и начинаю успокаиваться в этом состоянии, в данном переживании оказывается налицо действительное богатство и творчество. И если я могу оставаться в таком состоянии, я могу способствовать тому, чтобы и другие также почувствовали это место. Когда личность молодого "мачо" начала распадаться, разваливаться на куски, я не пытался говорить ему: "Теперь ты можешь быть добрым и мягким". Это не дало бы ему возможности почувствовать то место, где нет связанности: "Так кто же я сейчас такой?" Если мы способны оставаться с этим переживанием, оказывается, что оно имеет в себе особый разум, из которого придет следующая структура или форма.
Иногда я пользуюсь метафорой чайной чашки и кружки. У нас есть чашка, наполненная какой-то жидкостью, а на другом конце стола мы видим кружку большего объема. Здесь есть возможность расширения. Первое, что мы понимаем, это то, что нам нужно отставить чашку в сторону, чтобы достать кружку; а когда мы отставляем чашку и тянемся за кружкой, наступает момент, когда мы остаемся и без чашки, и без кружки. Исчезли старые, известные границы; мы движемся сквозь пространство, чтобы дотянуться до кружки, и сомневаемся: "Стоит ли тянуться? Верно ли я поступаю? Достану ли я кружку? Не окажется ли она переполненной? Чашка была не так уж плоха". У вас сильное желание вернуться к чашке, к известному, к знакомому. Кружка казалась хорошей, пока вы держали чашку, а когда вы не держите ни чашки, ни кружки, вы думаете: "Может быть, моя рука даже недостаточно длин- ' на, чтобы дотянуться до кружки..."
Многие из приходящих ко мне людей переживают такое жизненное перемещение, двигаясь от знакомой обстановки на некоторую неизвестную, новую территорию. Для них это может оказаться освобождением от чего-то старого или началом нового, или чувством задержки на некотором плато, где как будто ничего не происходит. Существует путь, чтобы вступить в это безграничное пространство; но немногие из нас обладают подготовкой, для того чтобы освободиться и просто пережить этот переход. Что-то внутри нас, кажется, хочет освободиться; но как нам сделать это?
Когда я сижу и наблюдаю за своим дыханием, существует особое пространство как раз перед началом нового вдоха. У меня может возникнуть переживание: в этом пункте новый вдох не наступает, и я как бы всасываю его, не дав ему возможности произойти самопроизвольно. Но если я сумею позволить себе сохранить чувство этого момента, когда, как раз в конце выдоха, не существует ничего, я начинаю учиться тому, как освобождаться. В течение краткого мгновенья я никто, я живу без туго связанной личности. Уменье позволить каждому мгновенью принять таким образом новую форму в огромной степени помогло мне в работе с людьми, приходящими ко мне с главными вопросами и переходами своей жизни.
Глава 17
Эдвард Подволл
ОТКРЫВАТЬ ИСТОРИЮ ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА
Эдвард Подволл - психоаналитик, бывший директор больницы в шт. Мэриленд. В настоящее время - руководитель программы созерцательной психологии в институте им. Наропы; работает над книгой о применении буддийской психологии для лечения психозов.
Существует два вида психологической истории, которую мы узнаем во время психотерапевтической работы с людьми. Один ее вид - это история болезни, история разочарования, упущенных случайностей, неосуществленных надежд и нереализованных возможностей во взаимоотношениях. Такая история невроза обладает особым принудительным качеством, способным свести терапевтические взаимоотношения к бесконечным мелочам, к выискиванию причин нарушения развития. Здесь подразумевается вопрос: "Когда дело пошло неправильно?" Это повествование нередко наполнено страхом, чувством вины, порицанием и агрессивностью; оно напоминает историю воюющих народов, где в бесконечных повторных циклах оскорблений и территориальной мести одна война неумолимо вызывает другую. Нити этого повествования связывают множество воспоминаний и объяснений того, почему одно событие следует за другим, как случилось, что мы вступили на тот путь, на котором находимся.
С другой стороны, в эту историю невроза прочно включена история другого рода - история душевного здоровья. Эта история эпизодична и нередко представляется мимолетной и едва заметной. Это история пробужденности, достоинства и терпенья; часто люди, впадая в отчаянье, забывают ее. Для того чтобы постичь историю душевного здоровья, нам необходимы любознательность и усилие взглянуть дальше непосредственной видимости. Когда психотерапевт устанавливает прямую связь с пробужденным состоянием и проявляет интерес к истории душевного здоровья, могут возникнуть взаимоотношения иного типа - взаимоотношения обоюдного понимания и доверия, основанные не на зависимости, не на надежде, даже не на памяти.
Возникает вопрос: "Как установить связь с историей душевного здоровья? Что нужно искать?" Есть некоторые знаки и события, служащие опознавательными отметками, и они характеризуют пробужденность и душевное здоровье в жизни человека; но едва ли удастся их узнать, если психотерапевт прежде всего не пережил их и не установил в самом себе. Вот почему личная дисциплина медитации внимательного сознавания может приобрести такую важность для развития самого психотерапевта. Только при помощи рассмотрения переживаний пробужденности в нашей собственной жизни мы можем узнать и понять их у других людей. Практика медитации представляет собой самый прямой путь изучения природы нашего собственного ума. Это процесс настройки, делающий нас более чувствительными к психологическим и межличностным переживаниям.
Благодаря подобной подготовке начинает развиваться естественная любознательность по отношению к душевному здоровью другого человека, и мы начинаем чувствовать тяготение к этому вопросу. Те события, которые мы сначала видим происходящими в нашем собственном переживании, а затем в переживании другого человека, представляют собой глубинный инстинкт, направленный к пробужденности. Впервые он ощущается в виде проблеска; а из этой вспышки может возникнуть огромная любознательность. Мы находим, что этот инстинкт так же силен и вездесущ, как и любой инстинкт из числа описанных Фрейдом и его учениками.
В то время как в большинстве своем другие побуждения оказываются состоящими из стремления к личной безопасности, к самовыражению или к удовольствию, инстинкт, направленный к пробужденности, представляет собой потребность проникнуть сквозь постоянный цикл самооправдания "я" и самовозвеличивающих грез. Наиболее тонкий аспект истории душевного здоровья заключен в том, как мы работаем с этим инстинктом. Его признаки проявляются в самой жестокой психопатологии, как и в умеренном неврозе. От выбора пациента зависит развитие или отсутствие развития этого инстинкта; а на долю терапевта выпадает поощрение и обогащение самого развития.
Мы всегда поражаемся, видя, как погруженные в глубокое отчаянье люди, замкнувшиеся в галлюцинаторном мире, оказываются способны внезапно освободиться от хватки иллюзии в моменты общего кризиса, например во время пожара в больнице. В менее драматическом свете мы видим множество людей, которые, несмотря на собственное смятение, во время кризиса действуют в состоянии пробужденности, может быть выказывая себя при этом "с наилучшей стороны". Что-то позволяет им незамедлительно отбросить свои пустые заботы и действовать правильно, пожалуй даже разумно.
Здесь может оказаться полезным краткий пример из клиники. Человек, находящийся в состоянии приближающегося маниакального возбуждения, проявляет в своих идеях, рассказах, анекдотах, воспоминаниях и планах качество лихорадочности. Давление его слов таково, что его трудно слушать, трудно следить за ходом его мысли. В какой-то момент мы теряем нить разговора. И вслед за этим часто в потоке мысленных процессов пациента возникает спонтанный разрыв. Его смущение проявляется в вопросе: "Где же я?" Затем происходит довольно мучительный возврат к пункту разрыва, и процесс эскалации начинается заново.
Это естественное ощущение приходит вследствие понимания, что мы слишком углубились в мир своих грез: имеет место внезапное пробуждение - и затем мучительные попытки решить, по какому пути идти дальше. Все это зачастую происходит настолько быстро, что мы замечаем происходящее только после самого факта. Приведенный выше пример взят из курса психотерапии, пройденного одним талантливым музыкантом. Его музыкальная дисциплина состояла в особых упражнениях; во время курса психотерапии он, казалось бы, полностью поглощенный чтением нот с листа, тем не менее был буквально захлестнут сложным потоком беспокойных и самоосуждающих, однако захватывающих мыслей. Музыкальная дисциплина, позволявшая ему прерывать грезы "я", грезы блуждающего ума, постепенно распространилась и на другие сферы жизни. Периоды спонтанного возвращения от "полета идей" во время сеансов психотерапии стали учащаться и увеличиваться по времени. Он понял, что всегда обладал скрытой способностью освобождаться от мыслительных стереотипов, даже будучи ребенком. Он начал приобретать уверенность в том, что не находится в зависимости от своих мыслительных процессов. Пациент стал способен использовать давление цепной реакции мыслей в качестве внезапного напоминания. Благодаря этому он смог лучше отличать грезы от реальности. Затем он научился концентрировать усилия для возвращения к первоначальному пункту, и наконец сделал следующий шаг начал непосредственную работу со своей двадцатилетней привычной склонностью, с тяготением к маниакальному состоянию ума. Это пример острого, разумного качества душевного здоровья, которое способно иногда проявляться даже среди психопатологии.
Некоторые признаки истории душевного здоровья можно узнать как в развитии, так и в нынешнем переживании всех неврозов и психозов.
Отвращение
Прежде всего существует признак отвращения: это фундаментальная отчужденность, чувство крайнего неудовлетворения своим образом жизни. Оно может длиться лишь краткий миг, но может продолжаться и целыми годами. Человек просто болен; его утомили непрекращающиеся мечты, надежды и страхи, замкнутый цикл привычных стереотипов мышления и действия. Пациент в той или иной форме как бы заявляет: "Я устал от этого, потому что вижу вещи насквозь". Для такого распознавания требуется одно лишь мгновенье ясности, свидетельствующее об активном разуме. Способность распознать то обстоятельство, что в нашей жизни что-то могло быть иным, означает, что мы на мгновенье увидели что-то по-иному. Где и когда это произошло? И как мы могли бы довести это переживание до конца? Может быть, оно появилось во взаимоотношениях с дедом, с учителем, с самими собой в какой-то особый год в школе? Оно может заключать в себе тонкие или подсознательные различия между тем, что здорово, и тем, что нездорово, и часто возникает на высоте самого невроза.
Не имеющее названия чувство вины может развиться потому, что мы оказываемся не в состоянии жить согласно более здоровым представлениям. Именно в такие мгновенья безумный Джон Персивэл глядел в зеркало и терзал себя словом "Лицемер!", которое позже звучало эхом в его галлюцинациях. Точно так же любой отпечаток события или момента пробуждения в истории душевного здоровья можно исказить и превратить в драму агрессивности. Таково наше основное извращение - мы отворачиваемся от разума. Но с помощью психотерапевта не будет необходимости заходить в ситуации так далеко.
Именно это чувство отвращения обычно приводит человека к психотерапевту. Очень рано в психотерапевтических взаимоотношениях, во время первоначального устремления к душевному здоровью, обострение распознавания того, что является здоровым, и того, что является нездоровым, может принять форму символических действий, таких, как отказ от курения, от хронической привычки грызть ногти или от навязчивой мастурбации. Эти поступки наиболее вероятны тогда, когда пациент признал, что подобные занятия бессмысленны, что они обладают качеством поглощенности или транса.
Превыше "я"
С момента возникновения отвращения возникает сильное желание выйти за пределы чувства "я". Это желание может полностью проявиться в одно мгновенье или в течение нескольких месяцев. Например, во время кризиса пациент часто утверждает: "Я больше не знаю, кто я такой; когда-то я знал это, а сейчас не знаю". Так может случиться после толчка пробуждения от маниакального состояния, от психотических заблуждений или ото сна. В моменты депрессии больной может утверждать: "Я более не знаю себя; я потерял себя".
Когда мы пытаемся определить, что же мы в действительности представляем собой, что такое это "я" или чем оно было, обычно в то же мгновенье возникает замешательство, за которым следует целый ряд конфабуляций. Затем предпринимаются незамысловатые попытки построить связное повествование, описывающее природу этого "я". Чувство неуверенности, помраченности и сомнения подсекает любую попытку материализовать устойчивое чувство личности. Но мы забываем, что эта задача бесплодна. Неудивительно поэтому, что синдром "кризиса личности" стал таким популярным понятием. Даже несмотря на то, что попытка соорудить какое-то "я" из серии привычных стереотипов может на мгновенье принести чувство безопасности, остается все же грызущее сомнение относительно реальности созданного. Возникает недовольство или одиночество - и не просто потому, что мы не можем спокойно жить в соответствии с некоторым идеальным образом, но также и потому, что налицо ясное понимание и осознание того факта, что в действительности мы представляем собой нечто большее. Мы чувствуем, что ограничения этого образа не только ложны, произвольны, но также подавляют наше здоровье, создают для него угрозу.
Одна из первейших причин происхождения психоза это желание преодолеть чувство "я", восстать свежим и преображенным, очистившись от отброшенной личности. Это приводит к невольным умственным манипуляциям, благодаря которым предыдущая личность может оказаться отвергнутой, а силой галлюцинации будет создано новое "я". Самоубийство, разумеется, будет наивысшей формой извращенного желания преодолеть "я".
В отличие от общепринятых психологических моделей "я", которые рассматривают личность как нечто понемногу сформировавшееся с детства через юность до жизни взрослого человека, история душевного здоровья раскрывает искания личности как постоянный процесс, имеющий форму кризиса; у взрослых в нем можно усмотреть исконную тревогу. В детстве такой кризис может выражаться в чувстве беззащитности или угрозы физическому выживанию. Этот постоянный кризис заключается не в неудачном стремлении достичь вполне субстанциональной устойчивой личности, а в признании того факта, что это состояние "я" неустойчиво, что оно являет собой заблуждение, что оно всегда отпадает. История невроза указывает на тревогу, смущение и ненадежность собственных вымыслов, тогда как история душевного здоровья подчеркивает ясность восприятия, скрытую за тревогой.
Стремление к дисциплине
Из отвращения к своей личности и желания перейти пределы ее обусловленности обычно развивается желание поступать более правильно: это чувство упрощения или очищения, стремление к простоте и к дисциплине. Оно может быть простым: мы начинаем составлять расписание своих ежедневных занятий или регулярно посещаем психотерапевта. Оно может возникнуть в момент приведения в порядок письменного стола перед началом работы.
С точки зрения истории душевного здоровья психотерапевту следует проявлять особый интерес к деталям переживания дисциплины, которые имели место в жизни пациента. Причины, почему история дисциплины должна быть такой точной, имеют двоякий характер: нужно выяснить в точности, что именно другой человек понимает под природой дисциплины, каковы его (или ее) взаимоотношения с ней. Во-вторых, существует вероятность того, что внутри этой дисциплины произошло некоторое прозрение в ходе работы ума и тела. Практика какой-нибудь дисциплины, возможно, обострила нашу способность воспринимать более мелкие моменты психологического времени. Может случиться, что как раз это качество точности поможет нам восстановить здоровье.
Какой-нибудь эпизод дисциплины часто оказывается особенно выдающимся. Одна женщина, поглощенная отчаяньем и навязчивыми мыслями о самоубийстве, припомнила целый год своего пребывания в колледже; он был во всех отношениях бесплодным, исключая лишь то обстоятельство, что она ежедневно ходила плавать. Это воспоминание не было драматическим; ежедневная дисциплина стала фокусом ее жизни; она чувствовала, что должным образом "заботится о себе". Вследствие этого она училась более прилежно и ощущала наличие чувства некоторого развития. Всему этому пришел конец, когда она оказалась отвергнутой своим другом-мальчиком. Ее слова: "Если бы только я снова обладала такой энергией!" - явились как бы комментарием по поводу точности усилий, явившихся результатом ее простой дисциплины. Люди часто говорят, что в таких эпизодах личной дисциплины заключено чувство достоинства; и это не обязательно потому, что они были счастливы, а потому, что чувствовали, что делают нечто правильно и подходят к остальной своей жизни прямо и целенаправленно.
Любая попытка дисциплины, даже представляющаяся мирской, несет в себе стремление работать со своим состоянием ума при помощи прямой связи или синхронизирования физической и психической деятельности. Это может быть атлетика, дисциплина физического здоровья, какие-нибудь формы искусства, уменье готовить пищу, коллекционирование марок каждое из этих занятий способно стать в высшей степени дисциплиной распознавания, обостряющей внешние чувства и поддерживающей дальнейшую их живость и понимание чувственного мира. Такие переживания могут непосредственно переплетаться с психотерапевтическими взаимоотношениями. Дисциплина самих этих взаимоотношений может стать прототипом принципов нашей работы с состоянием своего ума и с жизненными ситуациями в целом. Когда упомянутый выше музыкант, страдавший манией, испытывал раздражение по поводу простейшей повседневной структуры, которая могла бы обуздать его энергию, он сказал: "Для меня это слишком много; на это я неспособен". Когда же его спросили, что он мог бы посоветовать своему молодому ученику, который многократно выражал такие же колебания, он ответил: "Я предложил бы ему начать все сначала и работать очень и очень медленно". Его собственный совет скоро стал полезным руководящим принципом психотерапии.
Сострадание
История стремления к сострадательному действию постоянно присутствует в жизни наших пациентов. Именно сострадание представляет собой ключ к психотерапевтической работе любого рода. Обычно сострадание возникает из развития глубинной теплоты по отношению к самому себе; но у большинства наших пациентов за целые годы накопилось много ненависти к себе. Тем не менее пациенты проявляют стремление к состраданию даже в моменты крайнего отчаянья, хотя бывают неспособны распознать это стремление. Пожилая женщина, с которой я работал несколько месяцев, сказала мне: "Я одержима собой; меня как будто никто больше не волнует". Я ответил, что это не может быть правдой, потому что недавно сам почувствовал, как она проявляет большую заботу обо мне.
В психотерапевтической литературе редко говорится о переживании сострадания и его отношении к выздоровлению. Одним поразительным исключением оказывается Хэролл Сиэрлз, который упоминает о "терапевтическом самозабвении, общем для всех людей". Говоря о процессе выздоровления, он замечает: "Чем серьезнее болен пациент, тем более для успеха его лечения требуется, чтобы он стал - и безоговорочно признал это - терапевтом своего официально назначенного терапевта".
Окружение ясности
Многие моменты любой психотерапевтической встречи отмечены чувством ясности и полного присутствия. Фактически такие мгновенья возникают постоянно в течение всей нашей жизни. Даже сны несут на себе отпечаток этой разумности. В момент пробуждения ото сна мы часто обнаруживаем, что все переживание сна оказывается целиком и полностью ясным, прозрачным, даже блестящим. В этот момент мы находимся превыше размышлений, мы еще не начинаем интерпретацию или анализ. Это обнаженное переживание ясности затем заволакивается тучами и забывается.
Эти едва различимые мгновенья ясности выступают наружу в контексте дисциплины, которая уравновешивает или синхронизирует тело и ум. Молодой альпинист горько жаловался на бессмысленность и несправедливость своей жизни. Его повседневная жизнь в юности была мрачной и путанной; но во время лазанья по скалам он чувствовал себя целиком и полностью пробужденным. Какие бы проблемы ни занимали его во внутреннем диалоге, в горах они оказывались несущественными, поскольку каждая выбоина в камне, каждое место для крюка становились выбором между жизнью и смертью.
Он рассказал, как работает со склонностью своего ума к рассеянности - заставляет себя вернуться к ощущению тела, сжимающего в объятиях скалу или находящегося под порывами хлещущего ветра. Если же это не удается, он напоминает себе о необходимости пробуждения словами: "Вернись к своим чувствам!" Ему сильно хотелось пережить не только энтузиазм достижения, но также чувство ясности и точности, которое может возникнуть из страха. Когда такие переживания были ясными, так что он мог правильно оценивать их в контексте психотерапии, он приобрел способность узнавать их естественное и спонтанное возникновение в менее драматических аспектах своей жизни.
Ясность терапевтического окружения решающим образом включается в практику психотерапии. Качества пробужденного ума, ясности и простоты создают чрезвычайно важное окружение, помогающее пациентам наблюдать за переходами в состоянии их ума. Именно такого рода атмосфера способствует пробуждению пациента к естественной истории душевного здоровья.
Храбрость
Наконец, важно поговорить и о храбрости в истории душевного здоровья. В своих автобиографических заметках Чарлз Дарвин спрашивает: "Почему психологи никогда не говорят о храбрости?"
Поскольку переживание храбрости в истории душевного здоровья тесно связано с переживанием страха, полезно внимательно взглянуть на психологическую структуру страха от мгновенья к мгновенью. Страх особенно доступен наблюдению в стадии выздоровления от психоза, когда больной чувствует себя столь уязвимым и беззащитным. Одна молодая женщина живо описывала цикл возникновения страха, который "превращал кровь в лед" и завершался потрясающим ознобом, непреодолимо вынуждавшим ее забираться обратно в постель. Эти припадки принимали особенно преувеличенный характер по утрам, в моменты пробуждения.
Сначала ее описания касались только интенсивного страха. Когда же ее внимание обратилось к самой природе страха, она начала замечать его предварительную фазу "подавляющего блеска". Затем появлялась мысль: "Не могу продолжать, не могу встать". Она чувствовала, что ее как бы тянет обратно, в "полумрак, тепло и уют". Постепенно в разнообразных жизненных ситуациях она стала улавливать колебания между блеском и страхом и поняла заключенную в них привычную регрессивную склонность, накопившуюся за многие годы психотических эпизодов. Психотерапия состояла в пробуждении храбрости для непосредственной работы со страхом; в то же время окружение было подобрано таким образом, чтобы ей приходилось общаться со многими храбрыми людьми.
Даже в таких случаях, когда разрушение здоровья представляется нам необратимым, мы обнаруживаем, что качество храбрости не только необходимо для выздоровления, но и являет собой саму природу здоровья. Опыт психотерапии предлагает широкие возможности для храбрости как у пациента, так и у психотерапевта. Храбрость пациента принимает множество форм - например, решение отказаться от употребления хронически принимавшихся психоактивных медикаментов. Храбрость терапевта также принимает разнообразные формы; но наиболее понятной из всех бывает способность находиться во взаимоотношениях вне памяти, повторения или переноса.
Когда терапевт практикует дисциплину храбрости, происходит нечто весьма интересное: храбрость становится качеством терапевтических взаимоотношений; по мере того как она распространяется в тотальное терапевтическое окружение, она начинает привлекать и мотивировать разум и здоровье у каждого человека, включившегося в процесс. Практика психотерапии вводит психотерапевта в целую последовательность событий - от отвращения до храбрости; то же самое происходит и с пациентом. Общепринятые системы психотерапии пытаются очень детально описывать историю невроза или патологии, но часто упускают из виду развитие таких элементов душевного здоровья, как пробужденность, любознательность, любопытство.
С точки зрения истории душевного здоровья терапевт может начать улавливать аспекты здоровья даже внутри тяжелейших симптомов болезни. Это означает, что психопатология не есть нечто, подлежащее устранению; с ней нужно работать, вникая в мельчайшие детали, потому что в ней мы видим прежде всего результат препятствий для разумных импульсов.
Когда психотерапевт начинает улавливать огромное богатство и плодородие психопатологии другого человека, он способен начать освобождаться от напряжения и работать с людьми в точности такими, каковы они есть, не испытывая ни малейшего желания изменять их. Из этого развивается живое чувство понимания и сострадания. Когда психотерапевт практикует какую-то специальную дисциплину, он может обнаружить, что его путь к большему осознанию не столь уж отличен от пути пациента к восстановлению физического и душевного здоровья.
Глава 18
Энн Кэсон, Викторио Томпсон
РАБОТА СО СТАРИКАМИ И УМИРАЮЩИМИ
Энн Кэсон и Виктория Томпсон - основательницы и исполнительные директора "Дана Хоум Кэйр", нововведения в области службы по уходу за пожилыми и умирающими людьми с филиалами в Чикаго и Боулдере, штат Колорадо.
"Дана Хоум Кэйр" предлагает альтернативный подход к уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами; этот подход основан на принципах, вытекающих из практики медитации. Существует целый мир различий между уходом за человеком в его доме и уходом в специальном заведении. Люди, вырванные из своего окружения, особенно пожилые люди, часто оказываются смущены и дезориентированы. Поскольку необходимость в услугах специального заведения в общем является результатом некоторого кризиса и демонстрирует неспособность данного лица к независимому функционированию, общая травма у таких людей оказывается огромной. Уход за ними, осуществляемый в их собственном доме, при правильном выполнении представляет собой гораздо более мягкий подход. Клиенты могут оставаться в знакомом окружении, и им оказывают помощь в домашних мелочах, с которыми они более не в состоянии справляться. Хотя повседневная рутина одевания, приготовления пищи и выполнения врачебных назначений очень важна сама по себе, эти процедуры, кроме того, предоставляют уникальную возможность работы с состоянием ума клиента. В течение последних двух лет в основу нашей работы со стариками и умирающими было положено множество понятий. Эти понятия возникли, по мере того как мы начали обсуждение вопроса о том, чем занимается наш штат.
Обычно, думая о старости и смерти, люди полагают, что этих переживаний они еще не имеют. Смерть - это что-то такое, что еще должно когда-то прийти, нечто таинственное и загадочное, но в то же время далекое и пугающее. Наш подход к этим явлениям состоит в том, что в действительности они нам весьма знакомы; фактически они представляют собой постоянно присутствующие у нас психологические переживания. Когда после выпивки вы просыпаетесь с неприятным ощущением разбитости, чувствуя во рту запах сигарет, когда ваш рот напоминает забитый сажей дымоход, это чувство измученности и есть старость; ваши ощущения не являются свежими, у вас нет никакой надежды, нет причины идти дальше. Такое переживание знакомо каждому из нас. Мы также постоянно переживаем смерть, когда оказываемся отделены от любимых нами людей или вещей.
В нашей стране уход за стариками и умирающими имеет уникальный характер: с этими людьми работает только медицинский персонал. Существует несколько агентств по социальной службе, есть некоторые люди с благими намерениями; но большинство населения относится к старым или умирающим людям не иначе, как к неразрешимой проблеме. Такое табу появилось потому, что люди испытывают неудобство именно из-за того, что знакомы с этими переживаниями. Старость и смерть не являются чуждыми нам фактами - они все время находятся прямо здесь, перед нами. В нашей работе мы подходим к делу с некоторым чувством знакомства с этими фактами, и такой подход оказывается первым раскрытием в подлинных взаимоотношениях. Все же задача - не из простых. В то время как мы полагаем, что нам знакомы переживания старости и смерти, у нас нет документальных подтверждений этому, нет доказательства, что переживаемые нами смерть и утраты и разделения представляют собой одно и то же явление. Мы совершаем прыжок на веру, принимаем на веру знакомый характер этих фактов, не располагая в то же время подлинным знанием, не обладая истинной уверенностью. Незнание фактически представляет собой огромный источник наслаждения, свежего воздуха. Если бы кто-то из нас обладал подлинным знанием, его работу можно было бы поручить компьютеру. Быть способным сделать жест, открыться по отношению к этим ситуациям, обращаться с ними как со знакомыми, в то же время не зная их по-настоящему, - это огромное великодушие и теплота. Такое отношение доходит до самого ординарного уровня. Когда мы видим старика, свернувшегося в постели, вцепившегося в одеяло и кажущегося трупом, мы можем почувствовать присутствие смерти - и отнестись к ней с дружелюбием.
Это заставляет нас признать факт собственной смертности. Наше собственное, нежно бьющееся сердце в какой-то момент остановится, прекратится движение крови в сосудах. Чувство смертности, общее для нас с клиентом, освобождает нас от мелких забот и навязчивых мыслей, которые есть у нас обоих. Знание этого факта позволяет нам прикасаться к жизни других людей с чувством некоторой общности с ними. То, что испытывают они, - это то, что испытываем и мы; поэтому нам можно работать с ними.
Другое возникающее здесь основное понятие возникает из точки зрения буддизма на ум. Очень просто описать ум, говоря, что мы и наш ум - одно и то же; между нами нет различия. Так, например, мы можем вместе с нашими клиентами видеть их салфеточки, картинки на стене, их безделушки, привычки, симпатии и антипатии и по всем этим вещам понять, что они и их мир - это одно и то же. Когда мы вступаем в их мир, мы вступаем в него со своим миром. Мы также создаем и особую атмосферу - тем, как мы чувствуем, тем, как одеты, тем, как держимся. Мы вносим эти вещи в их мир, и здесь проявляется качество растворения: мы не знаем, кому принадлежит этот мир; появляется также ощущение некоторого неудобства в отношениях между клиентами и нами. Вследствие этого качества неясности во взаимоотношениях нет ничего предсказуемого. Нам нет надобности сосредоточивать все свое внимание на клиентах, как если бы они были букашками под микроскопом; нам не надо рассматривать их в деталях, чтобы узнать, кто они такие. Если мы сумеем принять весь их мир как послание, позволить ему дать нам некоторое представление о том, как работать с ними, тогда и мы, и они сможем освободиться от напряженности во взаимоотношениях. Нам не нужно будет чересчур сосредоточиваться на них, а для них это создаст меньше затруднений.
Поэтому мы принимаем ситуацию как знакомую, принимаем смерть и старость как не чуждые для нас явления; мы видим в них часть своего опыта. Мы принимаем добро и смертность как нечто общее для нас всех. Такова основа нашей работы.
Старые люди могут сильно чувствовать свою изолированность; у них наблюдается ослабление умственных способностей или полная их утрата. Глаза и уши более не работают в полную силу, и это отрезает человека от остального мира. Снижена и способность к движению - не действуют должным образом руки и ноги. Становится труднее выходить в широкий мир; а когда-то это было так легко. Когда человеку уже за восемьдесят, он, весьма вероятно, потерял спутника жизни, а его друзья, видимо, тоже попали в приюты для престарелых.
Такая изолированность порождает гнев и депрессию. Ваши умственные способности утрачены, вы одиноки, вы знаете, что это такое - тесная дружба, искрящаяся, полная доброжелательства. Когда же вы стары и в течение долгого времени лишены друзей, это вызывает подавленность. Ваш мир становится короче и уже. Вы заперты в одном доме, часто даже в одной комнате этого дома, иногда даже находитесь только на одной кровати. Однако, по мере того как ваш мир уменьшается, происходит странная вещь: вы проявляете высокое осознание атмосферы и всех деталей внутри этой атмосферы.
Вместе со старостью приходит также и общее ощущение беспочвенности, когда вы освобождаетесь от своей жизни. Появляется страх смерти; вы не уверены в том, что сможете дожить даже до конца дня. Эти страх и неуверенность оказываются настолько сильными, что возникает реакция сжатия и уплотненности. Люди становятся чрезвычайно привязаны к своей мелочной рутине, к своим устойчивым представлениям о том, какими должны быть вещи. Это очень интересная ситуация: расширение и сжатие совершаются одновременно.
Когда мы впервые входим в дом другого человека, возникает вопрос о том, кто такие мы и кто такой он. У нас есть всевозможные представления; например, мы считаем, что старушки должны быть чистыми, что старики не должны много пить. Нам нужно немного освободиться от этих представлений, постараться сдержать свои суждения и обратить внимание на существующее окружение. Какова здешняя атмосфера? Мы рассматриваем драпировку стен, слышим рассказ о том, как эта расцветка была подобрана для стен сорок лет назад. Мы глядим на все эти мелкие безделушки, на пепельницу, купленную на всемирной ярмарке 1939 года, на семейные фотографии, на книги и рецепты. И мы узнаем кое-что об этом человеке, о том, что для него важно.
Входя в этот дом, мы стараемся не быть чересчур вооруженными; мы входим не как профессионалы. Мы не носим формы; у нас нет кипы записных книжек, бланков и прочих профессиональных принадлежностей. Не будучи чрезмерно вооружены, мы можем дать ситуации возможность затронуть нас. Мы обладаем подходом, который можно выразить словами "коснись и уходи!". Мы входим в комнату какой-нибудь Элизы, садимся; она начинает рассказывать нам о том, как ей плохо - болят суставы, никто не заботится о ней. Мы обнаруживаем, что погрузились в ее болезненное состояние; затем мы внезапно что-то вспоминаем - и освобождаемся от этого состояния. Можно отнестись к этому с чувством юмора; мы просто почувствовали ее переживание, а потом освободились от него. Возможно, мы почувствуем, что Элизе надо делать то-то и то-то. Можно освободиться и от этого чувства.
Процесс этот оказывается длительным: очень мягко войти, обращая внимание на окружение, быть затронутыми, затрагивающими и освобожденными. Так идет дело на всем протяжении взаимоотношений.
Узнавая какую-то пожилую женщину, такую, как наша Элиза, узнавая ее мир, мы до некоторой степени чувствуем, каким является ее личный путь, что она делала всю свою жизнь, какие вещи имеют для нее значение. Обычно мы вступаем в контакт с каким-либо человеком тогда, когда в его жизненном странствии что-то сломалось. Это может быть следствием перелома бедра или другого физического нездоровья, сопровождаемого тяжелой депрессией, развивающейся вместе со старостью. Мы узнаем эту женщину, мы становимся ее друзьями. Мы выясняем подробности ее пути, выясняем, какой надлом возник на этом пути, выясняем, какой была ее дисциплина, и работаем с ней, так, чтобы она смогла продолжить свое странствие. Дело может оказаться очень простым; выход иногда заключается в том, чтобы она возобновила игру в бридж с каким-то партнером и к ней возвратилась уверенность в себе. Затем она, возможно, окажется в состоянии ходить в гости и играть в бридж в компании друзей. Мы делаем саму ситуацию способной информировать нас о том, как нам следует действовать.
Подлинное товарищество позволяет проявиться некоторой свободе от напряженности. Такое товарищество наступает благодаря пониманию, интересу и любознательности по отношению к какому-то человеку, когда мы разделяем с ним его проблемы. Дружба - это в действительности весьма обычная вещь. Многие люди приходят к нам, потому что хотят работать с умирающими. У них имеются особые представления об этой работе. Им кажется, что нужно будет сидеть у кровати умирающего, держать его за руку, давать ему советы в последние мгновенья жизни. Наш опыт свидетельствует о том, что такой взгляд на вещи оказывается романтическим.
А на самом деле работа со старыми или умирающими людьми весьма утомительна. Вы сидите около такого человека; вам нужно давать ему глоток воды, растирать ноги. Ничего большего вы сделать не в состоянии, и это очень тягостно. Весьма важно, как вы относитесь к этой скуке. Если вы не в состоянии с ней справиться, вы мечетесь по сторонам и делаете всевозможные бесполезные вещи. Способность пребывать со скукой - это великий дар практикующего медитацию. Мы очень хорошо привыкли к скуке, поэтому она не повергает нас в такую панику, как это бывает у большинства профессионалов по уходу за больными.
Точно так же мы можем быть откровенны с людьми по поводу смерти. Когда они открываются перед нами, мы не отступаем, мы не говорим: "Ну, никогда нельзя знать заранее, возможно, вы будете жить долго!" Обычно такую роль как раз играет семья - постоянную роль прикрытия, которая становится игрой в стиле Кафки: перед нами умирающий человек, а в его присутствии каждый член семьи говорит о предстоящем летнем отдыхе. Напротив, мы способны войти в ситуацию и на вопрос пациента: "Я умираю?" - ответить: "Да". Мы можем находиться вместе с ним, можем вместе с ним испытывать печаль. Мы гораздо скорее найдем последнее слово у самого клиента, чем в какой-нибудь формуле. Мы даем людям возможность выразить свое собственное понимание смерти. Какой-нибудь человек может говорить о том, что он одинок, очень одинок. Существуют всевозможные представления о смерти. В процессе взаимоотношений для нас очень важно никогда не проецировать собственных идей о смерти на умирающего, в особенности в последние мгновенья его жизни. Если мы поступим таким образом, тогда подлинное общение не сможет возникнуть, потому что мы окажемся слишком заняты сохранением собственного мнения. Поэтому у нас должно существовать чувство мягкости и уважения к взглядам умирающего. Наш подход в том и заключается, что мы, говоря честно, не знаем, что происходит после смерти. В действительности не существует никакого способа узнать это. У нас могут быть свои собственные убеждения; но для других людей вопрос здесь стоит не об убеждениях: они входят в ту дверь, в которую мы еще не входили; им придется войти туда в одиночестве. По существу то, о чем мы говорим, - это чувство очень печального расставания: нам будет не хватать этого человека, когда он уйдет. Здесь просто забота о нем, о том, в каком положении он находится.
Многие из наших клиентов убеждены в том, что, поскольку они испытывают страдания, они, должно быть, сделали что-то плохое. Эта проблема возникает у человека, когда он стареет и готовится к смерти. Если бы Бог был добр, а вы были бы хорошим человеком, тогда вы должны были бы оставаться бессмертными. Каким-то образом выходит, что вы страдаете, вы прикованы к постели, вы теряете силы и должны умереть. Это должно означать или то, что Бог не существует, или что Он недобр, или что дурны вы сами. Появляется огромное чувство наказания, развивается особое отношение, которое тяжким бременем давит на клиента. Если это чувство хоть немного ослабеет, это и будет результатом нашей работы. Мы работаем, чтобы старые люди почувствовали непостоянство жизни. В их положении это может открыть путь к некоторому юмору, даже к удовольствию.
Мы сами также должны чувствовать это непостоянство, чувствовать желание освободиться от каких бы то ни было личных желаний по отношению к клиентам. Ниже мы приводим пример работы с некоей Беатрис. Это хорошая иллюстрация данного принципа. Мы выходили ее после перелома бедра, когда она находилась в состоянии психоза; мы наблюдали за тем, как она раскрывается, как работает с окружающим миром. И вот она начинает отходить от мира, потому что готова умереть. Мы надеялись на легко принятую смерть, на чувство счастливого путешествия; однако нам приходится освободиться также и от этой надежды. Скоро она умрет, и нам нужно будет расстаться с ней; больше мы не увидимся.
Нам необходимо отказаться от каких бы то ни было надежд относительно умирающего человека. У нас всегда есть склонность укреплять себя, почувствовать, что мы выполняем по-настоящему хорошую работу, что люди хорошо о нас думают, что мы сами - прекрасные люди. Фактически же, чем более тесным становится наше общение с людьми, тем больше жалоб мы слышим от них; и это вызывает у нас сильное раздражение, потому что мы считаем, что нас следует ценить за нашу хорошую работу. Чем больше мы вкладываем в нее сил, тем больше полагаем, что заслуживаем высокого уважения; однако с тем большей вероятностью мы обнаружим, что люди, за которыми мы ухаживаем, считают, что мы получаем от них какую-то выгоду, что требуем от них слишком много денег, не обращаем на них должного внимания. Это приносит нам огорчения; но в этом факте, кажется, тоже заключена часть интимного общения. Чем более мы сближаемся, тем сильнее проявляется их болезненное состояние, тем реже они "ведут себя наилучшим образом". Вам надо просто продолжать работу, относиться к ней терпеливо и внимательно.
Существует множество причин, чтобы вообще не заниматься подобной работой; однако мы почему-то заняты ею, и это замечательно. Награда приходит в виде тесной связи с чьей-то чужой жизнью; это похоже на то, как если бы слуга приобрел такое огромное значение в чьей-то жизни, что без него не могут обойтись. Мы должны принять беспочвенность ситуации. Мы просто находимся здесь, мы работаем; и в некотором смысле реальной необходимости для этого нет.
В то же время мы действительно обладаем своеобразным чувством ситуации. Мы чувствуем в смерти некоторое осуществление. Человек живет как можно более полно, и умирает он возможно более полно. Все дело в том, чтобы целиком включиться в переживание, сохраняя наивысшее возможное осознание. В работе с клиентами путь подхода к смерти оказывается таким же, как и путь подхода к жизни. Мы предлагаем некоторую атмосферу приятия и призываем клиента участвовать в ней вместе с нами. Если клиент поступает именно так, тогда мы интуитивно чувствуем, что делать; возникает подлинное общение. Оно воздействует на нас так же, как и на клиента.
Случай из практики
Беатрис, семидесятидевятилетняя вдова, в ноябре 1977 года упала и сломала бедро. В то время она жила одна в собственном доме; несчастный случай обернулся тяжелейшей травмой. Она пролежала на полу пять часов; наконец ей удалось подползти к телефону и вызвать дочь; та отвезла ее в больницу. После операции, длившейся довольно долго, длительного послеоперационного периода и физиотерапевтического лечения Беатрис с дочерью принялись обсуждать планы на будущее; им пришлось выбирать между домом для инвалидов и уходом на дому. Именно тогда они обратились за помощью в "Дана Хоум Кэйр".
Впервые мы увидели Беатрис в больнице в декабре 1977 года. Она сидела в кресле-каталке; это была крошечная женщина, однако казавшаяся крепкой, бодрой и приятной. Выяснилось, что она провела много времени, по ее словам, "в раздумьях" о том, возвращаться ли ей в свой дом. Даже при первой кратковременной встрече Беатрис выглядела далекой, как бы ушедшей в себя. Она совершенно глуха; и было трудно решить, насколько это чувство отдаленности является результатом ослабления ее психических способностей.
Когда мы во второй раз отправились навестить Беатрис в больнице, мы взяли с собой супружескую пару, нанятую для того, чтобы жить вместе с ней, когда она вернется домой. Беатрис встретила Брэда и Дженет очень приветливо и выразила надежду, что им понравится ее дом. Во время всего визита Беатрис спрашивала нас о том, нужно ли ей вставать, в каком кресле она будет сидеть и т. п. Она казалась ошеломленной и неспособной принимать простейшие решения; хотя и выражала смятение прямо, но продолжала вести себя как принято в обществе.
На следующий день мы навестили ее в больнице вместе со Сьюзен - членом правления, которая должна будет работать с Беатрис. Как только мы вошли, Беатрис заявила: "Не подходите к ванной, в ней бомбы, и, если вы войдете, они взорвутся". Затем она принялась рассказывать долгую и сбивчивую историю о том, как сделать пристройку к ее дому. Лишь немногое из сказанного имело какой-то смысл.
Через несколько дней из больницы поступило сообщение о том, что Беатрис начала проявлять агрессивность и непослушание, а ее речь стала невнятной. Лечащий врач обследовал ее, но не нашел никакого физиологического объяснения ее поведению. Тогда он прописал ей халдол наиболее сильное успокоительное средство; оно снизило агрессивность Беатрис, ноне уменьшило помраченности ее сознания. После долгого обсуждения положения с дочерью, которая побывала во всех домах для престарелых в округе, мы решили забрать Беатрис домой.
Мы разработали программу ухода в течение всех двадцати четырех часов. Брэд и Дженет живут с ней; они заняты большую часть вечера и всю ночь. Сьюзен и другие члены правления приходят по утрам, днем, иногда вечерами. Из-за депрессии Беатрис мы решили, что лучше всего устраивать короткие дежурства, сменяясь через пять часов и не превышая этого срока. Наш план ухода состоял в том, чтобы узнать ее и заботиться о ее основных потребностях - обеспечить личный уход, питание, домашнее хозяйство и т.д.
Когда Беатрис приехала домой, ее сильнейшие страдания проявились со всей очевидностью. Она испытывала страх и смятение. Ей не хотелось вставать с постели; она требовала, чтобы все занавеси были опущены, отказывалась есть, потому что, как она заявляла, во рту находится металл. У нее появились "двойное зрение, двойное осязание и двойной слух". Она боялась упасть; приходилось привязывать ее к кровати или креслу. Но несмотря на все эти страдания, как будто сохранялась и значительная доля разума. Наша задача состояла в том, чтобы создать такую атмосферу, которая, благодаря общению и пониманию, вызвала бы расцвет этого глубинного разума.
В течение первых двух недель, продолжая работу по основному уходу, мы также обращали внимание на свое поведение; мы старались понять, какие вещи являются предметами ее забот, чтобы "подстроиться" к ее окружению. Так, у окна висела кормушка, из которой питались птицы и белки. Опрятный и чистый домик был полон книг и пластинок с классической музыкой. Соседи рассказали нам, что двор Беатрис всегда был самым красивым в округе, что она любит цветы, траву, деревья. Ее гардероб находился в полном порядке, одежда говорила о разборчивом вкусе.
На еженедельных встречах правления мы делились своими переживаниями, связанными с Беатрис, подбадривали друг друга, обсуждали мельчайшие детали ухода за ней и возможности совместной работы.
Беатрис, казалось, была стойкой личностью; она никогда не ездила в автомобиле, а всегда ходила пешком. Она вела свою родословную от первых поселенцев и считала себя женщиной этого типа. Она страдала артритом, и ей сказали, что она должна вести активный образ жизни, потому что в противном случае придется пользоваться инвалидным креслом-каталкой. Поэтому ходьба и активность имели для нее большое значение; она любила проводить время на воздухе, наблюдать за птицами, копаться в земле, ухаживать за растениями. Ей всегда нравилось чтение, ее интересовали музыка и театр. Для работы во дворе она одевалась похуже, но в город всегда выходила в модной, до мелочей продуманной одежде. Это была умная и проницательная женщина, обладавшая чувством юмора.
По мере того как мы все лучше узнавали Беатрис, начал вырисовываться и план ухода. Мы принялись мягко и настойчиво убеждать ее одеваться каждый день; мы расчесывали ей волосы, красили губы, ставили ее перед зеркалом, чтобы она посмотрела на себя. Одеванье долго сердило ее; однажды, когда мы помогали ей надеть платье, она начала молиться: "О, Господь на небесах, лишь Ты знаешь, как работает ум этой женщины. Молю Тебя, спаси и сохрани меня! Благодарю Тебя. Аминь!" В течение этого периода правление не принимало всерьез ее чувства немощи, гнева или депрессии. Существовало определенное понимание ее боли, но вместе с тем чувствовалось, что она способна освободиться, способна видеть сквозь страдания и даже улавливать комичность всей ситуации.
Сьюзен приносила ей журналы мод; они с Беатрис начали рассматривать их; Дженет приносила свежие цветы из цветочного магазина; днем все четверо пили чай.
Беатрис посетил физиотерапевт и дал ей упражнения для ходьбы с палкой; она снова смогла ходить. Для нее, женщины активного типа, ходьба была очень важной. Все ее чувство странствия оказалось нарушено из-за неспособности ходить. То же самое произошло и с чтением. Члены правления начали читать ей вслух, доставали книги с крупным шрифтом и поощряли ее к чтению. Этот период оказался для Беатрис полным дел; много дел оказалось и у правления. Беатрис нужно было выполнять упражнения, каждый день ходить, помогать при уборке комнат, вытирать посуду. Она также занималась лепкой, писала акварели, часто слушала музыку.
Хотя Беатрис много и успешно работала, она начала говорить о своем чувстве пустоты и одиночества. Она не знала, что делать с собой. Она чувствовала, что ее жизнь "необычна", и называла дом "больницей".
Как-то Беатрис нашла целую корзинку рождественских открыток, доставленных во время ее болезни; она забыла о них. Теперь Беатрис занялась чтением, прочла их все, вспомнила всех приславших их людей и начала писать им письма. Несколько недель она писала эти письма и погружалась в воспоминания. Она стала думать о своей жизни до несчастного случая; когда воспоминания всплывали в памяти непроизвольно, она сильно сердилась.
От привязанности к ухаживающим Беатрис переходила к гневу на свое положение. Это время опять-таки оказалось трудным для персонала. Было нелегко выслушивать выражения ее гнева, жалобы и причитания: "Ах, бедная я, бедная!.." Все же мы чувствовали подлинную симпатию к Беатрис и могли заметить, что ей становится лучше.
Мы решили, что необходимо поощрять Беатрис к большей независимости, придать ей больше уверенности; поэтому мы согласились на весьма постепенное сокращение программы ухода, так, чтобы она могла на некоторое время оставаться дома одна. Мы начали с промежутка лишь в тридцать минут. Ее это возмутило; ей показалось, что ее оставляют в одиночестве только ради нашего удобства. Но постепенно она стала более довольной собой и менее пугливой. В конце концов мы установили такую программу ухода, когда жившая в доме пара готовила завтрак и обед и обеспечивала утренний уход с девяти до половины первого. Теперь Беатрис оставалась одна днем, а часто и по вечерам.
Постепенно она перешла от домашнего затворничества к прогулкам в саду, а затем к длительным прогулкам по окрестным местам. Скоро она стала выходить в свет - за покупками, к парикмахеру, на прием к врачу, иногда закусывала в ресторане. По праздникам она навещает своих родных в Денвере.
Настоящего улучшения в данном случае нет. Беатрис достигла наивысшего уровня несколько месяцев назад, а сейчас она начинает угасать. Книжка для записей в ее доме полна жизненных деталей: о том, как ей лечат зубы, о том, что сказал доктор о ногтях на ногах, об отеках ног, о том, ходить ей пешком или нет, что есть при запорах; здесь же списки покупок. Все же есть некоторый смысл в том, что мы установили взаимоотношения с ее подавленностью, в том, что замедлили свои дела, чтобы правильно понять детали ее жизни. Теперь, когда ее умственные и физические способности еще более снижаются, Беатрис до некоторой степени продолжает ощущать горечь и одиночество. Она пытается писать письма и забывает указать адрес; затем, когда кто-то напоминает ей об этом, она обижается и может тут же сказать: "Если бы вы не создавали здесь такого беспорядка, я вспомнила бы все сама". Она думает, что в саду живет какая-то маленькая девочка; эта девочка плачет и хочет войти в дом. Когда Беатрис не удается найти какую-нибудь вещь, она уверена, что ее стащила эта девочка. Мы испытываем чувство печали при виде того, как наш старый друг угасает и приближается к смерти. Теперь наша цель заключается не в том, чтобы помочь ей поправиться, а в том, чтобы сохранить атмосферу общения и понимания, которая приведет к некоторому реализму и чувству юмора по поводу нашей общей ситуации. На днях Беатрис сказала: "Люди живут, стареют и умирают; нет смысла сокрушаться об этом".
Словарь
Абхидхарма - первоначальные коренные тексты буддийской психологии, написанные через пять-десять столетий после смерти Будды; содержат весьма полный и детальный анализ состояний ума и уровней сознания.
Айкидо (японск.) - японское воинское искусство, разработанное Уэсибой Морихэем. Основано на принципах ненасилия, благодаря которым практикующий сливается с энергией атаки и выводит атакующего из равновесия.
Анатта (пали) - отсутствие "я", термин буддийской психологии, подразумевающий тот факт, что все образы самого себя и попытки создать устойчивую личность не являются первичными или конечными. Точно так же, как мы не в состоянии сжать руку в кулак, если основным условием этой руки не будет открытость, так и более фундаментальная открытость ума считается глубинной основой алчных попыток сформировать отдельное, прочное понятие "я".
Будды природа - буквально "будда" означает "пробужденный". В буддийской психологии считается, что все люди обладают этим действующим внутри нас качеством пробужденности.
Ваджраяны буддизм - тантрический буддизм, развившийся первоначально в северной Индии и в Тибете. Основанный на практике внимательности и развитии сострадания, он ориентирован на работу с энергиями феноменального мира и превращение отрицательных эмоций в качества пробужденного ума.
Випассана (пали) - всеохватывающее осознание, развивающееся из практики внимательности. Это более обширное осознание не замкнуто в эгоцентрической перспективе, а скорее видит взаимодействие "я" и мира как одно целое событие. Практика випассана есть медитация, которая развивает этот вид осознания.
Глубинное добро - термин, представляющий собой перевод тибетской фразы, относящейся к некоторому фундаментальному, необусловленному качеству присутствия, бдительности, восприимчивости и чувствительности, общему для всех людей, превыше обусловленных понятий хорошего и дурного. Термин не подразумевает отрицания или игнорирования существования алчности и агрессивности, зла или страдания в мире, но указывает на более глубокое человеческое качество под этими явлениями.
Глубинный разум - термин, заимствованный из буддийской психологии и относящийся к универсальному качеству бодрствующего сознания, общего для всех людей, лежащего под множеством существующих форм неведенья, заблуждения и самообмана. Этот действующий внутри нас разум считается непосредственным выражением склонности вселенской жизни двигаться в сторону равновесия и большей целостности.
Дзадзэн (японск.) - термин дзэн-буддизма, обозначающий практику медитации.
Дзэн-буддизм - наиболее влиятельная форма японского буддизма, основанная на простом постижении пробужденного ума при помощи практики дзадзэн и коанов.
Дхарма - буквально "путь"; способ действия вселенной; универсальные законы реальности. Дхарму можно пережить, но никогда нельзя выразить в понятиях, потому что понятия существуют внутри закона дхармы.
Карма - цепь причины и следствия, обусловленные реакции и привычные стереотипы.
Ки (японск.) - универсальная жизненная энергия, которая, как полагают, оживотворяет тело, циркулируя по некоторым каналам, или меридианам, в обмене с окружающей средой.
Клеша - в восточной психологии так называют некоторые эмоциональные стереотипы, сопровождающие захватническую деятельность "я": зависть, гордость, неведенье, алчность, агрессивность.
Ксан (японск.) - медитативный прием, применяемый в традиции дзэн-буддизма, когда медитирующий должен созерцать вопрос, который нельзя решить при помощи рассудочного, рационального мышления, - найти ответ на этот вопрос.
Майтри - безусловное дружелюбие, любящая доброта, приятие самого себя; внимательность; ясное внимание к происходящему как внутри себя, так и в окружении. Это качество включает в себя регистрацию мыслей и чувств, однако без полной поглощенности или захваченности ими. Практика внимательности есть форма медитации, в которой практикуется этот вид внимания.
"Открытый грунт" - фундаментально открытая порода осознания, пребывающая под всеми обусловленными состояниями ума. Можно уловить ее проблеск в пространстве, в просвете между двумя мгновеньями, когда ум твердо удерживается на содержании сознания. Медитация позволяет нам открыть эти просветы, указывающие на более обширный, свободный ум.
Просветление - постижение истинной природы того, что есть, вне всех обусловленных верований и понятий о том, что есть. Говорят, что такое совпадение с природой реальности имеет своим результатом коренной сдвиг в образе жизни человека.
Пустота (шуньята) - глубинная, открытая природа ума, более первичная, нежели все понятия и объяснения. Это качество пустоты можно пережить непосредственно благодаря практике медитации. Это не провал в уме, а скорее освобожденность от объяснений рассудочного мышления, которая позволяет нам воспринимать мир более ясно и полно.
Самадхи - спокойствие ума, достигаемое при помощи медитации. Оно не обязательно означает отсутствие мыслей; но в состоянии самадхи они не отвлекают ум и не рассеивают его.
Сансара - состояние страдания и заблуждений, результат отсутствия соприкосновения с нашей истинной человеческой природой.
Сатори (японск.) - в традиции дзэн так называется мгновенье внезапного просветления.
"Я" - этот термин по своему значению в восточных системах психологии отличается от аналогичного термина западной психологии. В настоящей книге этот термин обычно относится к деятельности захвата, к упорной привязанности к идеям и образам самого себя, к стараниям защищать себя и свою отдельную территорию, обособленную от жизни в целом.
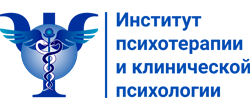

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству



 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
