Библиотека » Психоанализ, психоаналитическая и психодинамическая психотерапия » Боулби Теория привязанности
Автор книги: Боулби
Книга: Боулби Теория привязанности
Боулби - Боулби Теория привязанности читать книгу онлайн
Психоанализ и уход за ребенком.
Боулби Джон
"Создание и разрушение эмоциональных связей" Лекция 1
В апреле и мае 1956 года, как часть празднования столетней годовщины со дня рождения Фрейда, члены Британского психоаналитического общества прочитали пять публичных лекций в Лондоне на тему "Психоанализ и современное мышление". Меня пригласили прочесть лекцию на тему "Психоанализ и уход за ребенком". Эти лекции были опубликованы два года спустя.
Возможно, никакая другая область современного мышления не испытывает столь явного воздействия на нее трудов Фрейда, чем область, касающаяся ухода за ребенком. Хотя всегда имелись люди, которые знали, что ребенок - был отцом человеку, началом взрослого человека, и что материнская любовь дает нечто незаменимое растущему младенцу, до Фрейда эти старые истины никогда не были предметом научного исследования; поэтому они легко отметались как необоснованные сентиментальности. Фрейд не только настаивал на том очевидном факте, что корни нашей эмоциональной жизни лежат в младенчестве и раннем детстве, но также пытался систематическим образом исследовать связь между событиями в первые годы жизни и структурой и функционированием личности впоследствии.
Хотя, как известно, формулировки Фрейда встретили сильную оппозицию - вплоть до 1950 года видные психиатры говорили нам, что нет такого свидетельства, что то, что происходит в первые годы жизни, имеет отношение к психическому здоровью - сейчас многие из его базисных утверждений принимаются как нечто само собой разумеющееся. Не только популярные журналы, подобно "PicturePost" [Еженедельное издание с очень большим тиражом, впоследствии прекратившее существование), говорят читающей публике, что "несчастный ребенок становится несчастным невротичным взрослым " и что важное значение имеет "поведение тех людей, среди которых растет ребенок,... а в самые ранние годы жизни поведение матери в особенности"; но эти взгляды повторяются также в публикациях Уайтхолла. Министерство внутренних дел (1955) при описании работы своего Департамента по проблемам детства отмечает, что "прошлые переживания ребенка играют жизненно важную роль в его развитии и продолжают иметь для него важное значение...", и дает рекомендацию, что "целью ухода за ребенком должно быть, насколько это возможно, обеспечение того, чтобы за каждым ребенком регулярно ухаживало одно и то же лицо". Наконец, имеется отчет, подготовленный специальным комитетом, назначенным министром образования, который всеобъемлюще рассматривает проблемы плохо приспособленного ребенка (Министерство образования, 1955). Он основывает свои бескомпромиссные рекомендации на таких утверждениях, как "Современные исследования говорят о том, что наиболее значимыми воздействиями для ребенка являются те, которые он испытывает до того, как начинает ходить в школу, и что к этому времени у него уже сформированы определенные отношения со значимыми лицами, которые могут решающим образом влиять на все последующее развитие ребенка", и что "Будет ли ребенок счастлив и уравновешен в этот период (более позднее детство) или несчастлив и не в ладах с обществом или со своими уроками, в значительной степени это зависит от одной вещи - адекватности раннего ухода за ним". Отмечая столетие со дня рождения основателя психоанализа, уместно отметить подобные идеи как революцию в современном мышлении.
В настоящее время по крайней мере в отношении наиболее важных вопросов заботы о ребенке наблюдается достаточно большое согласие среди психоаналитиков и тех людей, кто прислушивается к их мнению. Например, все согласны относительно жизненной важности стабильного и постоянного взаимоотношения с любящей матерью (или заменителем матери) на всем протяжении младенчества и детства и относительно потребности ждать от ребенка определенной степени созревания, прежде чем решаться на такие вмешательства, как отнятие его от груди и приучение к горшку - и в действительности это касается всех других шагов в "воспитании" ребенка. Однако по другим вопросам есть существенные расхождения во взглядах, но в свете относительной новизны научного изучения этих проблем и их сложности было бы удивительно, если бы это обстояло не так. Такие разногласия в вопросах об уходе за ребенком часто вызывают у родителей замешательство и смущение, в особенности среди тех из них, кто "горячо стремится к определенности в нашей жизни ". Насколько легче было бы для всех нас, если бы мы знали все или по крайней мере чуть больше ответов, касающихся проблемы, как воспитывать наших детей. Но данная проблема далека от разрешения в настоящее время, и я никоим образом не хочу вызывать у вас впечатление, что она решена. Однако я считаю, что работы Фрейда обеспечили нас некоторым прочным знанием и, кроме того, что, возможно, еще важнее, показали нам плодотворный путь рассмотрения проблем ухода за ребенком и дальнейшего их понимания.
Амбивалентность и ее регулирование
Дональд Винникотт в своей лекции о психоанализе и вине [Предыдущая лекция в серии этих лекций.] обсуждал жизненно важную роль для развития человека возникновения роста здоровой способности к переживанию чувства вины. Он ясно показал, что способность к переживанию вины является необходимым свойством здоровой личности. Хотя чувство вины и неприятно, подобно физической боли и тревоге, оно биологически необходимо и является частью цены, которую мы платим за привилегию быть людьми. В дальнейшем он описывал, как способность к чувству вины "подразумевает толерантность к амбивалентности" и принятие на себя ответственности как за нашу любовь, так и за нашу ненависть. Это были темы, которые, благодаря влиянию Мелани Кляйн, представляли значительный интерес для британских аналитиков. Я хочу продолжить обсуждение роли амбивалентности в психической жизни - этой неудобной тенденции, которая присуща всем нам, испытывать злость и иногда ненависть к тому самому человеку, к которому мы питаем наибольшую любовь,- и рассмотреть те способы ухода за ребенком, которые, вероятно, создают для него более легкие или более трудные условия к развитию способности регуляции этого конфликта зрелым и конструктивным образом. Ибо я считаю, что главный критерий нашего суждения о ценности различных способов ухода за ребенком заключается в тех влияниях, благоприятных или неблагоприятных, которые они оказывают на развитие способности ребенка регулировать свой конфликт любви и ненависти и, посредством этого, на его способность переживать здоровым образом свою тревогу и вину.
Давайте кратко проследим идеи Фрейда на тему амбивалентности. Из всех бесчисленных тем, развиваемых им в своих трудах, эта тема - самая яркая и наиболее постоянная. Она впервые появляется в самый ранний период развития психоанализа. В ходе исследования сновидений Фрейд (1900) осознал, что сновидение, в котором умирает любимый человек, часто указывает на существование бессознательного желания, чтобы этот человек умер - откровение, если и менее удивляющее, чем тогда, когда это было выдвинуто впервые, но и в наши дни вызывающее не меньшую тревогу, чем полвека тому назад. В своем исследовании истоков этих неприятных пожеланий Фрейд обратился к эмоциональной жизни детей и выдвинул смелую для того времени гипотезу, что в первые годы жизни это правило, а не исключение, что по отношению как к нашим сиблингам (братьям и сестрам), так и к нашим родителям, мы испытываем чувства гнева и ненависти, а также заботы и любви. И действительно, именно в данном контексте Фрейд впервые ввел в обращение знакомые всем нам теперь темы сиблингового соперничества и эдипальной ревности.
В течение немногих лет после публикации Фрейдом своего великого труда по сновидениям, интерес к Детской сексуальности приводит его к теме амбивалентности, которая менее заметно выражена в его трудах. Она вновь появляется в 1909 году, когда в статье на тему обсессивного невроза Фрейд напоминает нам, что "в каждом неврозе мы наталкиваемся на одни и те же вытесненные инстинкты, лежащие за симптомами... ненависть сохраняется вытесненной в бессознательное посредством любви...". Несколько лет спустя, подчеркивая ключевую значимость этого конфликта, Фрейд (1912) ввел термин амбивалентность, который незадолго до этого был предложен Блейлером.
Та клиническая значимость, которую Фрейд придавал амбивалентности, отражена в его теоретических толкованиях. Мы видим, что в более ранней из двух его основных формулировок Фрейд постулирует, что интрапсихический конфликт происходит между сексуальными инстинктами и инстинктами Эго. Так как в то время Фрейд считал, что агрессивные импульсы являлись частью инстинктов Эго, он смог заключить, говоря, что "сексуальные инстинкты и инстинкты Эго с готовностью развивают резкую противоположность, что повторяет такую же противоположность любви и ненависти" (1915). Тот же самый базисный конфликт вновь отражен во второй из его формулировок - относительно конфликта между инстинктом жизни и инстинктом смерти. В данной терминологии мы находим, что амбивалентность, обнаруживаемая у невротических пациентов, обусловлена, по мнению Фрейда, либо неудачей в процессе слияния инстинктов жизни и смерти, либо более поздним распадом слияния - а именно, расщеплением слияния (1923), Таким образом, он снова видит эту основополагающую клиническую и теоретическую проблему как понимание того, каким образом конфликт между любовью и ненавистью приходит к удовлетворительному или неудовлетворительному регулированию.
Существуют различные мнения относительно достоинств этих метапсихологических формулировок Фрейда, и они будут оставаться такими в течение многих десятилетий. Иногда я задаюсь вопросом о том, не склонны ли затемнять стимулированные ими теоретические споры и тот абстрактный язык, каким они были изложены, ту абсолютную обнаженность и простоту конфликта, который угнетает человеческий род - что мы злимся и хотим причинить боль тому самому человеку, которого больше всего любим. Такая предрасположенность человечества всегда занимала центральное место в христианской теологии и хорошо нам знакома по таким разговорным выражениям, как "укусить руку, кормящую нас", и "убить курицу, несущую золотые яйца ". Это тема "Баллады о людях, по ком тюрьма плачет" Оскара Уайльда, один из стихов которой гласит:
Пусть знает каждый наперед,
Что губит он любимых,
Кого-то губит мрачный взгляд,
Иль льстивых слов обманный ряд,
Иль храбреца стальной булат,
Иль труса поцелуи!
Именно благодаря Фрейду значимость этого конфликта в жизни человека была сызнова осознана, и также благодаря ему этот конфликт впервые стал темой научного исследования. Теперь нам известно, что страх и вина, проистекающие из этого конфликта, лежат в основе многих психологических расстройств, а неспособность обратиться к этому страху и вине лежат в основе многих нарушений характера, включая закоренелую преступность. Хотя в нашей работе мы сделаем большой шаг вперед при более существенном прояснении теоретических проблем. По многим причинам я считаю, что большой прогресс может быть достигнут при использовании таких повседневных понятий, как любовь и ненависть, и конфликта - неизбежного конфликта,- который развивается внутри нас, когда эти чувства направлены на одно и то же лицо.
Тогда станет ясно, что шаги, каким младенец или ребенок совершает свой прогресс в отношении регуляции амбивалентности, критически важны для развития его личности. При благоприятном ходе развития он будет расти, не только осознавая существование внутри себя противоположных импульсов, но будучи в состоянии направлять и контролировать их, а порождаемые ими тревога и вина будут терпимыми. При менее благоприятном процессе развития его будут одолевать импульсы, над которыми, как он чувствует, у него неадекватный контроль или даже нет никакого контроля; в результате он будет испытывать острую тревогу о безопасности тех лиц, которых он любит, но также и страх того возмездия, которое, как он считает, падет на его голову. При таком ходе развития подстерегает опасность - опасность исходящая от личности, прибегающей к разнообразным защитным маневрам, каждый из которых создает больше трудностей, чем разрешает их. Например, страх наказания, ожидаемого в результате враждебных действий - а также, конечно, вследствие враждебных намерений, так как для ребенка всегда трудно ясно отличить одно от другого - часто приводит к еще большей агрессии. Таким образом, мы обнаруживаем, что агрессивный ребенок действует, исходя из того, что атака - лучший способ защиты. Сходным образом, чувство вины может вести к компульсивному требованию утешения и демонстрации любви, а когда эти требования не удовлетворяются, к дальнейшей ненависти и, следовательно, к усилению переживаний чувства вины. Такие порочные круги возникают, когда способность ребенка регулировать любовь и ненависть развивается неблагоприятно.
Кроме того, когда у ребенка отсутствует уверенность в собственной способности контролировать свои несущие угрозу импульсы, есть опасность, что он невольно прибегнет к одному или более из множества примитивных и довольно неэффективных механизмов психической защиты, предназначенных оградить любимых им людей от повреждения, а его самого - от боли острого конфликта, который кажется ему неразрешимым другими способами. У этих средств психической защиты, которые включают в себя подавление одного или обоих компонентов конфликта - иногда ненависти, иногда любви, а иногда их обоих,- смещение, проекцию, сверхкомпенсацию и многие другие, есть одна общая черта: вместо открытого представления конфликта и работы с тем, каков он в действительности, все эти защитные механизмы являются уклонениями и отрицаниями существования данного конфликта. Неудивительно, что они так неэффективны!
Прежде чем перейти к нашей главной теме - обсуждению условий, которые в детстве благоприятствуют или задерживают развитие способности регулировать конфликт,- мне бы хотелось подчеркнуть еще одну вещь: в конфликте нет ничего нездорового. Напротив: конфликт является нормальным состоянием дел для всех нас. Ежедневно в нашей жизни мы снова открываем для себя, что если мы следуем определенному ходу действий, нам придется воздержаться от других возможностей, которые также желательны; мы обнаруживаем на самом деле, что нельзя съесть торт и одновременно иметь его при себе. Поэтому ежедневно в нашей жизни мы сталкиваемся с задачей выбора между соперничающими интересами внутри нас самих и регулирования конфликтов между непримиримыми импульсами. Другие животные сталкиваются с той же самой проблемой. Лоренц (1956) описал, как ранее считалось, что один лишь человек являлся жертвой противоречивых импульсов, но что, как теперь стало известно, животных постоянно тревожат импульсы, несовместимые друг с другом, такие, как нападение, бегство и сексуальное приближение.
Хорошим примером этого является период ухаживания малиновки [Имеется в виду европейская малиновка, а не американская]. Самец и самка малиновки имеют одинаковую окраску - у обоих красные грудки. Весной малиновка-самец помечает границу собственных владений и склонен атаковать всех вторгающихся пришельцев с красными грудками. Это означает, что когда потенциальная жена залетает на его территорию, его первый импульс - атаковать ее, а ее первый импульс - спасаться бегством. Лишь когда она становится робкой, враждебные импульсы самца тормозятся и пробуждаются его ответные импульсы к ухаживанию. Поэтому на ранних фазах ухаживания оба пола находятся в состоянии конфликта, самец разрывается между атакой и сексуальным наступлением, а самка - между флиртом и бегством.
Все недавние исследования в психологии и биологии безошибочно показали, что поведение как у других организмов, так и у самого человека, является результирующей почти постоянного конфликта взаимодействующих импульсов: конфликт не является уникальной принадлежностью ни человека как представителя вида, ни невротического человека как представителя подгруппы с определенным страданием. Но что характеризует психологически нездоровых людей, так это их неспособность удовлетворительно регулировать свои конфликты.
Условия, которые порождают трудности
Что же нам известно о тех условиях, которые порождают трудности регулирования конфликтов? Почти несомненно, что главной чертой конфликта, которая делает трудным его регулирование, является значимость его компонентов. В случае амбивалентности проблема регулирования конфликта возрастет, если либо импульс достичь либидинального удовлетворения (1), либо импульс оскорбить и уничтожить любимого человека необычайно силен. Фрейд осознавал это с самого начала. Очень рано в своей работе он отказался от идеи о том, что либо существование, либо природа переживаемых конфликтов отличает психически здоровых людей от их менее счастливых собратьев; вместо этого он предположил, что отличие заключается в том, что психоневротики проявляют "преувеличенным образом чувства любви и ненависти к своим родителям, которые менее очевидно и менее интенсивно встречаются в умах большинства детей" (1900). Эта точка зрения была обильно подтверждена клинической работой в последние пятьдесят лет.
Один из ключей к уходу за ребенком поэтому состоит в том, чтобы обращаться с ребенком таким образом, чтобы ни один из двух импульсов, которые подвергают опасности любимого человека - либидинальная жадность и ненависть,- не становился слишком интенсивным. В отличие от некоторых аналитиков, которые достаточно пессимистичны по поводу врожденной силы импульсов ребенка, я полагаю, что у большинства детей это условие довольно легко осуществимо при наличии одной вещи - что у ребенка есть любящие его родители. Если младенец и маленький ребенок обладает любовью и взаимностью своей матери, а также и своего отца, он будет расти без чрезмерного давления страстного либидинального желания и без чрезмерно сильной склонности к ненависти. Если же он лишен всего этого, то есть вероятность, что его либидинальное желание будет интенсивным, что означает, что он будет постоянно искать любви и привязанности и будет постоянно склонен ненавидеть тех людей, которые, как он считает, не смогли проявить по отношению к нему любовь и привязанность.
Хотя отвергающаяся ранее потребность младенца и маленького ребенка в любви и безопасности теперь хорошо известна, все же имеются люди, которые выступают против этого. Почему младенец должен выдвигать такие требования? Почему он не может быть удовлетворен меньшей заботой и вниманием? Как можно так все устроить, чтобы ноша родителей была более легкой? Возможно, однажды, когда мы будем больше знать о либидинальных потребностях маленького ребенка, мы сможем более точно описать его минимальные требования. Тем временем нам следует быть мудрыми, уважая его потребности и осознавая, что их отвержение часто порождает в ребенке могущественные силы либидинального желания и склонности к ненависти, которые впоследствии могут стать причиной огромных трудностей как для него, так и для нас. Давайте не преуменьшать те трудности для женщин, которые возникают вследствие необходимости пойти навстречу потребностям младенца. В прошлые времена, когда для них было закрыто высшее образование, имел место меньший конфликт между требованиями семьи и карьеры, хотя фрустрация для способных и амбициозных женщин была не менее сильна. В наше время все обстоит по-иному. Мы с желанием приглашаем женщин в те профессии, где они стали играть незаменимую роль. И действительно, во всех сферах деятельности, связанных со здоровьем и благополучием детей, они стали встречаться среди наших лидеров. Однако этот прогресс, подобно любому росту и развитию, породил свои напряженные отношения, и многим из вас, собравшихся здесь сегодня вечером, знакома не понаслышке проблема регуляции вступающих в конфликт требований семьи и карьеры. Решение нелегко, а тяжесть этой ноши развращающе влияет на тех из нас, кто достаточно удачлив, не сталкиваясь лицом к лицу с проблемой установления для другого пола правил, как им следует решать эту проблему. Давайте надеяться, что с течением времени наше общество, которое все еще главным образом организовано для удобства мужчин и отцов, станет приспосабливаться к нуждам женщин и матерей и начнут развиваться социальные традиции, которые станут направлять индивидов на мудрое поведение.
Давайте теперь вернемся к нашей теме и рассмотрим, что происходит, когда по какой-либо причине на потребности младенца не реагируют достаточным образом и в должное время. Уже в течение нескольких лет я занимаюсь исследованием неблагоприятных последствий, сопровождающих отделение детей от их матерей в то время, когда они сформировали по отношению к ним эмоциональную привязанность. Имелось несколько причин для выбора мной этой темы для исследования: во-первых, результаты работы имели немедленное и ценное применение; во-вторых, это та область, в которой мы получаем достаточно надежные научные данные и поэтому показываем тем людям, которые все еще сверхкритичны к психоанализу, что его притязания на научный статус хорошо обоснованы; наконец, переживания ребенка, разъединенного со своей матерью, дают нам драматический, если не трагический, пример этой центральной проблемы психопатологии - порождения столь громадного конфликта, что нормальные средства его регуляции полностью разрушаются.
Теперь представляется вполне очевидным, что как раз вследствие порождаемой интенсивности как либидинального желания, так и ненависти, отделение ребенка от матери после сформировавшегося с ней эмоционального взаимоотношения может быть столь повреждающим для развития его личности. В течение ряда лет мы сталкивались с острой тоской и страданием, которые проявляют столь многие маленькие дети при поступлении в больницу или в связанные с местом жительства детские приют-ясли, и с тем, как впоследствии, после того как их чувства оттаивали по возвращении домой, они отчаянно цеплялись к своим матерям и следовали за ними. Нет надобности подчеркивать возросшую интенсивность их страстных либидинальных требований. Сходным образом мы узнали, как эти дети отвергают своих матерей, когда впервые видят их снова, и горько обвиняют матерей за то, что они их бросили.
Много примеров интенсивной враждебности, направленной против фигуры наиболее любимого человека, были описаны Анной Фрейд и Дороти Берлингам в отчетах Хэмпстедского приюта-яслей во время войны. Особенно горьким примером является случай Регги, который, за исключением двухмесячного интервала, провел всю свою жизнь в приюте-яслях, начиная с пятимесячного возраста. За время своего пребывания там он сформировал "два страстных взаимоотношения к двум молодым нянечкам, которые заботились о нем в разные периоды времени. Вторая привязанность была внезапно разрушена в два года и восемь месяцев, когда его "собственная" няня вышла замуж. Он был полностью потерянным и несчастным после ее ухода и отказался смотреть на нее, когда она навестила его две недели спустя. Он отворачивал от нее свое лицо, когда она разговаривала с ним, но пристально смотрел на дверь, которая за ней закрылась после ее ухода из комнаты. Вечером он сел в постели и сказал: "Моя очень собственная Мэри-Анна! Но я не люблю ее". (Burlingham, Freud, 1944).
Подобные переживания, в особенности если они неоднократны, приводят к чувству того, что тебя не любят, бросают и отвергают. Именно эти чувства выражены в трагикомических поэмах одиннадцатилетнего трудного подростка, чья мать умерла, когда ему было пятнадцать месяцев и у которого с тех пор сменилось несколько заместительных матерей. Вот один из стихов (я не уверен, оригинален он или нет), который он написал во время лечения у моей коллеги, Яны Поппер, и в котором, по-видимому, выражено то, что, по его мнению, являлось причиной его перехода от одной материнской фигуры к другой:
Ребенок был у толстяка, в зеленое одет,
Он королеве послан был, завернутый в конверт..
Но не понравилися ей его большие ножки,
Она порезала конверт и выбросила кошке.
И той он был не по нутру, казался слишком тонок,
Конверт втащила королю, порезав до пеленок.
Но невзлюбил его король, медлительным считая,
И выбросил ребенка прочь в окно в воронью стаю.
Позднее, когда его врач уезжала в отпуск, он выразил свое отчаяние, что его никогда не любили, словами из известной песенки:
Увы, любимая моя, все тускло стало вновь,
Не верю я теперь словам & ответную любовь,
Когда б любила ты меня, твердя о том не раз,
Меня б не бросила ты здесь , в Америку стремясь .
Вряд ли удивительно, что столь интенсивное отчаяние идет наравне со столь же интенсивной ненавистью. Чем большую любовь он питал к своему врачу, тем более склонен был к вспышкам яростной ненависти, некоторые из которых становились весьма опасными. Представляется очевидным, что неоднократные разлучения с фигурами привязанности в ранние годы жизни породили в этом мальчике склонность к интенсивной амбивалентности такой величины, которая не могла гармонично регулироваться незрелой психической структурой его личности, и что продолжали действовать патологические механизмы регуляции, установившиеся у него в ранние годы жизни.
Другой пример того, как разлучение с матерью провоцирует у ребенка как интенсивную либидинальную потребность, так и интенсивную ненависть, представлен исследованием моего коллеги, Кристофа Хейнике (1956). Он сравнил реакции двух групп детей одного возраста (от 15 до 30 месяцев); одна группа находилась в связанном с местом жительства детском приюте-яслях, другая - в дневных яслях. Хотя дети в обоих группах показывали озабоченность по поводу возвращения своих утраченных родителей, дети в детском приюте-яслях выражали свои желания намного более сильным плачем - другими словами, более интенсивно; сходным образом, именно дети в детском приюте-яслях, а не в детских яслях, были склонны в различных ситуациях действовать яростно враждебным образом. Хотя это лишь предположение, что такая враждебность первоначально направлена против отсутствующих родителей, определенные находки этого основанного на статистических данных исследования согласуются с гипотезой, выдвинутой несколько лет тому назад (Bowlby, 1944), что одним из главных последствий разделения матери и ребенка является огромная интенсификация конфликта амбивалентности.
До сих пор при рассмотрении того, что в раннем детстве порождает трудности в регуляции амбивалентности, мы сосредоточивали свое внимание на таких переживаниях, как депривация, связанная с отсутствием матери, приводящих к страстному либидинальному желанию и ненависти, достигающих чрезвычайно высоких уровней. Естественно, имеется, помимо депривации, много других событий, которые могут дать начало трудностям в регуляции амбивалентности. Например, стыд и вина также могут породить огромные затруднения. Ничто не помогает ребенку в большей степени, чем способность выражать враждебные и ревностные чувства откровенно, прямо и спонтанно, и я полагаю, что нет более значимой задачи родителя, чем быть способным хладнокровно принять такие выражения дерзости ребенка, как "я ненавижу тебя, мамочка" или "папочка, ты - скотина ". Выдерживая эти взрывы гнева, мы показываем нашим детям, что мы не боимся их ненависти и уверены, что она может контролироваться; кроме того, мы обеспечиваем ребенка атмосферой терпимости, в которой может расти его самоконтроль.
Для некоторых родителей трудно поверить, что такие методы мудры или эффективны, и они считают, что детям следует вбить в голову, что ненависть и ревность не только плохи, но потенциально опасны. Есть два общераспространенных метода, как это делается. Первым является мощное выражение неодобрения поведения ребенка посредством наказания; вторым - более тонким и эксплуатирующим его чувство вины - 1вляется внушение ребенку его чувства неблагодарности и подчеркивание той боли, физической и моральной, которую его поведение причинило его преданным родителям. Хотя оба этих метода предназначены для контроля порочных страстей ребенка, клинический опыт показывает, что ни один из них не является очень успешным и что оба они вносят тяжкий вклад в несчастье ребенка. Оба метода склонны порождать у ребенка | страх своих чувств и вину по поводу их проявления, загонять их в подполье и, таким образом, делать контроль над ними для ребенка более, а не менее трудным делом. Оба метода склонны порождать трудных личностей: первый метод - наказание - способствует порождению бунтарей, а если он очень суров, то правонарушителей; второй метод - стыд - порождает невротиков, снедаемых чувствами вины и тревоги. Как в политике, так и с детьми: в конце концов устойчивость к оппозиции приносит щедрые плоды.
Несомненно, многое до сих пор сказанное всем нам знакомо: дети нуждаются в любви, безопасности и терпимости. Все это очень хорошо, можете вы сказать, но неужели мы никогда не можем фрустрировать наших детей и должны позволять им делать все, что вздумается? Все это избегание фрустрации, можно сказать, приведет лишь к тому, что вырастая, дети будут становиться грубыми отпрысками растоптанных родителей. Это, я полагаю, является поп sequitur (Не вытекающим одно из другого (лат.) - Прим. перев.), но так как такие заключения столь часто выводятся, следует рассмотреть их в полной мере.
Во-первых, те фрустрации, которые действительно имеют значение, связаны с потребностью ребенка в любви и заботе родителей. При условии, что эти потребности удовлетворяются, фрустрации другого типа несущественны. Родители не то что обязаны быть особенно добрыми к ребенку. На самом деле в искусство быть хорошим родителем входит способность отличать фрустрации, которых можно избежать, от неизбежных фрустраций. Можно избежать громадного количества трений и гнева у маленьких детей и вспышек гнева со стороны их родителей посредством таких простых процедур, как вручение ребенку подходящей игрушки, прежде чем запретить ему брать с полки дорогой фарфор матери, или же ненавязчиво, тактично потакая ему, уложить ребенка в постель, вместо требования незамедлительного послушания, или же разрешить ему выбирать собственную диету и есть так, как ему это нравится, включая, если он этого хочет, кормиться из бутылочки до двухлетнего возраста или более. То количество нервного возбуждения и раздражения, которое мы испытываем в результате ожидания от маленьких детей соответствия нашим собственным представлениям о том, что, как и когда им следует есть, смешно и трагично - тем более в наше время, когда столь многие тщательные исследования показывают, с какой эффективностью младенцы и маленькие дети могут регулировать собственную диету и как удобно для нас самих, когда мы принимаем эти методы (Davis, 1939). Разумеется, что имеется много ситуаций ухода за ребенком, где можно избежать фрустрации без каких-либо неудобств для нас и с благоприятным влиянием на общее настроение всех, но есть и другие ситуации, когда это невозможно. Огонь опасен, фарфор хрупок, чернила пачкают ковер, нож может поранить другого ребенка, а также и самого ребенка, играющего им. Как нам избежать таких катастроф? Первое правило - это так устроить обстановку в доме, чтоб огонь был огражден, а фарфор, чернила и ножи находились вне досягаемости ребенка. Второе правило - это дружеское, но твердое вмешательство. Любопытно, как много умных взрослых считают, что существует лишь одна альтернатива тому, чтобы позволять ребенку стоять на голове, наказывать его. Политика твердого, но дружеского вмешательства всякий раз, когда ребенок делает что-либо, что мы хотим остановить, не только порождает меньшую горечь, чем наказание, но в конце концов намного более эффективна. Я считаю, что точка зрения, согласно которой наказание эффективно как средство контроля, является одной из огромных иллюзий западной цивилизации. Для детей более старшего возраста и взрослых оно используется в качестве вспомогательного средства к другим методам; в ранние же годы наказание, я верю этому, неприемлемо и потому, что оно является ненужным, и потому, что оно может породить в виде тревоги и ненависти намного большее зло, чем то, которое мы намеревались исправить.
К счастью, с младенцами и маленькими детьми, которые существенно меньше нас, легко осуществлять дружеское вмешательство; в крайнем случае мы можем подхватить ребенка на руки и отнести его в сторону. Та цена, которую мы должны заплатить,- это лишь наше постоянное присутствие, и я убежден, что родителям разумно заплатить эту цену. В любом случае явно необоснованно представление о том, что маленьких детей можно дисциплинировать в выполнении правил поведения так, что они будут ходить по струнке даже в наше отсутствие. Маленькие дети быстро узнают, что нам нравится и не нравится, но они не обладают необходимым психическим аппаратом, чтобы всегда осуществлять наши желания в наше отсутствие. Приучение маленьких детей к дисциплине, так быстро вселяющее страх в ребенка, что он становится инертным, обречено на неудачу, а те, кто пытается провести его в жизнь, обречены на опустошающую фрустрацию. В качестве примера практики твердого, но дружественного вмешательства нет ничего лучше, чем деятельность умелой воспитательницы детских яслей, и родители могут многому у нее научиться.
Следует заметить, что эта техника дружеского вмешательства не только избегает стимуляции гнева и горечи, бессознательных и, по-моему, неотделимых от наказания, но обеспечивает ребенка моделью для эффективной регуляции его конфликтов. Она показывает ребенку, что насилие, ревность и жадность могут обуздываться мирными средствами и что нет надобности прибегать к таким радикальным мерам, как осуждение и наказание, которые, когда они копируются ребенком, склонны деформироваться его примитивным воображением в патологическую вину и безжалостное самонаказание. Конечно, данная техника основывается на точке зрения, которую, следуя Мелани Кляйн, излагает нам Дональд Винникотт,- точке зрения, состоящей в том, что в людях присутствует зародыш врожденной морали, который, если ему дают возможность расти, обеспечивает личность ребенка эмоциональными основами морального поведения. Это воззрение, которое ставит рядом с идеей о первородном грехе (большое свидетельство укоренения которой психоанализ открывает в человеческом сердце) идею о первородной заботе о других людях или о первородной доброте, которая при благоприятных обстоятельствах одержит верх. Это осторожно оптимистический взгляд на человеческую природу, который, по-моему, оправдан.
Эмоциональные проблемы родителей
До сих пор мы исследовали некоторые условия ухода за ребенком, которые, по всей видимости, способствуют здоровому развитию способности ребенка регулировать конфликт. Теперь время рассмотреть эту проблему с точки зрения родителей. Нас вполне обоснованно могут спросить, не рекомендуем ли мы, что родители должны быть бесконечно любящими, терпимыми и осуществляющими дружеский контроль? Я думаю, что нет... и как родитель надеюсь, что это не так. Мы, родители, также испытываем чувства гнева и ревности и хотим мы этого или нет, они должны иногда выражаться, произвольно или непроизвольно. Я считаю и, конечно, надеюсь, что если общая основа чувств и взаимоотношений является хорошей, то случающиеся время от времени вспышки гнева или шлепанье ребенка приносят мало вреда; они, конечно, помогают облегчить наши чувства, а также, возможно, продемонстрировать нашим детям, что, по-видимому, у нас есть точно такие же проблемы, как и у них. Такие спонтанные выражения чувств, возможно, с последующими извинениями, если мы зашли чересчур далеко, можно резко отличать от наказания с его формальным допущением, где лежит правота и неправота. Афоризм Бернарда Шоу, что ребенка никогда не следует бить, кроме как под горячую руку, хорошо подходит в данной связи.
Тот момент, который хорошо иметь в виду тем людям, которые не являются родителями, состоит в том, что всегда намного легче заботиться о детях других людей, чем о своих собственных. Благодаря эмоциональным узам, привязывающим ребенка к родителю и родителя к ребенку, дети всегда ведут себя более ребяческим образом со своими родителями, чем с другими людьми. Очень часто можно слышать, как действующие из лучших побуждений люди замечают, что данный ребенок превосходно ведет себя с ними и что его ребяческое и трудное поведение со своей матерью обусловлено тем, что она плохо с ним справляется: обычно ее обвиняют в том, что она его портит! Такая критика неуместна и намного чаще является проявлением невежественности критики в отношении детей, чем некомпетентности родителя. Присутствие отца или матери неизбежно пробуждает примитивные и бурные чувства, не пробуждаемые другими людьми. Это справедливо даже в мире птиц. Молодые вьюрки, вполне способные кормиться самостоятельно, сразу начинают просить еду инфантильным образом, если видят своих родителей.
Так что родители, и в особенности матери, крайне опорочены; боюсь, что они опорочены в особенности профессиональными работниками, как медиками, так я не медиками. Все-таки было бы глупо притворяться, что мы не допускаем ошибок. Некоторые ошибки порождены невежественностью, но, возможно, еще большее их число происходит от тех бессознательных эмоциональных проблем, которые берут начало из нашего собственного детства. Хотя когда изучаешь детей в детской воспитательной клинике, во многих случаях представляется, что трудности детей возникли вследствие невежества родителей относительно таких вещей, как неблагоприятные последствия лишения матери или преждевременного и чрезмерного наказания. По-видимому, намного более часто проблемы поведения возникают у детей потому, что у самих родителей имеются эмоциональные трудности, которые они лишь частично осознают и которые не могут контролировать. Иногда они прочитывают все последние книги по уходу за ребенком и посещают всевозможные лекции психологов в надежде, что откроют для себя, как обращаться со своими детьми, и все же у них ничего не получается. Действительно, неудача многих родителей, одержимых "психологическими идеями" хорошо справляться со своими детьми, привела циников к дискредитации этих идей. Я считаю, что это ошибка. Однако мы должны осознать, что значение имеет не только то, что мы делаем, но и как мы это делаем. Кормление ребенка тревожной и амбивалентной матерью, требовательной к себе, вероятно, приведет к намного большим проблемам, чем режим ребенка, отрегулированный по часам, в руках матери, расслабленной и счастливой. То же самое можно сказать в отношении современных методов приучения ребенка к горшку, в отличие от старых. Это не означает, что современные методы не лучше; это значит, что они лишь часть того, что имеет значение, и что люди с рождения и в дальнейшем более чувствительны к эмоциональным отношениям вокруг них, чем к чему-либо еще.
В этом нет ничего загадочного; нет никакой надобности взывать к шестому чувству. Очень маленькие дети даже еще более восприимчивы к значению эмоциональной окраски голоса, жеста и выражения лица, чем взрослые, и с самого рождения младенцы крайне чувствительны к тому, как за ними ухаживают. (Смотрите, например, отчет Stewart et al. (1954) о младенцах, которые чрезмерно плачут. Было обнаружено, что это реакция младенцев на затруднения их матерей осуществлять за ними разумный уход.) Одна очень тревожная мать, проходящая у меня лечение, рассказала мне, как она обнаружила, что ее восемнадцатимесячный мальчик, который, как она жаловалась, крайне плаксив и прилипчив, реагирует совершенно по-разному в соответствии с тем, каким образом она уходит из комнаты. Если она вскакивает и опрометью выбегает из комнаты, чтобы выключить кипящую кастрюлю, в которой вода переливается через край, он плачет и требует ее возвращения. Если она уходит из комнаты спокойно, он едва замечает ее уход. Вдобавок к интеллектуальному пониманию, которое я не осуждаю, умелый уход за ребенком основывается на чувствительности матери к реакциям своего ребенка и на ее способности интуитивно адаптироваться к его потребностям.
Здесь нет ничего нового. Снова и снова мы слышим, как воспитатели и другие люди говорят, что ребенок страдает из-за отношения к нему одного из своих родителей, обычно матери. Нам говорят, что она чрезмерно придирчива к своему ребенку или чрезмерно озабочена на его счет, чрезмерно собственническая или отвергающая, и снова и снова такие комментарии оправданы. Но что критики обычно не в состоянии принять в расчет, так это бессознательное происхождение этих неблагоприятных отношений. Как результат, чрезмерно часто совершающие ошибки родители подвергаются смеси наставлений и критики, каждая из которых столь же бесполезна и неэффективна, как и другая.
Психоаналитический подход сразу проливает много света на происхождение затруднений родителей и обеспечивает рациональный путь оказания им помощи. Для вас будет неудивительно узнать, что очень многие из тех трудностей, с которыми сталкиваются родители, проистекают от их неспособности регулировать собственную амбивалентность. Когда мы становимся родителями ребенка, пробуждаются могущественные эмоции, столь же сильные, как и те, которые привязывают ребенка к матери или любовников друг к другу. У матерей в особенности наличествует столь же сильное желание полнейшего обладания, такой же преданности и полного отвода интереса от других людей. Но, к сожалению, наряду с этими нежными и любовными чувствами, слишком часто также приходит примесь - колеблюсь сказать это - примесь негодования и даже ненависти. Вторжение враждебности в чувства матери или отца кажется столь странным и даже пугающим, что некоторым из вас трудно в это поверить. Однако это реальность, и иногда жестокая реальность, как для родителя, так и для ребенка. Каково ее происхождение?
Хотя все еще трудно объяснить эту враждебность, представляется ясным, что те чувства, которые пробуждаются в нас, когда мы становимся родителями, имеют очень много общего с теми чувствами, которые были пробуждены в нас, когда мы были детьми, нашими родителями, братьями и сестрами. Мать, которая в детстве страдала от депривации, может, если она не стала неспособной к нежным чувствам, испытывать интенсивную потребность обладать любовью своего ребенка и может пойти очень далеко для обеспечения себя этой любовью. Родитель, который испытывал ревность к младшему сиблингу, может начать испытывать необоснованную враждебность к новому "маленькому чужаку " в семье, чувство, которое особенно знакомо отцам. Родитель, чья любовь к своей матери была наполнена антагонизмом вследствие ее требовательного поведения, может начать испытывать негодование и ненависть в связи с требовательным поведением младенца.
Я считаю, что возникающее затруднение связано не с простым повторением старых чувств - возможно, определенное количество подобных чувств имеется у каждого родителя,- но с неспособностью родителя терпеть и регулировать эти чувства. Те люди, которые в детстве испытали интенсивную амбивалентность к родителям или братьям и сестрам и которые затем бессознательно прибегли к одному из многих примитивных и ненадежных способов разрешения конфликта, о которых я говорил ранее,- к подавлению, смещению, проекции и так далее - не подготовлены к возобновлению конфликта, когда становятся родителями. Вместо осознания подлинной природы своих чувств по отношению к ребенку и соответствующего регулирования своего поведения, они обнаруживают, что движимы силами, которых не знают, и озадачены тем, что неспособны быть столь любящими и терпимыми, как им этого бы хотелось. Их трудность заключается в том, что, не осознавая этого, они борются с их вновь возникшими амбивалентными чувствами теми же самыми примитивными и ненадежными способами, к которым прибегали в раннем детстве в тот период жизни, когда им не были доступны какие-либо более удачные способы решения психического конфликта. Таким образом, мать, которая постоянно испытывает тревогу, что ее ребенок может умереть, не осознает собственного импульса убить своего ребенка (2) и, принимая то же самое решение, которое она приняла в детстве, возможно, в связи с желаниями смерти, направленными против собственной матери, бесконечно и бесплодно сражается, чтобы отвратить отовсюду подступающие опасности - несчастные случаи, болезни, небрежность соседей. Отец, который негодует в отношении обладания младенцем его женой и твердит о том, что ее заботливость к нему в связи с этим ухудшилась, не осознает, что побуждаем той же самой ревностью, которую испытывал в детстве, когда родился его младший сиблинг. То же самое справедливо относительно матери, побуждаемой владеть любовью своего ребенка, которая путем нескончаемого самопожертвования пытается обеспечить, чтобы у ее ребенка не было никакого оправдания для каких-либо иных чувств к ней, отличных от чувств любви и благодарности. Эта мать, которая на первый взгляд кажется столь любящей, неизбежно порождает в ребенке огромное негодование своими требованиями его любви, и в равной степени пробуждает в нем огромную вину своими притязаниями на то, что она столь хорошая мама, что неоправданно никакое иное чувство к ней, кроме благодарности. Ведя себя таким образом, она, конечно, не осознает, что пытается заслужить любовь, которую никогда не имела сама, когда была ребенком. Я хочу повторить, что, по-моему, дело заключается не просто в том, что поведение родителей мотивируется таким образом, который порождает трудности для детей; что действительно порождает беды, так это неведение родителей относительно собственных мотивов поведения и их невольное прибегание к вытеснению, рационализации и проекции при столкновении со своими конфликтами.
Возможно, для взаимоотношения нет ничего более вредоносного, чем когда одна сторона приписывает собственные неудачи другой стороне, делая ее козлом отпущения. К сожалению, младенцы и маленькие дети являются великолепными козлами отпущения, так как они столь открыто проявляют все те грехи, которые наследует их плоть: они эгоистичны, ревнивы, чрезмерно сексуальны, неряшливы и склонны к вспыльчивости, упрямству и жадности. Родитель, который несет на себе груз вины того или иного из этих недостатков, склонен становиться необоснованно нетерпимым к подобным проявлениям у своего ребенка. Он мучает ребенка своими тщетными попытками искоренить этот порок. Я вспоминаю отца, который, будучи всю жизнь озабочен собственной мастурбацией, пытался положить ей конец у своего сына, ставя его под холодный душ всякий раз, когда обнаруживал руку сына на гениталиях. Действуя подобным образом, родитель увеличивает вину ребенка, а также его страх и ненависть к власти. Некоторые из наиболее отравленных взаимоотношений родитель-ребенок, которые приводят к тяжелым проблемам у детей, проистекают от родителей, которые, видя сучки в глазах своих детей, избегают замечать бревна в собственных глазах.
Ни на одного из специалистов аналитической ориентации, кто работал в детской воспитательной клинике, не могла не произвести впечатления та частота, с которой те или другие сравнимые эмоциональные проблемы встречаются у родителей детей, направляемых в клинику, или та степень, в которой проблемы родителей, по всей видимости, породили или обострили трудности детей. И действительно, они настолько часто встречаются у родителей детей с эмоциональными проблемами, что во многих клиниках уделяется большое внимание помощи родителям разрешать свои эмоциональные проблемы как помогающей решению проблем их детей. Поэтому любопытно отметить, что этот аспект психологических расстройств, по-видимому, был почти неизвестен Фрейду и, возможно, по этой причине является таким аспектом, которому психоаналитики, по-моему, должны уделять особое внимание. Однако мы с оптимизмом смотрим в будущее относительно его разрешения. Тот ограниченный опыт, которым мы обладаем, говорит в пользу того, что умелая помощь, оказываемая родителям в критические месяцы перед и после рождения ребенка и в первые годы его жизни, может очень сильно помочь родителям развить нежное и понимающее взаимоотношение со своим младенцем, которого почти все из них желают. Мы знаем, что самые ранние годы жизни младенца, когда неизвестным ему образом закладываются основы его личности, являются критическим периодом в его развитии. Точно так же представляется, что первые месяцы и годы после рождения ребенка являются критическим периодом в развитии матери и отца. В этой самой ранней фазе родительства чувства родителей, по-видимому, более податливы влиянию, чем в другое время. В это время они часто ищут помощи и благодарны за нее, и так как взаимоотношения в семье все еще пластичны, то она эффективна. Сравнительно небольшая помощь, если она умелая и оказывается в необходимый момент, может иметь долговременное значение. Если мы правы, полагая это, тогда семья с новым младенцем является тем стратегическим пунктом, в котором можно блокировать порочный круг, где растут беспокойные дети, становясь психологически нарушенными родителями, которые, в свою очередь, станут воспитывать своих детей таким образом, что будущее поколение развивает те же самые или сходные эмоциональные проблемы. В настоящее время хорошо известно преимущество лечения маленьких детей; теперь мы выступаем в защиту точки зрения, что родителям также следует помогать вскоре после их "рождения"!
Осознание того, что главная причина родительских ошибок лежит в их чувстве, питаемом к своим детям, которое искажено бессознательными конфликтами, проистекающими из собственного детства родителей, вероятно, еще не впиталось в современное мышление. Такое осознание тревожно и вызывает беспокойство не только родителей, многие из которых вполне естественно надеются, что семейные трудности лежат где Угодно, кроме их собственных сердец, но озадачивает также профессиональных работников, как медиков, так и не медиков, при обнаружении того, что столь многие из тех проблем, с которыми они постоянно сталкиваются, по-видимому, лежат в недосягаемой области, относительно которой они не обладают необходимым знанием и в которой они не обучены оказывать помощь. Тем не менее ясно, что это так и что для оказания родителям той глубинной помощи, которая сможет позволить им стать хорошими родителями, чего они сами ищут, профессиональный персонал должен достичь намного большего понимания бессознательного конфликта и его роли в порождении нарушений в управлении родителей своими детьми. Это поднимает проблему первостепенной важности, которая слишком громадна для нас, чтобы рассматривать ее сегодня вечером.
Экстрансихический конфликт и интрапсихический конфликт
Как будет видно, защищаемая мной точка зрения основана на вере в то, что многое в психическом нездоровье и несчастье обусловлено воздействиями окружающей среды, изменить которые в нашей власти. В психоанализе, как и в других направлениях психиатрии, да и во всех биологических науках, постоянно обсуждаются влияния окружающей среды и воспитания в развитии личности. Наша проблема заключается в понимании того, почему один индивид вырастает без особых трудностей в своей эмоциональной жизни, в то время как жизнь другого отягощена этими проблемами. Несомненно, что разнообразие как в наследственности, так и в воздействии окружающей среды играет в этом огромную роль. Однако сам Фрейд, возможно, вследствие своей первой гипотезы о воздействии окружающей среды (относительно влияния сексуального совращения в детстве), оказавшейся ошибочной, был осторожен в объяснении трудностей родителей как значимых в разнообразии влияний окружающей ребенка среды, и чем старше он становился, тем, по-видимому все более приходил к мысли о том, что средовые изменения мало чем могут помочь в смягчении силы инфантильного конфликта. Многие аналитики стали разделять его точку зрения. Некоторые же аналитики не только считали, что ошибаются те из нас, кто придает более важное значение для развития ребенка воздействию окружающей среды, но и высказывали опасения, не приведет ли акцентирование нами внимания на важности окружающей ребенка среды к отвлечению внимания от основополагающего факта интрапсихического конфликта. Следует признать, что такая опасность существует, что психоаналитиками были написаны книги об уходе за ребенком, главный фокус которых был сосредоточен на экстрапсихическом конфликте - а именно, на конфликте между потребностями ребенка и ограниченными возможностями, предоставляемыми для их удовлетворения окружающей его средой. Хотя, как я уже отмечал, я считаю, что этот экстрапсихический конфликт между внутренними потребностями и внешними возможностями для их осуществления достаточно реален, я хочу подчеркнуть, что, по-моему, это, само по себе, имеет лишь ограниченную значимость для психического развития. Что значимо в отношении внешней среды, так это та степень, в которой налагаемые ею фрустрации и другие воздействия ведут к развитию интрапсихического конфликта такой формы и интенсивности, что незрелый психический аппарат младенца или маленького ребенка не может удовлетворительным образом его регулировать. Посредством как раз такого критерия нам следует оценивать достоинства или недостатки действий по уходу за ребенком, и если мы будем подходить к данной проблеме таким образом, я полагаю, психоанализ может внести в ее разрешение принципиальный вклад.
Хотя я твердо и даже страстно являюсь сторонником той точки зрения, что текущие ситуации, с которыми сталкивается младенец или маленький ребенок, решающе важны для его развития, я повторяю, что мне не хотелось бы производить впечатление, что теперь нам известно, как помочь всем детям вырасти без эмоционального расстройства. Конечно, я считаю, что нам уже многое известно и что если бы мы были способны применять наше нынешнее знание (но вследствие не--) хватки обученных специалистов я боюсь, что это очень большое "если бы"), то результатом было бы громадное возрастание человеческого счастья и огромное снижение психологических заболеваний. Тем не менее, было бы глупо предполагать, что наше знание достигло уже таких вершин, что мы можем гарантировать, что |если у ребенка будут такие-то и такие-то переживания, он будет расти без особых трудностей, И дело не только в том, что приходится сражаться с такими трудными проблемами, как те, которые возникают от искажающего воздействия фантазий ребенка и его ошибочной интерпретации мира вокруг него (3), о чем я ничего не говорил в этой лекции, но также вполне могут иметь место трудности в развитии ребенка, первопричина которых в данное время нам абсолютно неизвестна. Даже относительно тех проблем, о которых нам кое-что известно, наше знание все еще скудно и недостаточно основывается на систематически собранных данных. Поэтому потребность в исследовании такого рода огромна, и по мере роста нашего понимания будут расширяться возможности для плодотворной исследовательской работы.
Лишь будущее покажет, какие исследовательские подходы окажутся наиболее плодотворными. Всякое исследование - это азартная игра, и нам приходится ставить наши деньги на тех лошадей, к которым мы питаем пристрастие. Лично я склонен поддерживать из этой большой области выбора гибридные породы. Мне кажется вполне вероятным, что исследования мотивации У маленьких детей, в особенности исследование того образа взаимодействия, в котором мать и младенец развивают крайне насыщенное эмоциональное взаимоотношение, центрально важное для психоанализа, приобретут намного большую точность и ясность от применения концепций и исследовательских методов, развитых европейской школой, возглавляемой Лоренцом и Тинбергеном, при исследовании поведения животных. Это направление часто известно под названием этологии. Я также надеюсь, что наша проницательность вглубь того когнитивного мира, который выстраивает для себя, а затем заселяет и преобразует младенец и маленький ребенок, очень сильно продвинется в результате пионерских концепций и исследовательских методов Пиаже. Сходным образом, можно надеяться, что теория обучения прольет свет на те процессы обучения, которые случаются в критические месяцы и годы, когда рождается новая личность. Тем не менее, сколь бы незаменимыми не являлись подобные научные вклады, они окажутся бесплодными, если не будут постоянно интерпретироваться в свете знания, полученного в результате глубокого контакта с эмоциональной жизнью детей и родителей в клинической ситуации, используя такие методы, как методы разработанные Мелани Кляйн и Анной Фрейд, а также другими детскими аналитиками, и черпая свое вдохновение в трудах того человека, столетие со дня рождения которого мы празднуем на этой неделе.
Постскриптум
Большинство тем, которые я начал обсуждать на этой лекции, снова обсуждается в последующих лекциях в этом сборнике. Для ознакомления с более поздними исследованиями о развитии взаимоотношений мать-младенец смотрите работу Стерна (1977).
Примечания
1. Здесь и в последующих параграфах я использую традиционную терминологию, говоря о "либидинальных требованиях" или "либидинальных потребностях". В настоящее - время я говорил бы вместо этого о желании любви и привязанности у ребенка или, возможно, о "стремлении к безопасной привязанности" у ребенка.
2. Имеются несколько различных состояний психики, которые могут приводить мать к постоянным опасениям, как бы не умер ее ребенок. Бессознательное желание убить своего ребенка - лишь одно из их. Среди других следует упомянуть предшествующую утрату ребенка, утрату сиблинга в детстве и насильственное поведение отца ребенка. Смотри те обсуждение фобий в главах 18 и 19 трехтомника "Привязанность и утрата ", том 2.
3. Я полагаю, что искажающее воздействие фантазий ребенка было сильно преувеличено в традиционном психоаналитическом теоретизировании. Чем больше деталей мы узнаем о событиях в жизни ребенка и о том, что ему говорилось, что он нечаянно услышал и что он наблюдал, но, предположительно, не знал, тем более ясным образом смогут его представления о мире и о том, что может произойти в будущем, рассматриваться как абсолютно разумные толкования. Данные для такой точки зрения представлены в последующих главах второго тома и на всем протяжении третьего тома работы "Привязанность и утрата".Этологический подход к исследованию и развитию ребенка
Боулби Джон "Создание и разрушение эмоциональных связей" Лекция 2
На своей ежегодной конференции весной 1957 года Британское психологическое общество организовало симпозиум на тему "Вклад современных теорий в понимание разбития ребенка". Меня попросили поговорить о том научном вкладе, который ожидается от развития этологии, в то время как другие участники выступили с докладами по ассоциативной теории обучения, по психоанализу и об основателях теоретических систем, Пиаже и Фрейде. Все четыре доклада были впоследствии опубликованы в том же году.
Центральной проблемой как для клинической, так и для социальной психологии является природа и развитие взаимоотношений ребенка с другими людьми. В своем подходе к этой проблеме психологи склонны придерживаться одного из двух подходов: если они ориентированы академически и экспериментально, то склонны выступать в защиту той или другой формы теории обучения; если они клинически ориентированы, то следуют той или другой форме психоанализа, Оба подхода привели к ценным достижениям. Однако попытки установить связь между той и другой точками зрения были немногочисленными и не очень успешными, в то время как среди их приверженцев было широко распространено взаимное недоверие и критика.
Психоаналитики с самого начала воспринимали социальные отношения человека как опосредованные инстинктами, которые проистекают от биологических корней и побуждают индивида к действию. Многое в психоаналитической теории было связано с этими инстинктами, с их серийным и постепенным возникновением в онтогенезе, их постепенной и не всегда успешной организацией в более сложные совокупности, с конфликтами, возникающими, когда два или более инстинкта активны и несовместимы, с порождаемой ими тревогой и виной, с активизацией механизмов психических защит при столкновении с ними. Поглощенные изучением этих примитивных человеческих страстей, которые вследствие незрелых защитных способов, пригодных для их обуздания, склонны, как нам известно, увлекать нас, к нашему собственному разрушению, к совершению тех действий, о которых мы впоследствии сожалеем, психоаналитики часто были нетерпимыми к подходу теоретиков обучения. В их теоретизировании, казалось им, оставалось столь мало места для человеческих чувств или для мотивации действий, проистекающих из бессознательных и иррациональных глубин. Для клинициста теоретик обучения всегда казался пытающимся впихнуть галлон буйной человеческой природы в крошечный горшок строгой теории.
Теоретики обучения, наоборот, критикуют психоаналитиков. По их представлениям, определения инстинкта крайне неудовлетворительны и склонны дегенерировать к аллегорическим. Хотя клинические материалы обычно объемисты, но в них мало записей систематического наблюдения. Экспериментальный метод психоанализа отличает подобное отсутствие систематических наблюдений. И что самое плохое, психоаналитические гипотезы часто сформулированы таким образом, что недоступны опытной проверке - дефект, фатальный для научного прогресса. Теория обучения, как справедливо утверждается, определяет свои термины, формулирует свои гипотезы операционально и продолжает проверять их пригодность в ходе должным образом спланированных экспериментов.
Как человек, который одновременно стремится быть клиницистом и ученым, я был остро восприимчив к этому конфликту. Как клиницист я нашел подход Фрейда более полезным; он не только привлек внимание к психологическим процессам прямой клинической значимости, но его идеи, связанные с динамическим бессознательным, оказались практически полезным способом упорядочивания данных. Однако как ученого меня смущал ненадежный статус многих наших наблюдений, неясность многих наших гипотез и, самое главное, отсутствие какой-либо традиции, которая требует проверки научных гипотез. Этими дефектами мы обязаны, по-моему, тем полемикам, слишком часто горячим и бесплодным, которые характеризовали психоаналитическую историю. Как, спрашивал я многих своих коллег, мы можем подвергнуть психоанализ большей научной дисциплине, не жертвуя его уникальными вкладами?
Именно в таком расположении духа несколько лет тому назад я случайно столкнулся с работой этологов. Я был сразу же очень взволнован этим. Вот группа биологов, изучающая поведение диких животных, которая не только использует такие понятия, как инстинкт, конфликт и защитный механизм, крайне напоминающие понятия, используемые в нашей повседневной клинической работе, но и выполнила очень детальные описания поведения и разработала экспериментальную технику для испытательной проверки своих научных гипотез. Сегодня я нахожусь под столь же сильным впечатлением от этой работы, как и тогда. Этология, по-моему, изучает относящиеся к ней феномены научным образом. В той мере, в какой она исследует развитие социального поведения и в особенности развитие семейных взаимоотношений у более низших видов живых существ, я полагаю, что она изучает поведение, аналогичное и, возможно, иногда даже гомологичное многому из того, что интересует нас в клиническом отношении; в той мере, в какой она использует полевое описание, гипотезы с операционно определенными понятиями и эксперимент, она применяет строго научный метод. Конечно, лишь после того как этология пройдет суровое испытание исследовательских проверок, мы узнаем, окажется ли она столь же плодотворным подходом в отношении изучения людей, каким она оказалась в отношении более низших видов живых существ. Достаточно сказать, что этот подход кажется мне наиболее привлекательным, так как я полагаю, что он сможет обеспечить нас рядом новых понятий и данных, которые необходимы, если эти данные и открытия дополняются другими подходами, в особенности подходами психоанализа, теории обучения и Пиаже, каждый из которых следует применять и интегрировать с другими.
В кратком обзоре основных характерных черт этологического подхода давайте начнем с работы Дарвина (1859), не только потому, что он был этологом, прежде чем это слово было придумано, но также потому, что главным интересом этологии является эволюция поведения диких животных вследствие процесса естественного отбора.
В работе "Происхождение видов", которая была написана Дарвином ровно сто лет тому назад, инстинкту посвящена одна глава, в которой он отмечает, что каждый вид наделен своим собственным особым репертуаром поведенческих паттернов таким же образом, как он наделен собственными особенностями анатомической структуры. Подчеркивая, что "инстинкты столь же важны, как и телесная структура, для благополучия каждого из видов", Дарвин выдвигает гипотезу, что "все самые сложные и удивительные инстинкты" возникли в процессе естественного отбора, сохраняющего постоянно накапливающиеся вариации, которые биологически полезны. Он иллюстрирует свой тезис ссылкой на характерные черты поведения различных видов насекомых, таких, как муравьи и пчелы, и птиц, таких, как кукушка.
Со времени Дарвина зоологи занимались описанием и каталогизацией тех образцов поведения, которые характерны для особых видов живых существ и в такой же степени являются признаками видов, хотя они в некоторой степени изменяемы и модифицируемы, как красная грудка малиновки или полосы тигра. Мы не можем спутать поведение кукушки по подкладыванию яиц с поведением гусыни, мочеиспускание лошади и собаки, ухаживание поганок и домашней птицы. В каждом случае проявляемое поведение характеризует особые виды и поэтому является видо-специфическим, если использовать удобный, хотя и громоздкий термин. Так как эти образцы поведения развиваются характерным образом почти у всех представителей видов и даже у тех из них, кто выращивался в одиночестве, очевидно, они являются невыученными и унаследованными. С другой стороны, находятся особи, которым не удается развить эти образцы поведения или у которых они приняли особые формы, и мы можем поэтому заключить, что окружающая среда также оказывает влияние на их развитие. Это напоминает нам, что у живых организмов ни структура, ни функция не могут развиваться кроме как в окружающей среде и что сколь бы могущественной ни была наследственность, точная форма каждого организма будет зависеть от природы окружающей его среды.
Видо-специфические образцы поведения, которые нас здесь интересуют, часто изумительно сложны. Рассмотрим действия длиннохвостой синицы, строящей свое чудесное, покрытое лишайником, куполообразное гнездо. Это включает в себя выбор места для строительства гнезда, собирание вначале мха, а затем паучьей пряжи для сформирования площадки и постепенно, посредством боковых движений во время сидения на платформе, сплетение мха в куполообразную форму. Купол равномерно растет по мере того, как птица плетет гнездо вокруг самой себя до тех пор, пока как результат ее непрерывного процесса оно не приобретет куполообразную форму. Тем временем снаружи добавлялся лишайник и оставлялось открытым входное отверстие. Наконец, укрепляются боковые стены у входа и низ гнезда устилается множеством мягких перьев. Б этом удивительном строительстве насчитывается четырнадцать отличающихся типов движений и комбинаций движений, некоторые из которых общи другим видам, другие - специфичны для данного вида и каждое адаптировано к той особой среде, где пара строит гнездо, и все так организовано во времени и пространстве, что в результате получается связная структура, больше не встречающаяся нигде в природе, которая служит жизненно важной функции выживания популяции длиннохвостых синиц (Tinbergen; цит. по Thorpe, 1956).
Другие образцы поведения намного проще. Когда мы трясем гнездо черного дрозда, из него выглядывает много уродливых маленьких голов, каждая с гигантским раскрытым ртом; когда мы помещаем на стол птенца в возрасте двадцати четырех часов с разбросанными по нему зернами, он вскоре аккуратно склюет каждое зернышко. Но даже эти более простые образцы поведения далеко не просты. Реакция раскрытия рта у птенцов черного дрозда пробуждается и определяется визуальным сигналом, а также раскачиванием гнезда, птенец черного дрозда так организован во времени и пространстве, что каждое зерно аккуратно склевывается. Ясно, что такие образцы поведения не могут быть простыми рефлексами. Во-первых, их организация более сложна и направляется поведением на молярном уровне; во-вторых, представляется, что, будучи активированы, они часто обладают собственным мотивационным импульсом, который прекращается лишь в особых обстоятельствах. vЭтологи изучают эти видо-специфические образцы поведения; данный термин происходит от греческого слова "этос", которое означает "природу вещи". (Относительно обсуждения терминов смотрите Тинбергена (1955).) Со времен Дарвина главная цель этого исследования оставалась таксономической, а именно, распределение видов в связи с их близкородственными отношениями, действующими и вышедшими из употребления. Было обнаружено, что, несмотря на потенциальную вариабельность, относительная стабильность этих образцов поведения у различных видов рыб и птиц такова, что они могут использоваться для целей классификации со степенью достоверности, не меньшей, чем достоверность анатомических структур. Посещение исследовательской станции Конрада Лоренца в Германии быстро заставляет понять неизменный интерес Лоренца к пересмотру таксономической классификации уток и гусей в связи с их образцами поведения. Сходным образом, главный интерес Нико Тинбергена заключается в составлении полного описательного реестра в отношении многих видов чаек. Я подчеркиваю это, чтобы вы поняли ту степень, до которой эти образцы поведения специфичны для определенных видов, унаследуются и в столь же большой мере характерны для данного организма, как и его кости.
Я понимаю, что некоторые из вас могут испытывать легкое нетерпение. Да, могут мне сказать, все это очень интересно и может быть справедливо для рыб и птиц, но уверены ли мы, что это справедливо также для млекопитающих, не говоря уже о человеке? Не является ли поведение млекопитающих отличным в своей вариабельности и частично обусловленным обучением? Уверены ли мы, что млекопитающие унаследовали свои поведенческие образцы поведения? Этолог ответит: да, конечно, поведение млекопитающих более вариабельно, и обучение играет у них огромную роль, но тем не менее каждый вид показывает поведение, характерное для него - например, относительно передвижения, питания, ухаживания и спаривания, заботы о молодняке - и представляется крайне маловероятным, что всем этим образцам поведения целиком научаются. Кроме того, как показал Бич для крыс, а Коллиас и Блаувельт - для коз, продуктивно исследовать их поведение теми же самыми методами и концептуализировать сведения тем же самым образом, который оказался столь полезным в случае более низших позвоночных. Что касается поведенческих паттернов, нет каких-либо признаков резкого разрыва между рыбами, птицами и млекопитающими, кроме как анатомических. Напротив, несмотря на приобретение важных новых черт, имеются все признаки эволюционного континуума. Образцы поведения строительства, по-видимому, остаются важными для содействия базисным биологическим процессам у млекопитающих, как это происходит и у других видов; и в той мере, в какой человек имеет сходные анатомические и физиологические компоненты этих биологических процессов с другими млекопитающими, было бы странно, если бы он не обладал по крайней мере некоторыми из сходных с ними поведенческих компонентов.
Для таксономических целей может быть достаточно точного описания поведенческих паттернов. Для науки о поведении, однако, мы должны знать намного больше. В особенности нам требуется как можно больше знать о природе тех условий для организма, как внутренних, так и внешних, которые определяют данный образец поведения.
Для нашего познания соответствующих условий, внешних для организма, этологи внесли большой вклад. Хейнрот был одним из первых, указавшим на то, что видо-специфические модели поведения часто активируются посредством восприятия довольно простых зрительных или слуховых сигналов, к которым они врожденно чувствительны.
Хорошо известными примерами этого, проанализированными посредством экспериментов с использованием манекенов различных цветов и форм, являются примеры призыва к спариванию со стороны самца колюшки, который пробуждался восприятием макета, напоминавшего беременную самку, реакции пристального глазения детеныша серебристой чайки, пробуждавшейся видом красного пятна, сходного с пятном на клюве взрослой чайки, и позыва к нападению со стороны самца малиновки, который пробуждался видом на его территории пучка красных перьев, сходных с перьями на груди самца-соперника. Все эти три случая ответных реакций, по-видимому, пробуждались восприятием довольно простого сигнала, известного как "знаковый стимул".
Очень много этологических работ было посвящено распознанию знаковых стимулов, которые пробуждаются различными видо-специфическими образцами поведения у рыб и птиц. В той мере, в какой многие из этих поведенческих паттернов содействуют социальному поведению - ухаживанию, спариванию, кормлению детенышей родителями и следованию детенышей за родителями - было пролито много света на природу социального взаимодействия. У многих видов было показано, что поведение, содействующее спариванию и родительству, контролируется восприятием знаковых стимулов, представленных другими особями того же вида, таких, как размах хвоста, или цвет клюва, или пение, или крик, существенные характерные черты которого являются проявлениями вполне простого сигнала. Такие знаковые стимулы известны как "социальные высвободители".
Является или нет необходимый внешний стимул у млекопитающих столь же простым, как у рыб и птиц, недавно обсуждал Бич, американский психолог, чья работа о поведении самцов крыс во время спаривания и о спасении от гибели детенышей крысами-самками основана на методах и концепциях, сходных с европейской школой этологии с ее зоологическими корнями. После многих экспериментов Бич и Джейнс (1956) пришли к заключениям, которые, на первый взгляд, относят крыс в другую категорию - к малиновкам; оба образца поведения, заключают они, основаны на стимульном паттерне, который является мультисенсорным по своей природе. Тем не менее, они остаются осторожными, и в личной беседе Бич указал на возможность, выдвинутую Тинбергеном, "что если мы фрагментируем тотальный материнский ответ взрослой женщины во взаимодействии с младенцем на индивидуальные секции или сегменты, вполне может оказаться, что каждый элемент в последовательном паттерне в действительности контролировался простым чувствительным сигналом ". Кроме того, в той же беседе он отмечал, что "поведение очень молодых млекопитающих может управляться посредством более простого сенсорного контроля, чем то поведение, которое имеет место во взрослом возрасте", и что более чем вероятно, что определенные взаимодействия пробуждаются чем-то, напоминающим знаковый стимул. Взгляды такого рода, исходящие от исследователя столь высокого ранга, как Бич, ничего не говорят в поддержку того, что этологический подход неприменим к млекопитающим.
Эксперимент также может использоваться для того, чтобы пролить свет на условия, внутренние для организма, которые необходимы для активации поведенческого паттерна. Они включают в себя созревание тела и центральной нервной системы, как в случае полета у подрастающих птиц, и эндокринный баланс, как в случае сексуального поведения большей части, если не всех, позвоночных. Они также включают в себя, был или нет данный образец поведения активирован недавно, так как хорошо известно, что многие инстинктивные действия вызываются менее легко после их недавнего проявления, чем после периода бездействия. После совокупления немногие животные возбуждаются столь же легко, как и до него. Это и сравнимые изменения модели поведения явно обусловлены изменением в состоянии самого организма, и во многих случаях эксперименты показывают, что такое изменение лежит внутри центральной нервной системы. Для объяснения этих изменений Лоренц (1950) постулировал ряды резервуаров, каждый из которых наполнен "реакцией специфической энергии ", подходящей для данного образца поведения. Считалось, что каждый такой резервуар контролируется клапаном (врожденный пусковой механизм или ВПМ), который может быть открыт при восприятии подходящего знакового стимула, так что реакция специфической энергии может разряжаться в осуществлении специфического поведения. При исчерпании энергии данное поведение прекращается. Впоследствии он предположил, что при закрытом клапане энергия вновь аккумулируется и по прошествии некоторого времени данный процесс готов к повторению. Эта психогидравлическая модель инстинкта со своим резервуаром и аккумуляцией "энергии" имеет явное сходство с теорией инстинкта, выдвинутой Фрейдом, и можно допустить, что как Фрейд, так и Лоренц пришли к постулированию сходных моделей в результате попытки объяснить сходное поведение.
Как бы там ни было, эта психогидравлическая модель в настоящее время дискредитирована. Она более не поддерживается ни Лоренцом, ни Тинбергеном, и со своей стороны, я надеюсь, что настанет время, когда от нее откажется также и психоанализ. Ибо она не только механически непродуманна, но и не способна правильно интерпретировать данные. Многие эксперименты в последние годы продемонстрировали, что поведенческие паттерны прекращаются не потому, что у них иссякла некая гипотетическая энергия, но потому, что они были "приглушены" или "выключены". Различные психологические процессы могут приводить к этому результату. Одним таким механизмом, долгосрочно влияющим на поведение, является приобретение привычки. Действие другого механизма с краткосрочным влиянием иллюстрируется экспериментами, использующими собак с воспаленным пищеводом. На них было продемонстрировано, что акты принятия пищи и питья прекращаются проприоцептивными и/или интероцептивными стимулами, которые возникают во рту, в пищеводе и в желудке и которые у неповрежденного животного являются результатом осуществления самих действий; другими словами, имеется механизм для негативной обратной связи. Такое прекращение действия не обусловлено усталостью или удовлетворением потребности в пище и питье; вместо этого само действие порождает стимулы обратной связи, которые его прекращают. (Для обсуждения смотрите работы Дейч (1953) и Хинде (1954).)
В равной мере интересны наблюдения этологов, что, будучи активируемо экстероцептивными стимулами, поведение может также прекращаться ими. Мойнихэн (1953), например, продемонстрировал, что влечение к высиживанию птенцов у черноголовой чайки ослабляется лишь тогда, когда она сидит в гнезде с должным образом расположенными в нем яйцами. До тех пор пока продолжается эта ситуация, птица сидит спокойно. Если сдвинуть яйца или нарушить порядок их расположения, чайка становится беспокойной и стремится к совершению действий по строительству гнезда. Это беспокойство продолжается до тех пор, пока она снова не станет испытывать стимулы, проистекающие от правильно организованной полной кладки яиц. Сходным образом Хинде (1954) наблюдал, что ранней весной простое присутствие самки зяблика приводит к снижению ухаживающего поведения самца, такого, как пение и поиск. Когда она присутствует, он спокоен, когда она отсутствует, он становится активным. В этом случае, где социально соответствующий образец поведения подавляется знаковыми стимулами, проистекающими от другого члена того же самого вида, мы, вероятно, можем говорить о "социальном подавителе" как термине, параллельном "социальному высвободителю".
Представляется вероятным, что концепции социального высвободителя и социального подавителя окажутся ценными в исследовании невербального социального взаимодействия у людей, и в особенности взаимодействия, которое эмоционально окрашено; я вновь вернусь к ним при обсуждении возможного применения этих идей к исследованию развития ребенка.
Наша базисная модель для инстинктивного поведения является, таким образом, целым, охватывающим видо-специфический паттерн поведения, направляемый двумя сложными механизмами, где один механизм контролирует его активацию, а другой - его окончание. Нередко обнаруживается, что многие отдельные образцы поведения, каждый из которых был выделен в результате тщательного исследования, связаны вместе таким образом, что в результате возникает такое сложное поведение, как строительство гнезда или любовное ухаживание. Биологическая функция этих паттернов поведения и их более высокой организации заключается в поддержании базисных жизненно важных процессов метаболизма организма и воспроизводства потомства; они являются соответственными частями На уровне молярного функционирования физиологических процессов, также связанных с метаболизмом и воспроизводством, которые давно уже являлись предметом исследования физиологии. Подобно последним, их основные формы для каждого вида являются унаследованными, и, как предположил Дарвин сто лет тому назад, их передающиеся по наследству вариации так же подвергаются естественному отбору, как и в случае любой другой наследуемой характерной черты.
Естественно, эта модель не уникальна для этологии. Сходная модель была независимо выдвинута по крайней мере одним экспериментальным психологом (Deutsch, 1953), и многие экспериментальные данные, связанные с ролью интероцептивных стимулов, были собраны психологами и физиологами. Это иллюстрирует комплементарную природу этологических и психологических подходов. Они не только комплементарны, но, начиная с Уильяма Джеймса и далее, имелись психологи, которых остро интересовали феномены, изучаемые этологами, и некоторые из них, подобно Йеркесу и Бичу, внесли важные научные вклады. Главными вкладами этологов были: анализ сложной последовательности инстинктивного поведения, такого, как любовное ухаживание или строительство гнезда, разлагаемого на ряд сложных образцов поведения, каждый из которых управляется своим собственным сложным механизмом и совместно организуется в большее целое; выделение тех черт поведения, которые передаются по наследству; и открытие того, что как в активации моделей поведения, так и в прекращении их действия экстероцептивные стимулы играют значительную роль.
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению применения этих концепций к исследованию развития ребенка, я хочу кратко упомянуть две другие концепции, в продвижение которых внесли свой вклад как этологи, так и психологи,- концепции о сенситивных фазах развития (1) и регуляции конфликта. Обе данные концепции являются центральными для психоанализа, и наше все более возрастающее их понимание представляет особый интерес для клиницистов.
Было обнаружено, что у растущей особи видо-специфические образцы поведения часто проходят через сенситивные фазы развития, во время которых определенные их характеристики устанавливаются либо постоянно, либо почти постоянно. Сенситивные фазы, которые обыкновенно имеют место, хотя не обязательно очень рано, в жизненном цикле, влияют на развитие по крайней мере в четырех различных отношениях:
(а) развивается ли вообще или нет данный образец поведения;
(б) интенсивность, с которой он позднее проявляется;
(в) точная двигательная форма, которую он принимает;
(г) особые знаковые стимулы, которые активируют или прекращают его действие.
(а) Модели поведения, которые развиваются у всех особей данного вида, когда они растут в "обычной" окружающей среде, могли бы вообще не проявиться, если окружающая среда ограничена неким особым образом. Таким образом, было показано, что побуждение клевать, которые явно заметно у каждого однодневного птенца, никогда не развивается, если птенца содержать в темноте в первые четырнадцать дней его жизни (Padilla, 1935). Сходным образом, склонность птенца дикой утки следовать за движущимся объектом, которая наиболее чувствительно выражена спустя примерно шестнадцать часов после вылупливания из инкубатория, не развивается, если в течение первых сорока часов после рождения у утенка нет объекта, чтобы за ним следовать (Weidmann, 1956). В каждом случае был упущен сенситивный период для "мобилизации" данного образца поведения, и поэтому такой паттерн вообще не смог появиться.
(б) В других случаях данный паттерн поведения может развиваться обычным образом, но, вследствие особых переживаний в младенчестве, проявляется у взрослого с необычной интенсивностью. Хорошо известным примером является вариация в поведении взрослых крыс в связи с припрятыванием пищи после нескольких дней пищевой фрустрации. Крысы, которых в младенчестве подвергали, в особом возрасте, периоду перемежающейся пищевой фрустрации, склонны запасать намного больше пищевых гранул, чем те крысы, которые не прошли через такой опыт в младенчестве. Эта работа была осуществлена экспериментальным психологом Хантом (1941).
(в) Во многих случаях двигательная часть модели поведения доступна процессам обучения, и было обнаружено, что эта доступность к обучению ограничена узким периодом времени. Одним из самых лучших исследованных примеров является обучение зябликов пению. Торп (1956) показал, что хотя определенные характерные черты нения развиваются даже у зяблика, растущего в изоляции, другим же чертам пения они научаются, и что это научение ограничено особыми периодами первого года жизни птицы. Пение, которому зяблик научается в это время, сохраняется у него на протяжении всей оставшейся жизни.
(г) Те знаковые стимулы, которые активируют или прекращают определенный поведенческий паттерн, могут вначале быть общими, а могут позднее, через процесс обучения, становиться более узкими. Этот процесс сужения, как было найдено, также ограничен коротким периодом жизненного цикла. Знаменитая работа Лоренца (1935) об "импринтинге" маленького гусенка хорошо известна; в то время как вначале гусенок будет следовать за любым движущимся объектом, размеры которого находятся внутри определенных широких рамок, после нескольких дней он станет следовать лишь за теми объектами, к которым привык, будь это мать-гусыня или человек; и он поступает таким образом без относительно к тому, получил ли он пищу или уход от этого объекта. Другим хорошо известным примером является пример лишившегося родителей молодого ягненка, который выращивается в доме фермера, привыкает к людям и впоследствии не может устанавливать социальные отношения с овцами.
Наконец, я хочу обратить ваше внимание на открытие, что в повседневной жизни обычного животного постоянно случаются конфликтные ситуации. Ушло то время, когда предполагалось, что один лишь человек несет на себе крест противоречивых импульсов; теперь нам известно, что им подвержены все виды птиц и зверей. Кроме того, мы узнали, что результат таких конфликтов у животных очень различен и иногда столь же плохо адаптивен, как это может быть у людей. Нет необходимости сталкивать животных с непреодолимыми задачами, прежде чем они начнут творить глупые вещи; легкое безумие у млекопитающей самки вскоре после рождения ею детеныша расстроит чувствительный механизм регуляции потенциально противоречивых импульсов, с одной стороны, так что она поедает плаценту, а с другой стороны, расстроит механизм заботы о детеныше, и это приведет ее к продолжению поедания, так что она пожирает своего детеныша, так же как и плаценту. Я полагаю, что нам станет известно намного больше от исследования тех механизмов, посредством которых конфликт регулируется у животных, и изучения тех условий, который приводят особь к принятию того или другого плохо адаптированного образца поведения. Лично я ожидаю, что здесь мы снова обнаружим сенситивные фазы развития, исход которых определяет, какой способ регуляций станет с тех пор привычно применять индивидуальное животное. Мне бы в особенности хотелось видеть, чтобы научные исследования были направлены на эту проблему - сенситивные фазы в разбитии способов регуляции конфликта; ибо я уверен, что решение данной проблемы обеспечит нас ключом к пониманию происхождения неврозов. Насколько мне известно, данной проблеме Пока не уделялось никакого внимания.
Применение этологических концепций к исследованию развития ребенка
Здесь рассмотрены основные концепции, выдвинутые этологами. Взятые вместе, они обеспечивают подход, очень отличающийся как от подхода теории обучения, так и от психоанализа, однако никоим образом не несовместимый с существенными компонентами каждого из них. Остается посмотреть, ведет или нет этот подход к лучшему пониманию сведений о развитии ребенка и обеспечивает или нет он стимул для более глубокого и более продвинутого исследования. Кажется несомненным, что он обеспечивает нас другими очками для взгляда на вещи и приводит нас к осуществлению различных исследований. Я проиллюстрирую это рассмотрением двух хорошо известных характерных черт социального поведения младенцев - их улыбки и их склонности начиная примерно с шестимесячного возраста и далее, испытывать привязанность к знакомой им фигуре матери.
Джеймс Бэрри говорил, что когда первый ребенок улыбнулся, улыбка разбилась на тысячу кусочков и каждый кусочек стал волшебным. Я вполне могу в это поверить. Улыбки младенцев - могущественное оружие, которое очаровывает и порабощает матерей. Кто может сомневаться, что младенца, который крайне охотно награждает свою мать улыбкой, любят больше всего на свете и наилучшим образом о нем заботятся?
В этих вводных замечаниях я непосредственно пустился в этологическое описание и объяснение улыбки младенца. Я представил ее вам как социального высвободителя - поведенческий паттерн, вероятно, видо-специфический для человека, который в обычных обстоятельствах созревает в первые недели жизни, одной из функций которого является пробуждение материнского поведения у матери. Далее я предположил, что он был развит в ходе эволюции человеческого рода, посредством различной частоты выживания, благоприятствующей тем младенцам, которые хорошо улыбались. Глядя на улыбку таким образом, меня, конечно, станет интересовать нахождение тех условий, внутренних и внешних для младенца, которые необходимы для вызывания улыбки, и тех условий, которые ведут к ее прекращению. В особенности я хотел бы узнать, является ли она ответом на зрительные и слуховые знаковые стимулы и подвержена ли она в каком-либо отношении сенситивным фазам развития. Кроме того, я ожидал бы обнаружения того, что она действует в качестве компонента в более высокой организации поведенческих паттернов, которые охватывают "поведение привязанности" у чуть более старшего младенца - а именно, комплекса поведения, связывающего ребенка с фигурой матери. Работа в этом направлении проводится в Тэвистоке моим коллегой Энтони Амброузом (2).
Этот подход, который легко интегрируется с теорией обучения, контрастирует с подходом, который строго ограничен теорией обучения.
Примерно двадцать лет тому назад Деннис (1935) отмечал, что маленькие младенцы (от семи до шестнадцати недель) улыбались на человеческое лицо и голос. Так как будучи теоретиком обучения, он был убежден в том, что эти стимулы не могут быть безусловными, он провел эксперименты, чтобы посмотреть, возможно ли определить такой безусловный стимул. Его метод состоял в том, чтобы растить младенцев таким образом, чтобы в той мере, в какой это возможно, их кормление и другой уход за ними осуществлялись в условиях, которые не давали бы им возможности видеть человеческое лицо или слышать человеческий голос; он ожидал, что со временем станет возможно определить, на что же младенцы, естественно, отвечали улыбкой. Однако результаты исследований не подтвердили его ожиданий; младенцы, воспитываемые таким образом, все так же улыбались на человеческое лицо, и никакое другое стимульное условие не было столь эффективным. Поэтому он отметил, что не нашел никакого свидетельства существования безусловного стимула для ответной улыбки, который мог бы вызываться человеческим лицом.
Тем не менее, Деннис не мог поверить своим глазам. Не зная трудов Хейнрота и Лоренца, он продолжал не допускать возможности того, что человеческое лицо само по себе является эффективным невыученным стимулом на (ошибочном) основании, что не наблюдалось какого-либо свидетельства сходной специфичности в сенсорном регулировании невыученных ответных реакций у животных. Вместо этого он выдвинул спекулятивную теорию, что улыбка возбуждается вследствие процесса обусловливания "любым стимулом, который возвещает освобождение младенца от дистресса". Явно видно, что исключительная опора на теорию обучения, хотя она и вдохновила его на интересные эксперименты, сделала для него затруднительным делом придать должный вес как своим собственным находкам, так и альтернативным объяснениям.
Десять лет спустя Шпиц и Вольф (1946) опубликовали дальнейшую экспериментальную работу по улыбке младенца. Во многих экспериментах, используя маски, они продемонстрировали, что у младенцев в возрасте от двух до шести месяцев, взятых из разных расовых и культурных слоев, улыбка пробуждается визуальным конфигурационным качеством человеческого лица. Они далее утверждали, что эта конфигурация должна включать в качестве элементов два глаза в полной лицевой позиции и в движении.
Эти наблюдения были с тех пор широко подтверждены и расширены Аренсом (1954), который также показал, как конфигурация лица, необходимая для пробуждения улыбки младенца, становится более сложной с возрастом. Что по крайней мере одним из экстероцептивных стимулов, который пробуждает улыбку у двух-трехмесячного младенца, является вполне простой визуальный сигнал, представляется неизбежным и принимается как таковой обоими авторами. Поэтому удивительно обнаружить, что при обсуждении двигательного компонента улыбки Шпитц не считает его врожденным видо-специфическим паттерном. В личных беседах он явно высказывался в пользу того, что вместо этого он рассматривает его как двигательный ответ, которому младенец научился в результате способствующего обусловливания. Сравнивая это с обучением языку через отбор и специализированное использование природно данных фонем, Шпиц пишет:
"Отбор происходит посредством прогрессивного подавления (или отбрасывания) не приспособленных для данной цели паттернов и усиления приспособленных для данной цели паттернов поведения. Именно это я имею в виду, говоря, что ответная улыбка является приобретенной поведенческой реакцией в ответ на материнский уход; он с самого начала присутствует в качестве одного из многих дюжин физиогномических паттернов поведения; он кристаллизуется из них в ответ на материнский уход, то есть к началу объектных отношений".
Шпиц не поддерживает с готовностью представление о том, что моторный компонент ответной улыбки у Человеческого младенца может быть врожденным и к возрасту шести недель или около того так организован, что все готово для его пробуждения подходящими стимулами.
Однако нет ничего более правдоподобного. В конечном счете, в ходе эволюции человека имели место огромные риски. В процессе его исход дела был решен в пользу гибкости поведения и поэтому в пользу обучения и ухода от врожденной стабильности. Однако было бы странно, если бы произошел полный отказ от биологической безопасности, которая проистекает от фиксированных паттернов поведения. Плач, сосание и улыбка, по-моему, являются некоторыми из многих наших врожденных двигательных паттернов и представляют природную страховку против того, чтобы рискованно ставить все на карту обучения.
Тем не менее, я признаю, что данный случай не доказан и, возможно, никогда не будет абсолютно доказан. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что в представленной мной картине нет ничего такого, что было бы несовместимо с влиянием обучения на улыбку. И действительно, у нас есть веская причина считать, что это так и есть. Недавно Брекбилл (1956) сообщила об эксперименте, в котором две группы младенцев в возрасте между четырнадцатью и восемнадцатью неделями подвергались, каждая в течение двух недель, двум различным степеням "награды" за улыбки; "наградой" являлось дополнительное внимание со стороны экспериментатора. В конце данного периода две эти группы существенно отличались в ожидаемом направлении в отношении частоты и продолжительности улыбки младенцев. Ее заключение о том, что на улыбку влияет способствующее обусловливание, представляется, на основании приведенных ею фактов, хорошо обоснованным. Всякое дальнейшее предположение о том, что улыбка должна пониматься исключительно с точки зрения способствующего ей обусловливания, не подкрепляется ее данными и, как я уже говорил, представляется неправдоподобным. Из-за того что ходьба и бег улучшаются практикой, мы не заключаем, что они приобретаются исключительно обучением - а если бы мы это заключили, то определенно были бы неправы!
Многое зависит от того, каким образом мы концептуализируем улыбку младенца; вопросы социального развития, на которые мы ищем ответы в исследовании, будут сформулированы различным образом; вероятно, изменятся все наши концепции человеческого социального взаимодействия; а защищаемые нами клинические и образовательные методы станут иметь иное выражение. Давайте кратко рассмотрим, какое воздействие это окажет на исследование раннего социального развития.
Если мы всецело примем точку зрения теории обучения, мы станем воспринимать человека как животное без каких-либо врожденных социальных ответных реакций. Затем мы столкнемся, как это поняли и Хэзерс (1955), и Гевиртц (1956) с проблемой понимания того, как так получается, что к возрасту семи или восьми месяцев младенец развивает сильную эмоционально окрашенную привязанность к своей матери. Тогда значительная часть нашей экспериментальной работы будет направлена на прояснение того, как происходит такое развитие через процессы обучения, основанные на удовлетворении физиологических потребностей.
С другой стороны, если мы примем этологическую точку зрения, мы пойдем совершенно другим путем. Во-первых, мы будем настороже относительно ряда видо-специфических поведенческих паттернов у младенцев, которые, подобно улыбке, содействуют взаимодействию его с матерью. (Двумя из них, которые могут иметь подобный характер и которые мы надеемся исследовать в Тэвистоке, являются плач и склонность младенцев протягивать свои ручонки, что, по-видимому, всегда интерпретируется взрослыми как делание, чтобы их взяли на руки). Определив их, мы попытались бы проанализировать те высвобождающие и подавляющие стимулы, к которым данные паттерны поведения чувствительны. Мы ожидали бы обнаружить, что такие стимулы обычно представлены матерью, и мы стали бы искать их в таких вещах, как eё внешность, тон ее голоса и воздействие рук. Кроме того, мы были бы настороже в отношении сенситивных фаз, развития через которые могут проходить эти образцы поведения (как в отношении их созревания, так и в отношении их выученных компонентов), в отношении процесса, в котором различные социальные ответные реакции интегрируются в более сложное целое, в отношении ситуаций, когда они вступают в конфликт с несовместимыми моделями поведения, такими, как враждебность или бегство, в отношении "стрессовых " ситуаций, которые могут приводить к их временной или возможно постоянной дезинтеграции, в отношении их воздействия на материнское поведение, и так далее.
Очевидно, что это две очень различные исследовательские программы. Помимо их согласования с концепциями, проистекающими от психоаналитического и другого клинического опыта, главная причина для предпочтения этологического подхода заключается в том, что он уже оказался продуктивным в анализе социального развития и социального взаимодействия уv других видов, в то время как теория обучения, как отмечает сам Гевиртц, была разработана для объяснения феноменов, относительно более простых, и поэтому все еще должна доказывать свою состоятельность.
Отдавая предпочтение этологическому подходу, я надеюсь, нет необходимости повторять, что он не отвергает теорию обучения. Напротив, для понимания многих процессов изменения, которым подвергаются компоненты инстинктивных паттернов поведения, она незаменима и поэтому является дополнительной к этологии.
Сходным образом, работа Пиаже (1937) также дополнительна к этологическому подходу. Даже если мы правы, полагая, что в первые месяцы жизни младенца высвобождение и подавление стимулов социальных поведенческих проявлений лежит в природе простых сигналов, вскоре это прекращает быть справедливым. Уже к шести месяцам стимулы, содействующие социальному поведению ребенка, включают в себя сложные формы восприятия, тогда как на втором году жизни ребенок развивает способность к символическому мышлению, которое приводит к громадному расширению тех стимулов, которые для него социально значимы. В понимании этого изменения концепции Пиаже также представляются незаменимыми. Тем не менее, нам нет надобности предполагать, что так как индивид стал способен использовать более сложные процессы понимания и концепции, на него обязательно полностью перестают влиять более примитивные стимулы. Напротив, кажется правдоподобным, что, подобно шимпанзе, столь трогательно описанным Йеркесом, мы продолжаем испытывать подобное воздействие и что в состояниях тревоги и стресса мы особенно чувствительны к ним.
Это приводит нас к связи этологии с психоанализом. Очевидно, что в той мере, в какой психоанализ имеет дело с человеком, как использующим символы животным, с выдающимися способностями к обучению, и поэтому к задерживанию, искажению и сокрытию выражения инстинктивных реакций, он исследуется в области, примыкающей и дополнительной к этологии. Однако в той мере, в какой рассматриваются сами инстинктивные поведенческие реакции, представляется вероятным, что две эти дисциплины частично перекрывают друг Друга. В этой связи интересно воспроизвести мнение Фрейда, выраженное свыше сорока лет тому назад (Freud, 1915), что для дальнейшего понимания инстинкта психология будет также искать помощи у биологии. Как результат развития уходящей корнями в биологию науки этологии, я считаю, что сейчас пришло это время и что психоаналитическая теория инстинкта может быть заново сформулирована. Здесь не место предпринимать попытку обсуждения этой огромной и противоречивой темы. Однако очевидно, что такие понятия, как понятие первичного нарциссизма и контроля инстинкта, которые являются исключительно результатом социального обучения, не будут предпочтительны, в то время как такие понятия, как понятие первичных человеческих взаимоотношений, неизбежности интрапсихического конфликта, механизмов защиты от конфликта и способов регуляции конфликта, будут центральными. Одним из результатов такой новой формулировки может быть более экономичная и последовательная основная часть психоаналитической теории.
Эмпирическое исследование всех этих линий мышления будет задачей нового поколения. Будет ли оно осуществлено в этой стране, зависит от общественного мнения в британской психологии, которое высоко ценит все эти подходы, признает их дополнительными друг для друга и поэтому приводит к тому, что аспиранты и студенты получают знания в отношении всех их основных принципов.
Постскриптум
Защищаемый подход был принят с заметным успехом Мэри Солтер Эйнсворт, многие из публикаций которой приведены в списке литературы на страницах 161-162, а также Николасом Блюртоном Джонсоном (1972).
Относительно современного описания этологических концепций и открытий в отношении человека смотрите работу Хинде (1974).
Примечания
В первоначальной версии я использовал распространенный в то время термин "критическая фаза развития ". Это, однако, вело к тому неудобству, что скрыто подразумевалось, что факт, происходит ли данное развитие, играет первостепенную роль или не играет никакой, что, конечно же, не так. Поэтому впоследствии был принят термин "сенситивная фаза развития", указывающий на то, что во время этой фазы ход рассматриваемого развития не является более чувствительным к условиям окружающей среды.
2 Смотрите работу Амброуза (1963).
Печаль детства и ее значение для психиатрии
Боулби Джон
"Создание и разрушение эмоциональных связей" Лекция 3
Каждый гoд на своем ежегодном собрании Американская психиатрическая ассоциация приглашает лектора, обычно психиатра не из США, чтобы прочесть лекцию в память Адольфа Мейера. Меня пригласили в 1961 году прочесть лекцию на собрании, проводимом той весной в Чикаго. Она была опубликована впоследствии в том же году.
В течение полувека или более существовала научная школа, которая считала, что переживания младенчества и детства играют огромную роль в определении того, вырастает или нет индивид склонным к развитию психиатрического заболевания. Для развития этой школы Адольф Мейер внес огромный вклад. Настаивая, что психиатрический пациент - это человек и что его нарушенное мышление, чувствование и поведение должны рассматриваться в контексте окружающей среды, в которой он живет и жил, Адольф Мейер предлагал нам обращать внимание на все сложные детали истории жизни пациента как на возможные ключи к его заболеванию. "Наиболее ценной определяющей чертой является, как правило, форма эволюции (симптома) комплекса, время, продолжительность и обстоятельства его развития ". Хотя я не нахожу каких-либо свидетельств того, что сам Адольф Мейер серьезно интересовался переживаниями младенчества, они, очевидно, находились в поле его зрения и в действительности являются логическим расширением его работы.
С годами набирало вес представление о том, что переживания раннего детства играют большую роль для развития психиатрического заболевания. Тем не менее, эта базисная гипотеза всегда была темой острой полемики. Некоторые исследователи считали, что эта гипотеза ошибочна - что корни психиатрического заболевания надо искать не в раннем детстве; в то время как другие, полагающие, что данная гипотеза плодотворна, все еще не могут разобраться в том, какие же именно переживания младенчества имеют значение. Много споров возникает по причине трудности проведения удовлетворительного исследования в этой области - трудности, проистекающей, главным образом, от длительного временного интервала между теми событиями, которые вызывают значимые последствия и служат причиной начала явного заболевания. Поэтому для науки психопатологии приводящая в замешательство проблема заключается в том, как наилучшим образом исследовать эту область, чтобы достичь более прочного ее обоснования. В план моей лекции входит дать описание последних результатов одной линии исследования, которая была предпринята для выяснения влияния на развитие личности утраты материнской заботы в раннем детстве.
В течение последних двадцати лет было собрано много информации, указывающей на причинную взаимосвязь между утратой материнской заботы в ранние годы жизни и нарушенным развитием личности (Bowlby, 1951). Много общераспространенных отклонений в поведении, по-видимому, проистекает от подобных переживаний в младенчестве и раннем возрасте - от формирования делинквентного характера до личности, склонной к состояниям тревожности и депрессивному заболеванию. Хотя все еще встречаются психиатры, которые оспаривают это общее заключение, более общепринятым отношением является согласие с тем, что в этом, вероятно, что-то есть, и необходимо получение дополнительной информации. Особая потребность испытывалась в гипотезе, которая сможет обеспечить правдоподобное объяснение, как те неблагоприятные последствия, которые приписываются отделению от матери и депривации, следуют за такими переживаниями. В дальнейшем я представлю краткое описание того, к чему приводят нас полученные данные.
Настоящая работа не следует обычной практике психиатрического исследования, которое начинается с более или менее определенного клинического синдрома и затем пытается описать лежащую в его основании патологию. Вместо этого она начинается с класса переживаний, утраты материнской фигуры в младенчестве и раннем детстве, и пытается отсюда проследить те психологические и психопатологические процессы, которые обычно происходят в результате этой утраты. В физиологической медицине давно уже произошел такого рода сдвиг в исследовательской ориентации. Например, в изучении патологии хронического воспаления легких исследователь вряд ли станет теперь начинать с выделения группы случаев, которые все показывают хроническую инфекцию, и с попытки обнаружения действующего инфекционного фактора или факторов. Более вероятно, что он начнет исследование с точно определенного фактора, возможно, туберкулезной гранулемы или некоторого недавно выделенного вируса, для того чтобы исследовать те физиологические и физиопатологические процессы, которые он порождает. Следуя таким путем, он может открыть много вещей, которые не столь прямо связаны с хроническим инфекционным воспалительным состоянием. Теперь он не только может пролить свет на определенные острые инфекции и продромальные состояния, но и почти наверняка обнаружит, что инфекция других органов, помимо легких, вызывается действием патогенного организма, выбранного им для исследования. Его центром интереса более не является только данный клинический синдром: этот синдром, скорее, является одним из разнообразия последствий воздействия данного патогенного фактора.
Патогенный фактор, который нас интересует,- это утрата материнской фигуры в период примерно от шести месяцев до шестилетнего возраста. В первые месяцы жизни младенец научается различать особую фигуру, обычно свою мать, и развивает сильное пристрастие находиться во взаимности с ней. После примерно шестимесячного возраста он безошибочно показывает свои предпочтения (Shaffer, 1958). На протяжении второй половины первого года жизни и во время всего второго и третьего годов жизни он тесно привязан к материнской фигуре, что означает, что ему хорошо в ее присутствии, и он испытывает страдание от ее отсутствия. Даже кратковременные разлуки с матерью часто приводят его к протесту; а более длительные разлучения всегда порождают его протест. После третьего года жизни ребенок проявляет поведение привязанности чуть менее охотно, чем ранее, хотя это изменение происходит лишь в степени привязанности (1). Начиная примерно с года и далее другие фигуры, например, отец или бабушка, также могут становиться для него значимыми объектами, так что его привязанность не ограничивается только одной фигурой матери. Тем не менее, обычно имеет место хорошо заметное предпочтение одного и того же лица. В свете филогенеза вероятно, что те инстинктивные связи, которые привязывают маленького ребенка к материнской фигуре, основываются на том же общем паттерне, что и у других видов млекопитающих (Bowlby, 1968; Rollman-Branch, 1960; Harlow, Zimmermann, 1959).
Большинство детей страдает от небольшого разрыва этой главной привязанности в ранние годы своей жизни. Они живут со своей материнской фигурой, и во время сравнительно коротких периодов, когда она отсутствует, за ними присматривает знакомое второстепенное лицо. С другой стороны, меньшая часть детей испытывает подлинные разрывы такой эмоциональной связи. Мать может бросить их или умереть; их могут положить в больницу или в лечебное учреждение; они могут передаваться от одной материнской фигуры к другой, замещающей ее. Разрывы эмоциональной привязанности могут быть длительными или кратковременными, однократными или повторяющимися. Те переживания, которые подпадают под общую рубрику материнской депривации, столь многочисленны, что никакое исследование не может изучить их все. Если поэтому хотят осуществить эффективное исследование, рамка изучаемого явления должна определяться намного уже для каждого проекта.
Что касается исследовательских стратегий, то у исследователя есть выбор (Ainsworth, Bowlby, 1954). Имеется очевидная возможность исследовать выборку более взрослых детей и старших, которые прошли через такие переживания в ранние годы жизни с точки зрения выявления, отличаются ли они от сравнимой выборки людей, не прошедших через такие же переживания. Хотя данная стратегия чудесно взята на вооружение Гольдфарбом (1955), у нее много практических трудностей. Главные трудности состоят в определении подходящей выборки, отборе и исследовании соответствующих методов проверки и нахождении надежных инструментов для измерения тех черт личности, в которых ожидается обнаружение отличий. Альтернативным подходом является исследование ответных реакций ребенка во время и в период, непосредственно следующий за данным переживанием. Проведя несколько не очень продуктивных лет, следуя первой стратегии, моя исследовательская группа в течение большей части прошедшего десятилетия сконцентрировалась на второй стратегии. Это оказалось намного более полезным делом.
Отделение от матери и печаль детства
Базисные данные, которые нас интересовали, являлись наблюдениями поведения здоровых детей определенного возраста, а именно, на втором и третьем году жизни, подвергаемых воздействию определенной ситуации нахождению в ограниченный период времени в районных детских яслях или в отделении больницы, где за ними ухаживали традиционным образом. Это означает, что ребенка лишили заботы материнской фигуры и всех заместительных фигур, а также знакомого окружения, и вместо этого его поместили в незнакомое место, где за ним ухаживают различные незнакомые люди. Дополнительные данные были получены от наблюдений за поведением ребенка дома в последующие месяцы после его возвращения и из сообщений родителей о его поведении. Благодаря работе Джеймса Робертсона и Кристофера Хейнике мы обладаем теперь большим количеством наблюдений, часть которых была опубликована (Robertson, Bowlby, 1952; Robertson, 1953; Bowlby, 1953; Heinicke, 1956), но некоторые из них все еще готовятся к печати (2). Мы вполне уверены в широко распространенных образцах поведения такого рода вследствие наблюдений многих других исследователей {Burlingham, Freud, 1942, 1944; Prugh et al., 1953; Illingworth, Holt, 1955; Roudinesco, Nicolas, David, 1952; Aurby, 1955; Schaffer, Callender, 1959), которые опубликовали достаточно сходную последовательность ответных реакций.
Описание поведения ребенка от 15 до 30 месяцев от роду, у которого было достаточно безмятежное взаимоотношение с матерью и который ранее не расставался с ней, обычно показывает предсказуемую последовательность его поведения. Оно может быть разбито на три фазы, в соответствии с которыми его отношение к матери является преобладающим. Мы описали их как фазы протеста, отчаяния и отчуждения. (В некоторых наших более ранних работах использовался термин "отрицание" для обозначения третьей фазы. Однако у него много недостатков, и поэтому мы от него отказались.) Вначале со слезами и гневом ребенок требует возвращения матери и надеется, что ему удастся ее вернуть. Это фаза протеста, и она может длиться несколько дней. Позднее он становится тише, но для проницательного взгляда ясно видно, что он столь же сильно, как и прежде, озабочен отсутствием матери и все еще жаждет ее возвращения; но его надежды увядают, и он находится в фазе отчаяния. Часто две эти фазы чередуются: надежда сменяется отчаянием, а отчаяние - новой надеждой. Однако в конечном счете происходит более серьезное изменение. Он кажется забывшим свою мать, так что когда она к нему приходит, он с любопытством на нее смотрит, и может даже казаться, что он ее не узнает. Это третья фаза - фаза отчуждения. В каждой из этих фаз ребенок склонен к вспышкам раздражения и эпизодам деструктивного поведения, часто яростно деструктивного типа.
Поведение ребенка после возвращения домой зависит от фазы, достигнутой в период разлуки с матерью. Обычно в течение некоторого времени он невосприимчив и нетребователен; до какой степени и как долго это продолжается, зависит от длительности разлучения и частоты его посещений. Например, когда его не посещали в течение ряда недель или месяцев, так что он достиг ранних стадий отчуждения, вероятно, что его невосприимчивость будет продолжаться от часа в день или более. Когда, наконец, она прерывается, становится явно выраженной интенсивная амбивалентность его чувств, усиленное цепляние, и всегда, когда мать его покидает, даже на какой-то момент, он испытывает острую тревогу и ярость. Начиная с этого времени, в течение недель или месяцев, мать может подвергаться нетерпеливым требованиям ребенка ее присутствия с ним и гневным упрекам, когда она отсутствовала. Когда, однако, ребенок не был дома в течение времени больше полугода или когда разлуки были неоднократными, так что он достиг продвинутой стадии отчуждения, имеется опасность того, что ребенок может оставаться постоянно отчужденным и никогда не восстановить свою любовь и привязанность к родителям. (Многие переменные влияют на поведение ребенка во время и после разлуки, что делает краткое схематическое изложение затруднительной. Данное описание относится в особенности к поведению ребенка, которого не посещают и о котором заботятся нянечки или другой персонал, кто не испытывает большого понимания или симпатии к их страданиям. Представляется вероятным, что свободное посещение и более проницательная забота могли бы смягчить вышеописанные процессы, но на этот счет до сих пор имеется слишком мало надежной информации.)
В настоящее время при интерпретации этих данных и связывании их с психопатологией ключевой концепцией является концепция детской печали (или траура). И действительно, имеются веские причины считать, что вышеописанная последовательность ответных реакций на разлуку с матерью - протест, отчаяние и отчуждение - является той последовательностью, которая, в том или другом варианте, характерна для всех форм траура. Вслед за неожиданной утратой, по-видимому, всегда наличествует фаза протеста, во время которой индивид, понесший утрату близкого человека, стремится либо в действительности, либо в мысли и чувстве восстановить утраченное лицо (3) и укорять его за то, что оно покинуло индивида. Во время этой и последующей фазы отчаяния чувства амбивалентны, в то время как настроение и поведение варьируют от прямой надежды, выраженной в гневном требовании возвращения Данного лица, до отчаяния, выражаемого в приглушенных жалобах - или даже вообще никак не выраженного. Хотя чередование надежды и отчаяния может продолжаться длительное время, в конечном счете развивается некоторая степень эмоционального отчуждения от утраченного лица. Пройдя дезорганизацию в фазе отчаяния, поведение на этой фазе становится реорганизовано на основе постоянного отсутствия данного лица. Хотя данная картина переживания горя как здоровой реакции не вполне знакома психиатрам, данные, говорящие в пользу ее справедливости, представляются очевидными (Bowlby, 1961).
Если эта точка зрения справедлива, тогда реакция маленьких детей на помещение в больницу или другое учреждение должна просто рассматриваться как один из вариантов основного процесса переживания печали ребенком. Те же самые ответные реакции и в такой же последовательности происходят не только в детском возрасте. Подобно взрослым, младенцы и маленькие дети, лишившиеся любимого человека, испытывают острую печаль и проходят через периоды траура (Bowlby, 1960). По-видимому, имеется лишь два взаимосвязанных отличия. Первое из них заключается в том, что у маленьких детей временная шкала сокращена, хотя и намного меньше, чем это иногда считалось. Второе отличие, которое важно для психиатрии, состоит в том, что в детстве процессы, ведущие к отчуждению, склонны очень быстро развиваться в той мере, в какой они соответствуют и скрывают сильное остаточное стремление к утраченному человеку и гнев на него, которые оба продолжают существовать, а также готовы к выражению на бессознательном уровне. Вследствие такого преждевременного начала отчуждения процессы переживания печали в детстве обычно (4) протекают таким образом, который у более старших детей и взрослых людей считается патологическим.
Раз мы осознали, что разлучение маленького ребенка с любимой материнской фигурой обычно ускоряет процессы печали патологического вида, мы можем соотнести полученные нами данные со сведениями из многих других исследований. С одной стороны, имеются данные, полученные исследователями, которые изучали печаль взрослых людей в качестве отправной точки для исследования психопатологии (Lindemann, 1944; Jacobson, 1957; Engel, 1961). С другой стороны, имеются намного более многочисленные работы, которые следовали традиционной модели психиатрического исследования, начинавшегося с изучения больного пациента, пытаясь понять, каковы были предшествующие причинно значимые события, и которые выдвинули гипотезу о том, что утрата любимого человека в некотором смысле патогенна.
Имеются различные виды исследований, которые указывали на возможно патогенную природу утраты любимого человека. Во-первых, имеются многочисленные работы, прототипом которых служит статья Фрейда "Печаль и меланхолия" (1917), которые связывают начало относительно острого психиатрического синдрома, такого, как состояние тревоги, депрессивное заболевание или истерия, с более или менее свежими утратами и постулируют, что клиническую картину следует понимать как результат переживания печали, принявшей патологическое протекание. Затем идут исследования, почти столь же многочисленные, которые связывают более хроническую степень психиатрического синдрома, такую, как склонность к эпизодической депрессии или трудность в переживании чувств, с утратой, которая произошла в юности или более раннем детстве пациента. В-третьих, имеется обширная психоаналитическая литература, которая пытается связывать склонность к психиатрическому заболеванию в последующей жизни с некоторой неудачей психического развития в раннем детстве. В-четвертых, все более растет количество работ, в которых приводится много фактов об утратах значимых лиц в детстве теми людьми, которые впоследствии развивали психиатрическое заболевание; и, наконец, имеется поразительное наблюдение, что индивиды склонны развивать психиатрическое заболевание в то время года, которое, по-видимому, определяется эпизодом в их детстве, когда они страдали от утраты родителя - так называемые реакции годовщины этого события.
Конечно, определенно невозможно в одной лекции систематически обсудить уместность данных, полученных из каждого этого источника. Самое большее, что можно сделать, это обратиться к немногим типическим исследованиям из каждой области (но исключая реакции годовщины событий) и кратко указать, как добытые ими данные, по всей видимости, соответствуют друг другу. Так как, однако, все наши тезисы вращаются вокруг природы процессов, действующих при переживании печали траура, и в особенности тех процессов, которые имеют место в первой фазе траура, необходимо уделить им добавочное внимание.
Побуждения к возвращению и упрекам утраченного лица: их роль в психопатологии
Не всегда осознается, что гнев - это непосредственный, общераспространенный и, возможно, неизменный ответ на утрату значимого лица. Вместо гнева, указывающего на то, что траур протекает патологическим образом, - точка зрения, предложенная Фрейдом И довольно повсеместно разделяемая,- существующие данные явно свидетельствуют о том, что гнев, включая гнев на утраченное лицо, является интегральной частью переживания реакции горя. Функция данного гнева, по-видимому, заключается в добавлении энергии напряженным усилиям как к возвращению обратно утраченного лица, так и к отговариванию его или ее от повторного ухода, которые характерны для первой фазы траура. Так как до сих пор этой фазе не только уделялось малое внимание, но она также представляется решающе важной для понимания психопатологии, необходимо исследовать ее более тщательно.
Так как в случаях смерти гневное усилие вернуть утраченное лицо столь очевидно тщетно, имела место тенденция считать само это усилие патологическим. Я полагаю, что это неверно. Оно далеко не патологично, ибо есть доказательства того, что открытое выражение этого могущественного стремления при всей его возможной нереалистичности и безнадежности является необходимым условием, чтобы траур стал развиваться по здоровому руслу. Лишь после того как было предпринято любое возможное усилие вернуть утраченное лицо, индивид в состоянии признать свое поражение и вновь начать ориентировать себя на мир, в котором любимое лицо принимается как безвозвратно потерянное. Протест, включающий гневное требование возвращения данного лица и упреки его или ее за уход, в такой же степени является частью реакции на утрату взрослого человека, в особенности на внезапную утрату, как и реакцией маленького ребенка.
Это может вызывать у нас недоумение. Как так получается, что высказываются подобные требования и упреки, когда человека столь очевидно нельзя вернуть? Почему отмечается такое грубое невосприятие реальности? На это, по-моему, есть хороший ответ: он проистекает из теории эволюции.
Во-первых, рассмотрение поведенческих ответов на утрату, проявляемых нечеловеческими видами - птицами, низшими млекопитающими и приматами - говорит в пользу того, что эти ответные реакции имеют Древние биологические корни. Хотя это плохо задокументировано, но доступная нам информация показывает, что многие, если не все, проявления реакции потери, описанные для людей,- тревога и протест, отчаяние и дезорганизация, отчуждение и реорганизация,- являются правилом также для многих других видов. (Информация проанализирована Боулби (1961) и Поллаком (1961)' Приведем пример, процитированный Поллаком: самец шимпанзе, потерявший свою самку, как было записано, предпринимал неоднократные попытки пробудить ее. Он яростно вопил и временами выражал свой гнев, дергая короткие волосы у себя на голове. Позднее наступил плач и траур. С течением времени он стал более тесно привязан к своему смотрителю и испытывал более сильный гнев, чем ранее, когда смотритель покидал его.)
Во-вторых, нетрудно понять, почему должны были развиться эти ответные реакции. В дикой природе потерять контакт с прямой семейной группой чрезвычайно опасно, в особенности для детенышей. Поэтому в интересах как индивидуальной безопасности, так и воспроизводства видов должны существовать сильные связи, объединяющие членов семьи или расширенной семьи; а это требует, чтобы на каждую разлуку, столь бы кратка она ни была, реагировали немедленным, автоматическим и мощным усилием как по восстановлению семьи, в особенности в отношении члена, к которому испытывается наиболее тесная привязанность, так и к удержанию данного члена от повторного ухода. Высказывается предположение, что по этой причине унаследуемые образцы поведения (часто называемые инстинктивными) развились таким образом, что стандартные ответы на утрату любимых лиц всегда являются вначале побуждениями вернуть их назад, а затем бранью в их адрес. Если, однако, побуждения к возвращению назад потерянных лиц и брань в их адрес являются автоматическими откликами, встроенными в организм, из этого следует, что они будут приводиться в действие в ответ на любую и каждую утрату, и без различия между теми из них, которые реально восстановимы, и теми статистически редкими, которые таковыми не являются. Я считаю, что такая гипотеза объясняет, почему индивид, потерявший близкого человека, обычно испытывает непреодолимое побуждение вернуть этого человека, даже когда знает, что эта попытка безнадежна и укоряет его или ее, даже когда знает, что такой упрек неразумен.
Если тогда ни тщетное усилие вернуть утраченное лицо, ни гневные упреки в его или в ее адрес за уход не являются признаками патологии, то мы можем задаться вопросом, каким же образом патологический траур отличается от здорового переживания утраты? Исследование данных наводит на мысль, что одной из главных характеристик патологического траура является неспособность открытого выражения подобных побуждений вернуть назад и бранить утраченное лицо со всей тоской и печалью по ушедшему и гнев на него, которые они влекут за собой. Вместо своего открытого выражения, которое, хотя оно бурно и бесполезно, приводит к здоровому результату, побуждения к возвращению потерянного лица и его упрекам со всей присущей им амбивалентостью чувств подвергаются расщеплению и подавлению. Начиная с этих пор, они продолжают действовать в качестве активных систем внутри личности, но будучи не в состоянии найти открытое и прямое выражение, начинают влиять на чувства и поведение странным и искаженным образом. В результате этого возникают многие формы расстройств характера и невротическое заболевание.
Позвольте мне дать краткую иллюстрацию одной такой формы нарушения развития личности: она взята из случая, описанного Хелен Дейч (1937). Мужчина, о котором сообщала она, пришел для анализа в начале четвертого десятка лет без каких-либо явных невротических трудностей. Однако клиническая картина показывала, что это один из типов одеревенелого и бесчувственного характера. Хелен Дейч описывает, как "он проявлял полную блокировку аффекта без малейшего инсайта... У него не было никаких любовных взаимоотношений, никаких дружеских чувств, никаких реальных интересов. На любые события он проявлял одинаковую пустую и апатичную реакцию. У него не было никаких желаний и никаких разочарований... У него не было никаких реакций печали по поводу утраты живущих рядом людей, никаких недружелюбных чувств и никаких агрессивных импульсов". Как развивается такая бессодержательная и ущербная личность? В свете гипотезы относительно детского траура данная история совместно с материалом, полученным из анализа пациента, дает нам возможность построить правдоподобное объяснение.
Во-первых, история развития личности: когда ему было 5 лет, умерла его мать, и нам сообщили, что он реагировал на ее утрату без какого-либо выражения чувств (5). Кроме того, с тех пор у него не осталось никаких воспоминаний о каких-либо событиях, предшествующих смерти матери. Во-вторых, материал из анализа: пациент рассказывал, как в течение нескольких последующих лет детства он имел обыкновение оставлять дверь своей спальни открытой "в надежде, что к нему придет большой пес, который будет с ним очень добрым и осуществит все его желания". С этой фантазией было связано яркое детское воспоминание о суке, которая оставила своих щенков одинокими и беспомощными, когда она умерла вскоре после их рождения. Хотя в данной фантазии скрытое стремление к утраченной матери представляется явно выраженным, оно не проявляется непосредственным прямым образом. Вместо этого всякое воспоминание о матери исчезло из его сознания, и в той мере, в какой можно было заметить какие-либо сознательно выраженные аффекты по отношению к ней, они были враждебными.
Для объяснения процесса развития данной патологической личности я выдвигаю гипотезу (которая не очень отлична от гипотезы Хелен Дойч), что после смерти матери, вместо полнокровного выражения своего стремления вернуть мать и гнева за ее уход, траур пациента стремительно перешел к состоянию отчуждения. В результате его стремление и гнев к матери оказались запертыми внутри него, потенциально активные, но отрезанные от мира, и лишь остаток его личности был свободен для дальнейшего развития. В результате он развивался чрезвычайно убого. Если эта гипотеза обоснованна, задача лечения заключается в помощи пациенту восстановить скрытое страстное желание и печаль по утраченной матери и скрытый гнев за ее уход от него, другими словами, вернуться к первой фазе траура со всей ее амбивалентностью чувств, которые во время утраты были либо исключены, либо слишком быстротечны. Опыт многих аналитиков, хорошо проиллюстрированный в статье Рут (1957), свидетельствует о том, что лишь таким образом человек может восстановить жизнь, наполненную чувством и привязанностью.
В пользу данной гипотезы убедительно говорят наши наблюдения за маленькими детьми, разлученными со своими матерями и не навещаемыми ими, в особенности в отношении того, что нам известно о ранних стадиях отчуждения, которые следуют за протестом и отчаянием. Как только разлученный с матерью ребенок вступил в фазу отчуждения, он более не выглядит поглощенным мыслями об утраченной матери, а вместо этого выглядит удовлетворительно адаптированным к своему новому окружению. Когда приходит мать, чтобы забрать его домой, он не то что не приветствует ее, но ведет себя так, как будто едва ее знает, и далек от того, чтобы льнуть к ней, оставаясь отчужденным и невосприимчивым; такое состояние ребенка большинство матерей находят расстраивающим и непостижимым. Однако при условии, что разлука не была чересчур длительной, данное положение дел обратимо, и нас особо интересует то, что происходит с ребенком после такой перемены.
После того как ребенок вернулся и пробыл с матерью несколько часов или несколько дней, на смену отчужденному поведению приходит не только старая привязанность, но привязанность чрезвычайно возросшей интенсивности. Из этого ясно видно, что во время отчуждения узы, связывающие ребенка с матерью, не увядали тихим образом, как это предполагала Анна Фрейд (I960), также не имело место простое забывание ее. (Однако в более ранней публикации (Burlingham, Freud, 1942) Анна Фрейд приняла точку зрения, сходную с точкой зрения, высказываемой нами здесь.) Наоборот, данные свидетельствуют о том, что во время фазы отчуждения те побуждения, которые привязывают ребенка к матери и ведут его к стремлению вернуть ее, подвергаются воздействию защитного процесса. Некоторым образом они устраняются из сознания, но остаются латентными и готовыми вновь стать активными, с высокой интенсивностью при изменении обстоятельств. (Требуемое изменение обстоятельств различается в зависимости от той стадии, до которой дошло отчуждение. Когда ребенок все еще находится на ранних фазах отчуждения, возобновленная привязанность обычно наступает после воссоединения его с матерью: когда он находится на продвинутой стадии отчуждения, вероятно, требуется аналитическое лечение.) Это означает, что у младенцев и маленьких детей переживание разлуки обычно приводит к печали по утраченному лицу и к упрекам в его адрес за уход, которые остаются бессознательными. Можно сказать то же самое другими словами, а именно, что в раннем детстве утрата любимого лица порождает процессы траура, которые обычно принимают течение, считающееся у взрослых людей патологическим. Теперь возникает вопрос, являются ли защитные процессы, действие которых столь поражает после утраты любимого объекта в детстве, в той или иной мере отличными от того, что мы наблюдаем при здоровом оплакивании потери, или же они также имеют место в здоровом переживании горя, но с некоторым отличием в форме или времени протекания этих процессов. Данные свидетельствуют о том, что они действительно имеют место (Bowlby, 1961), но что в здоровом процессе оплакивания потери их начало задержано. В результате этого у побуждений вернуть утраченное лицо и укорять его или ее за уход есть достаточное время для выражения чувств, так что вследствие неоднократной неудачи, от этих побуждений постепенно отказываются, или, говоря языком теории обучения, они постепенно затухают. С другой стороны, то, что, по всей видимости, происходит в детстве (и в патологическом трауре в более поздние годы жизни), обусловлено ускорением действия защитных процессов. Как результат, у побуждений вернуть и укорять утраченное любимое лицо нет шансов для угасания, и вместо этого они продолжают существовать с серьезными последствиями для развития личности.
Давайте ненадолго вернемся назад, чтобы применить эти идеи к пациенту Хелен Дейч. После смерти матери, когда мальчику было пять лет, по-видимому, как печаль по матери, так и гнев на нее исчезли из его сознательного Я, Фантазия о приходе к нему пса показывает, однако, что они, тем не менее, продолжали существовать на бессознательном уровне. Данный клинический случай и свидетельства из других случаев наводят на мысль, что, хотя они оказались скованы, все же его любовь и гнев оставались направлены на возвращение мертвой матери. Таким образом, будучи заперты внутри по причине безнадежности, они были утеряны для развивающейся личности. С утратой матери мальчиком было утрачено также его чувство жизни.
Для обозначения действующих здесь защитных процессов используются два общепринятых термина: фиксация и подавление. Бессознательно ребенок остается фиксированным на утраченной матери: его побуждения вернуть мать и укорять ее и связанные с ними амбивалентные эмоции претерпевают подавление. После утраты любимого лица может иметь место еще один защитный процесс, тесно связанный с подавлением и альтернативный ему. Это "расщепление Эго " (Freud, 1938). В таких случаях одна часть личности, потайная, но сознательная, отрицает, что данное лицо действительно утрачено, и утверждает вместо этого, что либо с ним или с ней все еще имеется связь, либо он или она вскоре вернется; одновременно другая часть личности разделяет с друзьями и родственниками знание о том, что данное любимое лицо безвозвратно потеряно. При всей их несовместимости две эти части личности могут сосуществовать в течение многих лет. Как в случае подавления, расщепления Эго также приводят к психиатрическому заболеванию.
Неясно, почему в некоторых случаях та часть личности, которая все еще стремится вернуть утраченное лицо, должна быть сознательной, в то время как в других случаях она должна быть бессознательной. Также неизвестны условия, которые у детей, утративших близких людей, приводят к удовлетворительному развитию их личности в одних случаях и к неудовлетворительному - в других (6). Эта проблема исследовалась Хилгард (Hilgard, Newman, Fisk, 1969), Однако определенно известно, что стремительное начало защитных процессов подавления или расщепления с происходящей в результате этого фиксацией начинается намного легче в детстве, чем в более зрелые годы. В этом факте, по-моему, заключено главное объяснение, почему и каким образом переживания утраты в раннем детстве приводят к ущербному развитию личности и к склонности к психиатрическому заболеванию.
Поэтому я выдвигаю гипотезу, что у маленького ребенка переживания разлуки с материнской фигурой особенно склонны пробуждать такие психологические процессы, которые так же решающе важны для психопатологии, как воспаление и возникающий в результате этого тканевый рубец важны для физиопатологии. Это не означает, что в результате личность неизбежно станет калекой; но это действительно означает, что, как в случае, например, ревматического воспаления, слишком часто .формируется тканевый рубец, который в последующей жизни приводит к более или менее тяжелой дисфункции органов. Рассматриваемые процессы, по-видимому, являются патологическими вариантами тех процессов, которые отличают нормальные реакции оплакивания потерянного лица. Хотя эта теоретическая позиция очень похожа на многие другие в этой области, она, тем не менее, по-видимому, отлична от них. Ее сила заключается в связывании тех патологических ответных реакций, с которыми мы сталкиваемся у более взрослых пациентов, с реакциями на утрату, которые в действительности наблюдались в раннем детстве, таким образом обеспечивая более вескую связь между психиатрическими состояниями в последующей жизни и переживаниями детства. Давайте вернемся теперь к сравнению этой формулировки с некоторыми из предшествующих ей.
Две традиции в психоаналитическом теоретизировании
В течение этого столетия многие психоаналитики и психиатры пытались связать вместе психиатрическое заболевание, утрату любимого лица, патологический траур и детские переживания. Почти все из них в качестве отправной точки выбирали больного пациента.
Прошло более шестидесяти лет с тех пор, как Фрейд выдвинул впервые идею о том, что как истерия, так и Меланхолия являются проявлениями патологического траура, наступающего вслед за более или менее недавней тяжелой утратой (Фрейд, 1954), и более чем сорок лет с тех пор, как в работе "Печаль и меланхолия" он развил эту гипотезу систематическим образом (Freud, 1917). С этих пор было проведено множество других Исследований, каждое из которых различным образом поддерживало эту гипотезу (7). Клинический опыт и приводимые данные оставляют мало сомнений относительно справедливости главного утверждения - что многое в психиатрическом заболевании является выражением патологического траура - или что такое заболевание включает в себя многие случаи состояний тревожности, депрессивное заболевание и истерию, а также более чем один из типов расстройств характера. Здесь явно была открыта большая и важная область: ибо для ее исследования требуется проведение огромного объема дальнейшей работы. Споры начинаются, когда мы переходим к рассмотрению вопроса о том, почему те, а не другие индивиды реагируют на утрату таким патологическим образом: и выдвигаемая мной гипотеза находится среди других гипотез, которые пытаются объяснить происхождение такой различной чувствительности к потере любимого лица.
Выдвинутая Абрахамом (1924) гипотеза оказала влияние на всех последующих исследователей психологической ориентации. В результате анализа нескольких меланхолических пациентов он пришел к заключению, что "в крайнем случае меланхолическая депрессия происходит от неприятных переживаний в детстве пациента". Поэтому он постулировал, что в период детства меланхолики страдали от того, чему он дал название "первичная паратимия". Однако в этих отрывках Абрахам никогда не использовал слова печаль и траур; также не видно, чтобы он осознавал, что для маленького ребенка переживание потери матери (или потери ее любви) является самой настоящей тяжелой утратой. Начиная с этих пор, многие другие психоаналитики, пытаясь проследить исходящие из детства корни депрессивного заболевания и особенностей личностей, склонных развивать такое заболевание, обращали внимание на несчастливые переживания в ранние годы жизни своих пациентов. Однако за исключением традиции теоретизирования, начатой Мелани Кляйн, немногие исследователи понимали эти переживания как выражение тяжелой утраты близкого человека и патологического траура по нему. Тем не менее, когда мы приступаем к изучению тех переживаний, на которые они ссылаются, представляется очевидным, что это та система отсчета, которая подходит для них наилучшим образом. Я приведу примеры трех пациентов, описанных в литературе.
В 1936 году Герэ сообщил о двух пациентах, страдающих от депрессии. Один из них, заключил он, "жаждал любви", будучи ребенком; другого отправили в районные детские ясли, и он вернулся домой лишь в трехлетнем возрасте. Каждый из них проявлял интенсивную амбивалентность к любому человеку, которого он любил. По мнению Герэ, подобные состояния могут быть следствием очень ранних переживаний. Во втором случае он говорит как о фиксации ребенка на матери, так и о неспособности его простить ее за разлуку. Эдит Якобсон в своем обширном трактате по психопатологии депрессии постоянно вспоминает женщину-пациентку, Пегги, чей анализ она описывает в двух работах (1943,1946). При направлении к врачу Пегги, которой было 24 года, находилась в состоянии тяжелой депрессии с суицидальными импульсами и деперсонализацией; эти симптомы были вызваны тяжелой утратой, в действительности, потерей ее любовника. Наиболее раннее детское переживание, которому Эдит Якобсон придает огромное значение, произошло, когда Пегги было три с половиной года. В то время ее мать легла в больницу, чтобы родить нового ребенка, тогда как она с отцом осталась жить с бабушкой по материнской линии. Последовали ссоры, и отец ушел из дома. "Ребенок остался в одиночестве, разочарованный в своем отце и нетерпеливо ожидающий возвращения Матери. Однако когда мать возвратилась домой, она вернулась с другим ребенком". Пегги вспомнила чувство, которое она ощущала в то время: "Это была не моя мать, а какой-то другой человек" (подобное чувство, как мы знаем, нередко встречается у маленьких детей, которые были разлучены со своими матерями в течение нескольких недель). Вскоре после этого, по мнению Эдит Якобсон, "у маленькой девочки развилась первая глубокая депрессия".
Теперь можно задаться вопросом о том, насколько точным было воспоминание этих событий из раннего детства пациентки, а также о том, правы ли аналитики, приписывающие им столь большое значение для эмоционального развития их пациентов. Но если мы принимаем, как это склонен делать я, и действительность этих событий, и их значимость, тогда, по-моему, концепция переживания патологической печали является лучше всего подходящей для описания того, как пациент реагировал в то время, а также для связывания тяжелого травматического события детства с психиатрическим заболеванием во взрослой жизни. (В случае Пегги есть основание полагать, что разлука с матерью в возрасте трех с половиной лет была лишь кульминацией в серии расстройств в ее взаимоотношении с матерью, которая описывается как женщина доминирующего типа, жестко приучавшая своего ребенка к дисциплине.) Однако ни один из данных авторов не использует эту концепцию. Вместо этого они используют такие понятия, как "разочарование " и "крушение иллюзий ", которые, по-видимому, имеют иную значимость.
Некоторые другие аналитики, хотя они в большей или меньшей степени согласны с патогенной ролью таких событий в детстве; также не отождествляют ответ ребенка на утрату любимого лица с трауром. Один из них - это Фэйрбэйрн (1952). Второй такой аналитик - Стенгел, который в своих исследованиях компульсивного бродяжничества (1939, 1941, 1943) обращал особое внимание на возвращение утраченного объекта. Третий исследователь такого рода - я в более ранних работах (Bowlby, 1944,1951). Еще другие авторы - это Анна Фрейд (1960) и Рене Шпиц (1946), которые, оспаривая утверждение, что младенцы и маленькие дети испытывают траур, исключают как возможную гипотезу, что развитие невротического и психотического характера иногда является результатом переживания тяжелой печали в детстве, принявшего патологическое течение.
Основная причина, по которой реакция ребенка на утрату любимого лица столь часто не отождествляется с печалью и трауром,- это традиция, которая ограничивает понятие "траура" процессами, которые имеют здоровый исход. Хотя такое обращение с понятием, подобно любому другому, допустимо, у него есть один серьезный недостаток: логически становится невозможно обсуждать как таковые любые варианты траура, которые могут казаться патологическими. Трудности, порождаемые таким использованием данного понятия, хорошо показаны в работе Хелен Дейч "Отсутствие печали" (1937), из которой уже был приведен клинический случай. В ее обсуждении твердо признается как центральное место утраты любимого лица в детстве в возникновении симптомов и нарушений характера, так и действие защитного механизма, который после потери объекта может приводить к отсутствию аффекта. Тем не менее, хотя она связывает этот механизм с печалью и трауром, он представлен более как альтернатива, чем как патологический вариант траура. Хотя на первый взгляд такое отличие может казаться лишь терминологическим, оно более значимо. Ибо если считать защитный процесс после утраты значимого лица в детства альтернативой трауру, значит упускать из виду как то, что защитные процессы сходного вида, но меньшей степени интенсивности и более позднего начала воздействия, также входят в Нормальный процесс оплакивания потери, так и то, что патологическими являются не сами эти защитные процессы, а их интенсивность и преждевременность начала их воздействия.
Сходным образом, хотя Фрейд, с одной стороны, глубоко интересовался патогенной ролью переживания печали, а, с другой, в особенности в более поздние годы,- также осознавал патогенную роль утраты любимого лица в детстве, он, тем не менее, никогда не выдвигал в качестве концепций значение детского траура и его предрасположенности принимать патологическое течение, которые связывают воедино два этих набора идей. Это хорошо видно на примере обсуждения Фрейдом расщепления Эго в защитном процессе, которому он уделял особое внимание в конце жизни (1938). В одной из статей на эту тему (1927) Фрейд описывает двух пациентов, у которых расщепление Эго наступило вслед за утратой отца. "В анализе двух молодых людей,- пишет он,- я узнал, что каждый из них - один на втором году жизни, а другой - на десятом году жизни - отказался признать смерть своего отца... и однако, ни один из них не развил психоз. Очень важный кусок реальности, таким образом, отрицался Эго... Но,- продолжает Фрейд,- лишь один поток их психических процессов не признавал смерти отца; имелся другой поток, который полностью осознавал этот факт; тот поток, который соответствовал реальности [а именно, тому факту, что отец мертв], находился бок-о-бок с тем потоком, который находился в согласии с желанием" [что отец все еще жив] (1927). Однако в этой и родственных статьях Фрейд не соотносит свое открытие таких расщеплений в Эго с патологией траура в целом, а также с переживанием печали в детстве. "Я подозреваю,- замечает он при обсуждении своих открытий,- что сходные события никоим образом не являются редкими в детстве". Мы видим, что недавние статистические исследования показывают, что это подозрение было вполне обоснованно.
Таким образом, чтение литературы показывает, что несмотря на осознание большой патогенной значимости утраты родителя для ребенка и потери его любви, в главном русле традиции психоаналитического теоретизирования первопричина патологического траура и последующего психиатрического заболевания во взрослой жизни не связывается с предрасположенностью процессов переживания и печали принимать патологический ход течения, когда эта печаль наступает после утраты любимого лица в младенчестве или раннем детстве.
Я полагаю, что Мелани Кляйн (1935, 1940) внесла большой вклад, указав на эту связь. Младенцы и маленькие дети проходят через фазы депрессии, утверждает она, и их способы реагирования в такое время определяют то, как в последующей жизни они будут реагировать на последующие утраты. Она считает, что определенные механизмы защиты должны быть поняты как "направленные против "тоски" по утраченному объекту". В этом отношении мой подход подобен ее размышлениям. Однако имеются различия в наших подходах по поводу тех особенных событий, которые считаются значимыми в переживаниях печали ребенком, по поводу возраста, в котором они происходят, и по поводу природы и происхождения тревоги и агрессии у маленьких детей.
Те утраты, которые Мелани Кляйн предложила считать патогенными, целиком относятся ею к первому году жизни ребенка и главным образом связаны с кормлением и отнятием от груди. Агрессия считается выражением инстинкта смерти, а тревога - результатом его проекции. Я не нахожу ничего из этого убедительным. Во-первых, приводимые ею данные относительно огромной значимости первого года жизни и отнятия Младенца от груди при тщательном рассмотрении далеко не так убедительны (Bowlby, 1960). Во-вторых, ее гипотезы относительно развития агрессии и тревоги нелегко подогнать под рамки биологической теории (Bowlby, 1960). Мне кажется, это происходит потому, что многие исследователи находят те мысли, которыми Мелани Кляйн окружила гипотезу относительно роли детской тоски и траура, столь неправдоподобными, что в результате игнорируется сама эта гипотеза. А это жаль.
Поэтому моя позиция такова: хотя я не считаю детали теории Мелани Кляйн о депрессивной позиции удовлетворительным способом объяснения того, почему индивиды развиваются столь различными путями, что некоторые реагируют на последующую утрату здоровым образом, оплакивая потерю, в то время как другие переживают утрату с той или другой формой патологической печали, я, тем не менее, считаю, что ее теория содержит зерна очень продуктивного способа упорядочивания данных. Альтернативные разработки, которые, по-моему, достаточно доказательны, заключаются в том, что наиболее значимым объектом, который может быть утрачен, является не грудь, но сама мать (и иногда отец), что уязвимый период не ограничен первым годом жизни ребенка, но простирается на многие годы детства (как утверждал сам Фрейд (1938)), и что утрата родителя дает начало не только первичной сепарационной тревоге и печали, но также процессам траура, в котором агрессия, функция которой заключается в достижении воссоединения с потерянным объектом, играет важную роль. У этой формулировки, тесно придерживающейся опытных данных, есть дополнительное достоинство, что она легко вписывается в биологическую теорию.
Хотя различия между точкой зрения Мелани Кляйн и моей существенны, область согласия между ними также значительна. В них обеих в качестве главной гипотезы выдвигается положение, что процессы переживания печали, происходящие в ранние годы жизни, в большей мере, чем когда они происходят позднее, способны принимать патологические формы протекания. Поэтому они с этого момента делают индивида, испытавшего оплакивание потери любимого лица более, чем другие люди, склонным реагировать на последующую утрату сходным образом. Версия этой теории, которую я выдвигаю в настоящее время, представляется более согласующейся с многочисленным клиническим материалом, опубликованным в литературе и уже обратившим на себя внимание. Он включает в себя приведенные Фрейдом случаи расщепления Эго, случаи Стенгеля о компульсивном бродяжничестве, случаи депрессивных пациентов, описанные Абрахамом, Герэ и Эдит Якобсон, и случаи пациентов с нарушениями характера, описанные Хелен Дейч, Мелани Кляйн, Фэйрбэйрном и мной. Эта версия также согласуется с многочисленными исследованиями, которые появились в последние два десятилетия, показывающими, что степень действия утраты любимого лица в детском возрасте у пациентов, страдающих от психиатрического заболевания и нарушений характера, значительно выше, чем она является для общей популяции. [Так как статистические данные вплоть до 1967 года представлены в следующей лекции, то опущены те данные, которые были приведены в первоначальной версии этой лекции. Однако некоторые комментарии сохранены.] Тем не менее, рассматривая достоверность статистических данных для моей аргументации, могут возникать определенные сомнения. Во-первых, мы должны остерегаться ошибки post hoc ergo propter hoc. (После этого значит по причине этого (лат.) - Прим, перев.) Bo-вторых, даже если мы правы, утверждая причинное взаимоотношение между ранней утратой любимого объекта и последующим заболеванием, из этого не следует, что оно всегда опосредуется теми патологическими процессами, которые были описаны ранее. И действительно, имеются два других типа процессов, которые почти несомненно дают начало патологии в некоторых случаях. Один из них - это процесс идентификации с родителями, который является интегральной частью здорового развития, но часто приводит к трудностям в развитии после смерти одного из родителей. (Психиатрическое расстройство, в котором идентификация с утраченным родителем играет важную роль, давно уже была темой исследования со стороны аналитиков. Такое расстройство особенно ясно выражено в реакциях, связанных с годовщиной утраты (Hiigard, Newman" 1959).) Другой тип процесса связан с оставшимся в живых родителем вдовой или вдовцом, чье отношение к ребенку может измениться и стать патогенным.
Имеется и другое затруднение, с которым должна столкнуться данная гипотеза. Даже если верно, что отмечается значительно большая встречаемость смерти родителей в историях детства индивидов, склонных впоследствии развивать определенные нарушения характера и определенные формы заболевания, ее абсолютная сфера действия, тем не менее, мала. Как тогда, будет задан вопрос, следует объяснять другие случаи? Этому есть более чем одно возможное объяснение.
Во-первых, для того чтобы основывать мою аргументацию на прочных доказательствах, я умышленно ограничил большую часть обсуждения случаем родительской смерти. Когда сюда будут включены другие причины утраты родителя в ранние годы жизни, процент затронутых такой потерей любимого лица случаев резко возрастает. Кроме того, для многих случаев, в которых не наблюдалось эпизода действительного пространственного отделения ребенка от родителя, часто имеются данные, что в них, однако, имела место другая более или менее серьезная разлука. Отвержение, потеря любви (возможно, по причине рождения нового ребенка или депрессии матери), отчуждение одного родителя от другого и сходные ситуации, все они имеют в качестве общего фактора утрату ребенком родителя для любви и привязанности. Если концепция утраты расширяется до охвата потери любви, эти случаи более не составляют исключений.
Однако представляется маловероятным, что такое расширение станет охватывать все случаи с проявлениями разнообразных психиатрических синдромов. Если это окажется так, придется искать другие объяснения для тех случаев, которые не объясняются данной гипотезой. Возможно, при более внимательном изучении их клиническая картина окажется иной по значимости материала, чем в рассматриваемых нами случаях утраты любимого объекта. Или же клинические условия могут оказаться по существу сходными, но патологические процессы, действующие в случаях с иной клинической картиной, вызываются событиями другого типа. До тех пор пока не будут исследованы другие возможности развития психиатрических синдромов, будут оставаться проблемы. Так как, однако, редко существует простая взаимосвязь между клиническим синдромом, патологическим процессом и патогенным переживанием, эти проблемы не отличаются от тех, которые постоянно возникают в других областях медицинского исследования.
Заключение
По-видимому, до сих пор большая часть исследований в области современной психиатрии начинается с конечного продукта, больного пациента, и пытается объяснить последовательность событий, психологических и физиологических, которые, возможно, привели к заболеванию пациента. Это приводит, в результате, ко многим вероятным гипотезам, но, подобно любому единому методу исследования, имеет свои ограничения. Одним из критериев развивающейся науки являйся использование как можно большего числа методов, которые могут быть разработаны. Когда в физиологической медицине исследование было расширено до включения систематического изучения того или другого возможного патогенного фактора и его последствий, был собран огромный урожай знаний. Быть может, недалек тот день, когда то же самое будет возможно в психиатрии.
Вследствие своего практического и научного значения исследование реакций ребенка на утрату материнской фигуры в ранние годы жизни является многообещающим. Что касается практической стороны вопроса, то есть вероятность того, что мы станем способны разрабатывать меры по предупреждению по крайней мере некоторых форм психических заболеваний. Что касается научной стороны проблемы, имеются возможности, которые проистекают от того, что может быть ясно определено то событие детства, которое, вероятно, является патогенным, а его влияние на развивающуюся личность может систематически исследоваться прямым наблюдением.
Конечно, существует много других событий детства, помимо утраты любимого лица, относительно которых можно вполне обоснованно считать, что они также содействуют развитию нарушений личности и психиатрического заболевания. В качестве примеров такого рода можно привести случаи разнообразных форм плохого обращения родителей с ребенком, что давно уже было предметом заботы и терапевтических усилий в детских психиатрических клиниках. Для каждого из них исследовательская задача заключается, во-первых, в определении события или последовательности возможных патогенных событий, во-вторых, в установлении образцов клинических случаев, в которых оно имеет место, так чтобы могли исследоваться его воздействия на психологическое развитие ребенка, и, наконец, в связывании тех процессов, которые наблюдаются в цепи вызванных им особенностей развития, с теми процессами, которые обнаруживаются у пациентов с данным заболеванием. Последствия такого расширения исследования являются далеко идущими.
Примечания
1. В первоначальной версии данной лекции я говорил об изменении в "силе " привязанности. Однако рассуждать о привязанности как изменяющейся в соответствии с ее силой оказалось чрезвычайно сбивающим с толку делом, и информированные исследователи от этого отказались. Часто полезно рассуждать о привязанности как изменяющейся в рамках шкалы "безопасный - тревожный ", Смотрите мое обсуждение в начальных параграфах главы 15, "Привязанности и у траты", том 2.
2. Обратите внимание, в особенности, на работу, представленную Хейнике и Вестхеймером (1966), некоторые из открытий которых представлены в четвертой лекции.
3. В первоначальной версии этой лекции (и в ряде мест в двух предыдущих лекциях) я следовал психоаналитической традиции, говоря об "объектных отношениях", "любимом объекте" и "утраченном объекте ". Вскоре впоследствии я отказался от такого использования. Оно не только проистекает от той теоретической парадигмы, которой даже в 1961 году я более не придерживался, но я также считаю, что оно приводит к серьезным искажениям, если мы будем говорить о другом человеке как об объекте, ибо это подразумевает взаимоотношение с чем-то инертным, а не с другим человеком, который играет такую же или, возможно, Доминирующую роль в определении того, как развивается данное взаимоотношение. Поэтому при повторной публикации данной лекции я изменил формулировки, и на всем протяжении лекции говорю о "любимом лице" или "утраченном лице" вместо "любимого объекта" или "утраченного объекта ".
4. Теперь ясно, что процессы траура у детей не обязательно принимают течение, которое приводит к патологии, хотя слишком часто так все и происходит. Поэтому прилагательное "обыкновенно", использующееся в этом и других местах этой лекции, является, таким образом, вводящим в заблуждение. Те условия, которые влияют на результат, обсуждаются Фурманом (1974), а также довольно детально обсуждаются в третьей части книги "Привязанность и утрата", том 3.
5. Нередко причины, по которым ребенку не удается чувствительным образом реагировать на смерть родителя, заключаются в том, что ему дается мало или вообще не дается информации по поводу того, что случилось, а если даже ему об этом сообщается, у него нет возможности выразить свои чувства или задать вопросы сочувствующему взрослому. Относительно ссылок смотрите примечание 4 выше.
6. Теперь известно намного больше относительно соответствующих условий; смотрите примечания 4 и 5 выше.
7. Смотрите в особенности книги Паркеса (1972) и Глика, Вейсса и Паркеса (1974).
Влияние на поведение разрыва эмоциональной связи
Боулби Джон
"Создание и разрушение эмоциональных связей" Лекция 4
В течение ряда лет Евгеническое общество организует симпозиумы, на которых обсуждается взаимодействие генетических факторов и факторов, относящихся к окружающей обстановке, на человеческое разбитие. Четвертый симпозиум, проходивший в Лондоне осенью 1967 soda был посвящен теме "Влияние генетических факторов и факторов окружающей обстановки на поведение". Нижеследующая статья была подготовлена для данного симпозиума и опубликована в следующем, году.
Семейным врачам, священникам и проницательным людям давно уже было известно, что немногие удары для человеческого духа могут быть столь же тяжелыми, как утрата близкого и дорогого человека. Традиционная мудрость знает, что мы можем быть сокрушены печалью и умереть от разбитого сердца, и что брошенный любовник склонен совершать поступки, которые глупы или опасны для него самого и других людей. Ей также известно, что ни любовь, ни печаль не испытываются по отношению к любому другому человеку, но лишь по отношению к одному или к немногим выделяемым и индивидуальным людям. Внутренней сутью того, что я обозначил термином "эмоциональная связь", является та привлекательность, которой обладает один индивид для другого.
Вплоть до последних десятилетий наука мало что могла сказать относительно этих вопросов. Экспериментальные ученые, работающие в области физиологической психологии или в традициях теории обучения, никогда не проявляли интереса к эмоциональным привязанностям и иногда говорили и действовали таким образом, как если бы они не существовали. Психоаналитики, в отличие от них, давно уже осознавали громадную значимость эмоциональных связей в жизни и проблемах своих пациентов, но у них не было адекватно развитых научных подходов, дающих возможность понимания возникновения, сохранения и разрыва таких привязанностей. Данный вакуум был заполнен этологами, начиная с классической работы Лоренца "Партнер 6 мире птиц" (1935) и далее через множество экспериментов по импринтингу (Bateson, 1966; Sluckin, 1964) к исследованиям поведения привязанности у не принадлежащих к человеческому роду приматов (Hinde, Spencer-Booth, 1967; Sade, 1965), вдохновляя психологов на проведение сходных исследований людей (Ainsworth, 1967; Schaffer, Emerson, 1964).
Распространенность привязанности
Перед обсуждением воздействия на поведение разрыва эмоциональной связи уместно поговорить о привязанности и ее распространенности. В вышеупомянутых работах показано, что даже если они не универсальны у птиц и млекопитающих, сильные и стойкие узы связывания между особями являются правилом для очень многих видов. Типы устанавливаемой связи отличаются от одних видов к другим, причем наиболее распространенные узы связывания существуют между одним или обоими родителями и их потомством, а также между взрослыми особями противоположного пола. У млекопитающих, включая приматов, самая первая и наиболее прочная изо всех привязанностей обычно имеет место между матерью и детенышем. Данная связь часто продолжает существовать и во взрослой жизни. Как результат всей этой работы, теперь возможно рассматривать сильные и прочные эмоциональные связи, развиваемые людьми, со сравнительной точки зрения.
Эмоциональная привязанность является результатом социального поведения каждой особи данного вида, различаясь в соответствии с тем, с какой другой особью этого вида происходит взаимодействие; что, конечно же, влечет за собой способность различать особей. В то время как каждый член связанной друг с другом пары склонен оставаться в близости к другому члену пары и вызывать в нем сохраняющее близость поведение особи, которые не привязаны друг к другу, не проявляют таких наклонностей; и действительно, когда две особи не привязаны друг к другу, одна особь может часто сильно сопротивляться какому-либо приближению, которое может пытаться осуществить другая особь. Примером служат отношение родителя к приближению не своего детеныша и отношение самца к приближению другого самца.
Существенно важной чертой эмоциональной связи служит то, что два партнера склонны оставаться в близости друг к другу. Если им приходится по какой-либо причине находиться в разлуке, каждый из них раньше или позже ищет вторую половину и, таким образом, возобновляет близость. Любая попытка третьей стороны разлучить связанную друг с другом пару встречает энергичное сопротивление: нередко более сильный из партнеров нападает на незваного пришельца в то время, как более слабый партнер спасается бегством или, возможно, льнет к более сильному партнеру. Очевидными примерами являются ситуации, в которых захватчик пытается удалить детеныша от матери, например, теленка от коровы, или отторгнуть самку от связанной друг с другом гетеросексуальной пары, например, гусыню от гусака.
Несколько парадоксальным образом, поведение агрессивного вида играет ключевую роль в сохранении эмоциональных связей. Оно принимает две различные формы: во-первых, нападение на незваных пришельцев и их отпугивание, во-вторых, наказание заблудшего партнера, будь это жена, муж или ребенок. Имеются данные, что большое количество агрессивного поведения озадачивающего и патологического типа порождается той или другой из этих форм поведения (Bowlby, 1963).
Нежные привязанности и субъективные состояния переживания сильной эмоции склонны идти рука об руку, что известно каждому романисту и драматургу. Таким образом, многие из наиболее сильных человеческих эмоций появляются во время возникновения, сохранения, разрыва и возобновления нежных привязанностей - которые, по этой самой причине, иногда называются эмоциональными привязанностями. На языке субъективного переживания образование привязанности описывается как начало влюбленности, сохранение привязанности - как любовь кого-либо, а утрата партнера - как печаль о ком-либо. Сходным образом, угроза утраты любимого лица порождает тревогу, а действительная утрата вызывает скорбь; в то время как обе эти ситуации склонны вызывать гнев. Наконец, ненарушаемое сохранение привязанности переживается как источник безопасности, а возобновление привязанности - как источник радости. Таким образом, каждый человек, изучающий психологию и психопатологию эмоций у животных или человека, вскоре сталкивается с проблемами эмоциональной привязанности: что вызывает развитие привязанностей и для чего они нужны" и в особенности, каковы те условия, которые влияют на ту форму, которую принимает их развитие.
В той мере, в какой психологи и психоаналитики пытались объяснить причину существования эмоциональных связей, они почти всегда обращались к мотивам пищи и секса. Таким образом, в попытке объяснить, почему ребенок становится привязан к своей матери, как теоретики обучения (Dollard, Miller, 1950; Sears, Maccoby, Levin, 1957), так и психоаналитики (Freud, 1938) независимо друг от друга утверждали, что это происходит потому, что мать кормит своего ребенка. Когда пытаются понять, почему взрослые люди становятся привязаны друг к другу, секс обычно рассматривается как очевидное и достаточное объяснение. Однако при тщательном изучении данных эти объяснения представляются недостаточными. В настоящее время имеется много доказательств, что не только у птиц, но также у млекопитающих детеныши становятся привязаны к материнским объектам несмотря на то, что их не кормят из этого источника (Harlow and Harlow, 1965; Cairns, 1966) и что совсем не всякая нежная привязанность между взрослыми сопровождается сексуальными отношениями, в то время как, наоборот, сексуальные отношения часто имеют место независимо от каких-либо продолжающихся эмоциональных связей.
То, что известно в настоящее время об онтогенезе эмоциональных привязанностей, говорят в пользу того, что они развиваются, потому что детеныш рождается с сильной склонностью приближаться к определенным классам стимулов, весьма привычных, и избегать других классов - весьма непривычных. Что касается Функции привязанности, то наблюдения животных в Дикой природе существенно говорят в пользу того, что биологической функцией большей части, если не всех, Привязанностей является защита от хищников - функция, столь же важная для выживания популяции, как и витание и воспроизводство, но на которую обычно не обращали внимания исследователи, ограниченные стенами лабораторий и изучающие лишь человека, живущего в экономически развитых обществах.
Независимо от того, будут ли эти гипотезы подкреплены дальнейшей работой, способность особи устанавливать эмоциональные связи такого типа, которые соответствуют каждой фазе жизненного цикла ее вида и его или ее собственному полу, очевидно, является способностью, столь же типической для особей видов млекопитающих, как и их способности, например, видеть, слышать, есть и переваривать пищу. И, по всей вероятности, способность к установлению эмоциональных связей имеет высокую ценность для выживания видов, как и любая другая из давно изучаемых иных способностей. Оказывается продуктивным рассматривать многие психоневротические и личностные расстройства людей как отражение нарушенной способности формирования привязанностей вследствие либо неправильного развития в детстве либо последующего расстройства.
Разрушение эмоциональных связей и психиатрическое заболевание
Те люди, которые страдают от психиатрических расстройств - психоневротических, социопатических или психотических,- всегда показывают нарушение способности к установлению нежной привязанности, часто тяжелое и длительное. Хотя в некоторых случаях такое нарушение явно вторично по отношению к другим патологическим изменениям, во многих случаях оно, вероятно, первично и проистекает от отклонений в развитии в период его детства, проведенного в нетипичной семейной обстановке. Хотя разрушение привязанностей, которые связывают ребенка с его родителями, является не единственной формой расстройства, которую может порождать окружающая обстановка, это наиболее надежно описанная форма, относительно влияния которой нам больше всего известно. (Имеются также ценные исследования реакции взрослых людей на тяжелую утрату и взаимосвязи реакций на тяжелую утрату с психиатрическим заболеванием (Parkes, 1965). В короткую статью невозможно включить обсуждение этих открытий.)
При рассмотрении возможных причин психиатрического расстройства в детстве детские психиатры давно осознавали, что предшествующие состояния, обладающие значительно высокой распространностью, являются либо отсутствием возможности устанавливать эмоциональные связи, либо, вдобавок, переживанием длительных и, возможно, неоднократных разрушений однажды установленных привязанностей (Bowlby, 1951; Ainsworth, 1962). Хотя широко разделяется точка зрения о том, что такие состояния не только связаны с последующим расстройством, но и являются его причиной, такое заключение, тем не менее, остается спорным.
В последние годы проводятся многочисленные исследования относительно распространенности утраты в детстве в различных выборках психиатрических популяций. Вследствие того, что выборки клинического материала и группы сравнения составлены столь различным образом, критерии утраты в разных работах определяются по-разному, и нелегко дать интерпретацию множеству демографических и статистических случайностей. Однако независимые авторы согласованно сообщают об определенных научных открытиях, включая описания многих недавних и хорошо контролировавшихся исследований, к которым мы можем испытывать обоснованное доверие. Постоянно обнаруживается, что двум психиатрическим синдромам и двум видам связанных с ними симптомов предшествует высокая встречаемость разрушенных эмоциональных связей в детстве. Данными синдромами являются психопатическая (или социопатическая) личность и депрессия; данными симптомами - стойкая преступность и самоубийство.
Психопат (или социопат) - это человек, который, не будучи психотиком или психически субнормальным, постоянно участвует в (а) действиях против общества, например, в преступлениях; (б) действиях против семьи, например, не заботится о нуждах семьи, проявляет жестокость, сексуальную неразборчивость в связях или перверсию; (в) действиях, направленных против самого себя, например, испытывая пристрастие к наркотикам, совершая или пытаясь совершить самоубийство, неоднократно бросая свою работу.
У таких людей способность устанавливать и поддерживать эмоциональные связи всегда нарушена, и нередко ее отсутствие бросается в глаза.
Достаточно часто обнаруживается, что детство таких индивидов было чрезвычайно отягощено смертью, разводом или раздельным проживанием родителей или другими событиями, ведущими к разрыву привязанностей, с распространенностью такого расстройства намного выше, чем оно встречается в любой другой сравнимой группе, выделенной из общей популяции, либо среди психиатрических расстройств другого рода. Например, в исследовании свыше одной тысячи неоднократно лечившихся психиатрических амбулаторных больных в возрасте до 60 лет Эрл и Эрл (1961) диагностировали 66 пациентов как социопатов и 1357 -как страдающих от некоторого другого расстройства. Беря в качестве критерия отсутствие матери в течение шести или более месяцев до достижения ребенком шестилетнего возраста, авторы обнаружили встречаемость этого критерия в 41% случаев для социопатов и в 5% случаев для остальных больных.
Когда берется более широкий критерий, его встречаемость возрастает. Так, Крэфт, Стефенсон и Грэнгер (1964) взяли в качестве критерия отсутствие либо матери, либо отца (либо обоих) до десятилетнего возраста ребенка. Из 76 мужчин, находящихся в специальных больницах по причине того, что они являлись агрессивными психопатами, не менее 65% из них имели подобное переживание. При изучении нескольких сравниваемых групп Крэфт показывает, как встречаемость такого типа детского переживания возрастает вместе со степенью антисоциального поведения, показываемого членами группы.
Другие исследователи, такие как Несс (1962), Гриэр (1964), Браун и Эппс (1966), сообщали о сходных статистически значимых данных для групп психопатов и стойких правонарушителей, а также для алкоголиков и лиц, пристрастившихся к наркотикам (Dennehy, 1966).
У психопатов высока встречаемость незаконнорожденности и перевода ребенка из одного "дома " в другой. Не случайно, что Брейди, один из марокканских убийц, был таким ребенком.
Другая психиатрическая группа, которая показывает намного большую распространенность утраты любимого лица в детстве, это группа суицидальных пациентов, как тех, которые пытались совершить самоубийство, так и тех, кому это удалось. (Хотя любая группа самоубийц и лиц, пытающихся совершить самоубийство, будет содержать в себе некоторое количество социопатов и людей с депрессиями, большинство лиц из этой группы, вероятно, будут диагностированы как страдающие от невроза или расстройства личности (Greer, Gunn, Koller, 1966), и, таким образом, они образуют совершенно иную психиатрическую группу.) Такие утраты наиболее вероятно случаются в течение первых пяти лет жизни ребенка и обусловлены не только смертью родителя, но также другими долговременными причинами, а именно, незаконнорожденностью и разводом. В этих отношениях суицидальные пациенты склонны походить на социопатов и, как будет видно позднее, отличаются от людей с депрессиями.
Среди многих разработок, сообщающих о высокой встречаемости утраты любимого лица в детстве среди пациентов, пытавшихся совершить самоубийство, например, исследования Брюна (1962), Гриэра (1964) и Кесселя (1965), недавно проведенная работа Гриэра, Гунна и Коллера (1966) - одна из самых точных. Серии выборок из 156 пытавшихся покончить самоубийством лиц сравнивались с аналогичными по размеру выборками психиатрических пациентов, не покушавшихся на свою жизнь, и с пациентами, которым была оказана хирургическая и родовспомогательная помощь без психиатрической патологии; обе эти группы сравнивались с группой лиц, пытавшихся покончить жизнь самоубийством, по возрасту, полу, социальному классу и другим относящимся к делу переменным. Беря в качестве критерия утраты постоянное отсутствие одного или обоих родителей в течение по крайней мере двенадцати месяцев, Гриэр обнаруживает, что такие события происходили до пятилетнего возраста ребенка втрое чаще в группе лиц, пытавшихся совершить самоубийство, чем в любой из групп сравнения - сфера распространения в 26% против 9% для каждой из двух других групп (Таблица 1).
Кроме того, утраты в группе лиц, пытавшихся совершить самоубийство, более часто были связаны с утратой обоих родителей и являлись постоянными, в то время как в других группах они более часто касались лишь одного родителя и были временными, будучи обусловлены такой острой необходимостью, как болезнь или работа (1).
При дальнейшем исследовании той же самой группы людей, пытавшихся совершить самоубийство (Greer, Gunn, 1966), было обнаружено, что те люди, которые страдали от родительской утраты до пятнадцатилетнего возраста, значительно отличались в определенных отношениях от тех людей, которые не испытали такую утрату. Одно такое отличие, находящееся в согласии с другими полученными данными, состоит в том, что те люди, которые в детстве страдали от родительской утраты, более вероятно будут диагностированы как социопаты, чем те, которые не страдали в детстве от подобной утраты (18% против 4%).
Таблица 1
Встречаемость утраты или постоянного отсутствия одного или обоих природных родителей в течение по крайней мере 12 месяцев до пятнадцатилетнего возраста (данные в %)
Другим состоянием, которое связано со значительно большей встречаемостью детской утраты, является депрессия. Однако тип переживаемой утраты склонен быть иного вида, чем полный распад семьи, типичный для детства психопатов и людей, пытавшихся покончить жизнь самоубийством. Во-первых, в детстве людей с депрессиями утрата более часто обусловлена смертью родителя, чем незаконнорожденностью, разводом или раздельным проживанием. Во-вторых, у людей с депрессиями встречаемость тяжелой утраты склонна возрастать во втором пятилетии детства, а в некоторых исследованиях также в третьем. О данных такого рода сообщали Ф.Браун (1961), Мунро (1966), Деннехью (1966) и Хилл и Прайс (1967). Эти исследования говорят о том, что утрата родителя по причине его смерти встречается в два раза чаще в группе людей с депрессиями, чем она встречается в популяции в целом (2).
Таким образом, в настоящее время достаточно надежно установлено, что в различных группах психиатрических пациентов встречаемость разрыва эмоциональных связей во время детства значительно повышена. Хотя эти более поздние исследования подтверждают предшествующие им данные относительно возросшей встречаемости утраты матери в раннем детстве, они также расширяют их. Для различных видов состояний, как это видно теперь, встречаемость разрушенных эмоциональных связей включает связи с отцами, как и с матерями, и обнаруживается как в возрасте от пяти до четырнадцати лет, так и в течение первых пяти лет жизни. Кроме того, в более экстремальных состояниях - при социопатии и суицидальных наклонностях - первоначальная утрата не только склонна иметь место в ранний период жизни ребенка, но также вероятно, что она была постоянной и что за ней последовало переживание ребенком неоднократной смены родительских фигур.
Тем не менее, показ возросшей встречаемости некоторого фактора - это одно, а показ того, что он играет причинную роль,- это совсем другое. В то время как большая часть исследователей, сообщавших об этих данных, по всей видимости, полагает, что возросшая встречаемость утраты любимого лица в детстве причинным образом связана с последующим психиатрическим расстройством и имеются многочисленные клинические данные, указывающие на это (относительно ссылок смотрите Bowlby, 1963), все еще остаются возможными альтернативные объяснения. Как пример, возросшая встречаемость материнской и отцовской смерти у психиатрических пациентов может быть результатом того, что возраст родителей пациентов был выше среднего во время рождения пациента. Если бы это было так, то не только ранняя смерть родителя была бы более вероятна, но у рожденного в более позднем возрасте ребенка была бы также большая предрасположенность родиться с неблагоприятной генетической наследственностью. Таким образом, то, что представляется детерминантой окружающей среды, в конечном счете может оказаться генетической детерминантой. Проверить эту возможность нелегко. Для ее подкрепления требуется следующее: во-первых, чтобы было обнаружено, что средний возраст матерей и/или отцов психиатрических пациентов действительно был выше, чем у популяции в целом; во-вторых, требуется показать, что любой более поздний возраст родителей, который может быть обнаружен, оказывает столь неблагоприятное воздействие на генетическую наследственность новорожденного, что возрастает вероятность психиатрических нарушений. Первое требование вполне может удовлетворяться: недавно полученные данные (Dennehy, 1966) говорят в пользу того, что средний возраст родителей психиатрических пациентов может быть выше возраста той популяции, из которой они происходят. Однако относительно второго требования получить данные более трудно. Очевидно, потребуется некоторое время, прежде чем этот вопрос будет решен.
Тем временем те исследователи, которые считают, что взаимоотношение между разрушением эмоциональных связей в детстве и расстройством способности поддерживать эмоциональные привязанности, типичным для расстройств личности в последующей жизни, является причинным, указывают на другие данные в поддержку своей гипотезы. Они имеют отношение к поведению детенышей человека и детенышей других приматов, когда разрушается эмоциональная связь с родителем вследствие разлуки и смерти.
Краткосрочные воздействия разрушенных связей
Когда маленький ребенок обнаруживает себя в окружении незнакомых людей и без знакомых родительских фигур, он не только испытывает в это время интенсивное страдание, но также ухудшается его последующее взаимоотношение со своими родителями, по крайней мере временно. Поведение, наблюдаемое у двухлетних детей в период и после короткого пребывания в районных детских яслях, является предметом систематического описательного и статистического исследования, предпринятого в Тэвистоке Хейнике и Вестхеймером (1966). Я обращаю внимание на ту часть их отчета, в которой они сравнивают поведение по отношению к матери десятерых детей, которые некоторое время находились в детских яслях, а потом вернулись домой, с поведением группы сравнения из десяти маленьких детей, которые всегда оставались дома.
У разлученных с родителями детей наблюдались две формы нарушения эмоциональной привязанности, ни одна из которых не отмечалась в группе сравнения не разлучаемых с родителями детей. Первой формой расстройства являлось эмоциональное отчуждение; вторая форма нарушения привязанности явно противоположна первой и заключалась в непреклонном требовании ребенка находиться рядом с матерью
1. При первой встрече с матерью после того, как он находился вне дома с незнакомыми людьми в течение двух или трех недель, двухлетний ребенок типично остается отдаленным и отчужденным от нее. Хотя в первые дни пребывания вне дома ребенок обычно, жалостно плача, зовет свою мать, когда она, наконец, возвращается к нему, он ее как бы не узнает или избегает. Вместо того чтобы стремглав бежать к ней и крепко прижаться, как он, вероятно, повел бы себя, если бы на полчаса потерялся в магазине, ребенок часто смотрит сквозь нее и отказывается взять ее руку. Отсутствует всякое ищущее близости поведение, типичное для нежной привязанности, обычно вызывая у матери интенсивное страдание: и такое поведение сохраняется - иногда лишь несколько минут или часов, а иногда днями. Возобновление привязанности может быть внезапным, но оно часто медленное и постепенное. Длительность времени, в течение которого сохраняется отчуждение, несомненно, коррелирует с длительностью разлуки (Таблица 2).
Таблица 2
Количество разлученных и неразлученных с родителями детей, которые показывали отчуждение в течение первых трех дней после воссоединения (или в течение эквивалентного периода времени)
2. Когда - как обычно бывает - возобновляется поведение любви и привязанности, ребенок, как правило, намного сильнее цепляется за мать, чем это было до разлучения. Он не хочет, чтобы мать его покидала и либо разражается плачем, либо следует за ней повсюду в доме. Как развивается данная фаза, во многом зависит от реакции матери. Нередко возникает конфликт: ребенок требует постоянного присутствия своей матери, а она отказывает ему в этом. Такой отказ быстро вызывает враждебное и негативное поведение со стороны ребенка, которое склонно еще более испытывать терпение матери. Из десяти разлученных детей, наблюдаемых Хейнике и Вестхеймером, шесть показывали сильно выраженное и длительное враждебное поведение по отношению к матери и негативизм после своего возвращения домой: никакого подобного поведения не наблюдалось у не-разлученных с родителями детей (Таблица 3).
Таблица 3
Количество разлученных и неразлученных с родителями детей, которые показывали сильно выраженную и длительную враждебность к матери после воссоединения (или во время эквивалентного периода)
Очевидно, все же существует большая разница между проявлением того, если привязанность ребенка к матери, а также часто к отцу, нарушается вследствие кратковременной разлуки и явным показом того, что длительные и неоднократные разлучения причинно связаны с последующими расстройствами личности. Однако отчужденное поведение, столь типичное для маленьких детей после разлуки, несет в себе нечто большее, чем мимолетное сходство с отчужденным поведением некоторых психопатов, хотя будет трудно проводить различие агрессивно требовательного поведения многих маленьких детей, недавно воссоединившихся с матерью, от агрессивно требовательного поведения многих истерических личностей. Оказывается полезным признать, что в каждом типе случаев нарушенное поведение взрослого представляет собой перенесенные через годы девиантные паттерны поведения привязанности, которые были установлены как результат разрывов эмоциональных связей, происходящих в детстве. С одной стороны, это помогает организовать имеющиеся научные данные и ориентировать дальнейшее направление исследований; с другой стороны, это обеспечивает нас руководящими указаниями для повседневного умения справляться с такими типами людей.
Для продвижения нашего знания в этой области, очевидно, будет крайне ценно проведение длительных серий экспериментов для исследования краткосрочных и долгосрочных воздействий на поведение разрыва эмоциональной связи, принимая во внимание возраст субъекта, природу привязанности, длительность и частоту разрыва связей и, помимо этого, многие другие переменные. Однако столь же очевидно, что любые подобные эксперименты на людях исключены по этическим соображениям. Вследствие этих причин следует особенно приветствовать проводимые в настоящее время заслуживающие сравнения эксперименты с использованием не принадлежащих к человеческому роду приматов. Предварительные находки говорят в пользу того, что воздействия на шестимесячных детенышей обезьян-резусов временной утраты матери (шесть дней), как в ходе, так и после разлуки, напоминают аналогичные воздействия подобной утраты на Двухлетних детей (Spencer-Booth, Hinde, 1966), например, страдание и пониженный уровень активности во время разлуки и чрезмерно выраженная тенденция Цепляться за мать после окончания разлуки. Кроме того, поведение обезьяны-матери напоминает поведение человеческой матери. Однако до настоящего времени нет записей о детенышах обезьян, показывающих отчуждение, и это может представлять отличие видов.
У детенышей как людей, так и обезьян имеются очень Широкие индивидуальные вариации в реакции на разрыв связи. Некоторая такая вариабельность, вероятно, обусловлена воздействиями на младенца событий, происходивших во время беременности и рождения. Так Уко (1965) обнаружил, что мальчики, у которых при рождении было отмечено состояние кислородной недостаточности, намного более чувствительны к изменениям окружающей среды, включая разлуку с матерью, чем мальчики, которые при рождении не испытывали кислородной недостаточности (Таблица 4].
Таблица 4
Дистресс при временной разлуке с матерью, отцом или с сиблингом у маленьких мальчиков с кислородной недостаточностью при рождении и без кислородной недостаточности при рождении
С другой стороны, некоторая другая часть этой вариативности вполне может быть определена генетически. И действительно, представляется обоснованной гипотеза о том, что главным путем, которым генетические факторы влияют на развитие душевного здоровья или душевного заболевания, является их воздействие на поведение привязанности: в какой степени и форме и в каких обстоятельствах индивид может устанавливать и сохранять эмоциональные связи и как он реагирует на разрыв привязанностей. Предпринимая научные разработки такого рода, в будущем может оказаться возможным свести вместе исследования влияния окружающей среды и генетических факторов на расстройство поведения.
Примечания
1. Смотрите также дальнейшее исследование взаимоотношения между тяжелой детской утратой и мыслями о самоубийстве у Адама (1973).
2. Статистические данные относительно встречаемости утраты родителя в детстве у депрессивных взрослых часто были противоречивыми, и я упростил первоначальную версию этого параграфа, чтобы привести его в согласие с текущим мышлением. Самое последнее и исчерпывающее исследование данной проблемы (хотя и ограниченное женщинами),- это исследование Джорджа Брауна и Тиррил Харрис (1978). Они приходят к заключению, что детская утрата содействует клинической депрессии тремя различными путями. Во-первых, женщины, которые лишились матери по причине смерти или разлуки до одиннадцатилетнего возраста, более склонны реагировать на утрату, угрозу утраты и другие затруднения и кризисы во взрослой жизни развитием депрессивного расстройства, чем женщины без такой утраты. Во-вторых, если женщина ранее пережила одну или более утрат членов семьи по причине смерти или разлуки до семнадцатилетнего возраста, любая развивающаяся впоследствии депрессия склонна быть более тяжелой, чем у женщины без такой утраты. В-третьих, та форма, которую приняла детская утрата, влияет на форму любого депрессивного заболевания, которое может развиться впоследствии. Когда детская утрата была обусловлена разлукой, любое заболевание, развивающееся впоследствии, склонно показывать черты невротической депрессии с симптомами тревоги. Когда утрата была обусловлена смертью, любое заболевание, развивающееся впоследствии, склонно показывать черты психотической депрессии с большей задержкой развития.
3. Браун и Харрис также обращают внимание на некоторые До сих пор не распознанные проблемы получения имеющих силу данных, когда проводят сравнения между группой психиатрически больных пациентов и контрольной группой.
Разлука и утрата внутри семьи
Боулби Джон
"Создание и разрушение эмоциональных связей" Лекция 5
ВВесной 1968 года, когда я находился в Калифорнии психоаналитическое общество Сан-Франциско организовало конференцию для специалистов всех профессий в области психического здоровья по теш "Разлука и утрата", Я был приглашен принять в ней участие и представил вариант текста этой статьи. Впоследствии она была расширена с помощью моего коллеги Коллина Мюррея Паркеса, и результат был опубликован в 1970 году под нашим совместным авторством. Она повторно публикуется здесь по его разрешению.
Вероятно, все мы в настоящее время остро осознаем ту тревогу и страдание, которые могут быть вызваны разлуками с любимыми людьми, ту длительную и глубокую печаль, которая может наступать вследствие тяжелой утраты, и те опасности для психического здоровья, которые могут создавать эти события. В то же время представляется явным, что многие из тех проблем, по поводу лечения которых обращаются к нам наши пациенты, могут быть прослежены, по крайней мере частично, к разлуке или утрате, которая имела место либо недавно, либо произошла в некоторый более ранний период в их жизни. Хроническая тревога, перемежающаяся депрессия, попытка самоубийства или успешное самоубийство - вот некоторые наиболее часто встречающиеся разновидности расстройств, Которые, как нам теперь известно, связаны с такими переживаниями. Кроме того, длительные или неоднократные разрушения связи мать-ребенок во время первых пяти лет жизни, как известно, особенно часто встречаются у пациентов, впоследствии диагностируемых как психопатические или социопатические личности.
Данные для таких утверждений, в особенности относительно намного большей встречаемости утраты родителя в детстве в выборках пациентов с такими проблемами по сравнению с контрольными выборками, рассматриваются в другом месте. (а именно в лекциях 3 и 4 в данном томе) Момент, который мы особенно хотим здесь подчеркнуть, заключается в том, что хотя утраты, происходящие в течение первых пяти лет жизни, вероятно, особенно опасны для будущего развития личности, те утраты, которые происходят в жизни позднее, также потенциально патогеничны. Хотя в настоящее время причинная связь между психологическим расстройством личности и разлукой или утратой, которые имели место в детстве, юности или позднее, хорошо подтверждена как статистически, так и клинически, остается очень много проблем в понимании как действующих при этом процессов, так и точных условий, которые определяют, будет ли исход хорошим или плохим. Однако мы не совсем не знающие. В данной статье мы хотим уделить особое внимание тем путям, которыми мы может быть в состоянии помочь нашим пациентам. Будут ли они молодыми или старыми, и была ли утрата недавней или давнишней, мы полагаем, что теперь мы можем выделять определенные принципы, на которых станем основывать нашу терапию.
Мы начнем с описания печали и траура, как они протекают у взрослых, и перейдем от них к детству.
Печаль и траур во взрослой жизни
В настоящее время имеется много достоверной информации о том, как взрослые реагируют на тяжелую утрату близкого человека. Эта информация приходит из многих источников, среди которых особенно следует отметить данные Линдеманна (1944) и Мэррис (1958), расширенные недавно проведенным и пока еще по большей части не опубликованным исследованием (Parkes, 1969, 1971). (Информация была получена от очень представительной выборки из 24 вдов в возрасте от 26 до 65 лет в течение года, последовавшего за смертью мужа. С каждой вдовой было проведено не менее пяти длительных клинических бесед через 1, 3, 6, 9 и 12 1/2 месяцев после утраты мужа. Было достигнуто хорошее взаимопонимание и выражена большая благодарность за данное понимание. В десяти случаях смерть мужа была внезапной; в трех случаях смерть была быстрой; в девяти сл ее можно было предвидеть по крайней мере за неделю.) Хотя интенсивность печали значительно варьирует от индивида к индивиду и продолжительность каждой фазы горя также варьирует, тем не менее наблюдается общий базисный признак.
В более ранней работе (Bowlby, 1961) было высказано предположение, что протекание траура может быть подразделено на три главные фазы, но теперь мы осознаем, что такое подразделение опускает важную первую фазу, которая обычно очень коротка. То, что ранее называлось фазами 1, 2 и 3, теперь стало называться фазами 2, 3 и 4. Теперь признаются следующие четыре фазы протекания траура:
Фаза оцепенения, которая обычно длится от нескольких часов до недели и может быть прервана взрывами крайне интенсивного страдания и/или гнева.
Фаза острой тоски и поиска утраченной фигуры, продолжающаяся несколько месяцев и часто годами.
Фаза дезорганизации и отчаяния.
Фаза большей или меньшей степени реорганизации.
Фаза оцепенения
Непосредственная реакция на известие о смерти мужа в нашем исследовании очень сильно варьирует среди вдов, а также, время от времени, у любой вдовы. Большинство из них было ошеломлено и в различной степени абсолютно неспособно принять это известие. Случай, в котором данная фаза длилась значительно дольше, чем обычно, был случаем вдовы, которая рассказала, что когда ей сообщили о смерти мужа, она оставалась спокойной и "ничего не чувствовала " - и поэтому она была удивлена, найдя себя плачущей. Она сказала, что осознанно избегала своих чувств, потому что опасалась, что может быть истощена ими или сойти с ума. В течение трех недель она продолжала сохранять контроль и была относительно владеющей собой, пока, наконец, не выдержала и разрыдалась на улице. Размышляя об этих трех неделях, она позднее описывала их как напоминающие "хождение по краю черной ямы".
Многие другие вдовы сообщали о том, как этим известиям вначале абсолютно не удалось отложиться в их памяти. Тем не менее это спокойствие перед штормом иногда разбивалось взрывом чрезвычайной эмоции, обычно сильного страха, но часто гнева, и в одном или двух случаях душевного подъема.
Фаза острой тоски и поиска утраченной фигуры
В течение ряда дней или одной или двух недель наступает изменение, и понесший тяжелую утрату человек начинает, хотя лишь эпизодически, отмечать реальность утраты: это приводит к вспышкам интенсивного горя и к оплакиванию. Однако почти в это же самое время имеет место огромное беспокойство, поглощенность мыслями об утраченном человеке, часто в комбинации с чувством его действительного присутствия и с явно выраженной тенденцией интерпретировать сигналы или звуки, как указывающие на то, что утраченное лицо теперь вернулось. Например, звук поднимаемой щеколды, услышанный в пять часов пополудни, интерпретируется как возвращение мужа с работы или мужчина на улице ошибочно принимается за отсутствующего мужа.
Некоторые или все из этих черт, как было найдено встречаются у подавляющего большинства опрощенных вдов. Так как о подобных проявлениях сообщается также различными другими исследователями, не может быть никакого сомнения в том, что они являются обычным свойством печали и ни в коем смысле не являются ненормальными. Когда данные такого рода рассматривались несколько лет тому назад (Bowlby, 1961), было выдвинуто предположение, что во время этой фазы траура человек, потерявший своего близкого, охвачен побуждением искать и вернуть утраченное лицо. Иногда человек осознает такое свое побуждение, хотя часто и не осознает его: иногда человек по собственной воле бывает охвачен таким побуждением, когда посещает могилу или навещает другие места, тесно связанные с утраченной фигурой, но иногда он пытается заглушить такое побуждение как неразумное и абсурдное. Однако какую бы позицию человек ни занимал по отношению к этому побуждению, он, тем не менее, ощущает себя побуждаемым к поиску и, если возможно, к возвращению утраченной фигуры.
Это предположение было выдвинуто в 1961 году. Насколько нам известно, оно не оспаривалось, хотя мы сомневаемся в том, что оно уже широко принято. Как бы там ни было, доступные нам теперь дополнительные данные показывают, что оно было хорошо обоснованным.
Нижеследующее взято из недавно опубликованной работы, в которой приводятся сведения в пользу гипотезы о поиске утраченного лица:
"Хотя мы склонны думать о поиске в терминах двигательного акта беспокойного движения к возможным местоположениям утраченного объекта, [поиск] имеет также перцептивные и идеаторные компоненты... Признаки объекта могут быть идентифицированы лишь посредством обращения к воспоминаниям о том, каким был объект. Поэтому поиск во внешнем мире признаков объекта включает в себя установление внутреннего перцептивного "набора", полученного от предыдущего восприятия данного объекта" (Parkes, 1969).
Приведен пример женщины, ищущей своего маленького сына, который пропал: она беспокойно движется взад и вперед дома по местам его возможного местонахождения, ища мальчика глазами и думая о нем; она слышит скрип и немедленно принимает его за звук шагов сына на лестнице; она кричит: "Джон, это ты?". Компоненты данной последовательности следующие:
а) беспокойное движение туда-сюда и разглядывание окружающей среды;
б) интенсивное думание об утраченном лице;
в) разработка перцептивного "набора " признаков данного лица, а именно: предрасположенность воспринимать и обращать внимание на любые стимулы, которые наводят на мысль о присутствии данного лица, и игнорирование любых других стимулов, не относящихся к этой цели;
г) направление внимания на те части окружающей среды, где может быть данное лицо;
д) призыв утраченного лица.
Подчеркивается, что каждый их этих компонентов может наблюдаться у потерявших близкого человека мужчин и женщин; кроме того, некоторые убитые горем люди постоянно осознают у себя побуждение к поиску.
Две очень распространенные черты траура, которые интерпретировались в наших более ранних работах как часть такого побуждения к поиску - это плач и гнев.
Лицевые выражения, типичные для печали взрослого человека, по заключению Дарвина (1872), являются результирующей, с одной стороны, тенденции пронзительно кричать, подобно ребенку, когда он чувствует себя покинутым, и, с другой стороны, внутреннего запрета на такой пронзительный крик. Как плач, так и пронзительный крик, конечно же, являются путями, которыми ребенок обычно привлекает к себе внимание и возвращает отсутствующую мать или какое-либо другое лицо, которое может помочь ему найти ее; и они имеют место в состоянии печали, как мы полагаем, с теми же самыми целями в голове - либо осознаваемыми, либо неосознаваемыми.
Та частота, с которой встречается гнев как часть нормального траура, по нашему мнению, обычно недооценивалась - возможно, потому, что гнев кажется столь неуместным и позорным. Однако не может быть никакого сомнения по поводу его частой встречаемости, в особенности в первые дни траура. Как Линдеманн, так и Мэррис были поражены этим. Гнев был очевиден, по крайней мере, эпизодически, у восемнадцати из двадцати двух вдов, изученных Паркесом, и у семи из них он был очень заметен во время первой беседы. Объектами данного гнева были родственники (четыре случая), духовенство, врачи или должностные лица (пять случаев) и в четырех случаях - сам мертвый муж. В большинстве таких случаев причиной для подобного гнева служило то, что данное лицо считалось в некотором смысле ответственным за смерть мужа или проявившим невнимание в связи с этой смертью, либо по отношению к умершему человеку, либо по отношению к его вдове.
Среди четырех вдов, которые выражали гнев по отношению к мертвому мужу, была одна, которая сердито воскликнула во время беседы спустя девять месяцев после утраты мужа: "О, Фред, зачем ты меня покинул? Если бы ты знал, как это тяжко, ты бы никогда меня не покинул!". Впоследствии она отрицала, что была сердита, и заметила: "Нехорошо быть сердитой ". Другая вдова также выражала гневные упреки в адрес мужа за то, что он покинул ее.
Также часто встречалась некоторая степень самоупреков, и обычно они сосредоточивались на какой-то малозначительной оплошности или поручении, связанными с последней болезнью или со смертью. Хотя бывали периоды, когда такие самоупреки были достаточно тяжелыми, ни у одной вдовы из этих выборок самоупреки не были столь же интенсивными и неослабными, как у тех субъектов, которые продолжают испытывать печаль до тех пор, пока, наконец, она не диагностируется как депрессивное заболевание (Parkes, 1965).
В более ранней работе (Bowlby, 1961) отмечалось, что гнев является как обычно встречающимся, так и полезным, когда разлука лишь временна: тогда он помогает преодолевать препятствия по воссоединению с утраченной фигурой; и после достижения воссоединения выражение упреков в адрес кого-либо, кто представляется ответственным за разлуку, уменьшает вероятность того, что разлука произойдет вновь. Лишь когда разлука постоянна, гнев и упреки неуместны.
"Из этого заключалось, что имеются веские биологические причины реагировать на каждую разлуку автоматическим инстинктивным образом агрессивным поведением: безвозвратная утрата статистически столь редка, что она не принимается во внимание. По-видимому, в ходе нашей эволюции наша инстинктивная организация приняла такую форму, что все утраты воспринимаются как обратимые и на них реагируют соответствующим образом" (Bowlby, 1961).
Гипотеза о том, что многие черты второй фазы траура следует понимать как аспекты не только тоски, но и действительного поиска утраченной фигуры, является центральной для всего нашего тезиса. Она в конечном счете связана, конечно же, с картиной поведения привязанности, которая была выдвинута одним из нас (Bowlby, 1969). Считается, что поведение привязанности является формой инстинктивного поведения, которое развивается у людей, как и у других млекопитающих, в период младенчества и имеет в качестве своего стремления или цели близость к материнской фигуре. Высказывалось предположение, что функция поведения привязанности служит защите от хищников. Хотя поведение привязанности проявляется особенно сильно (1) в детстве, когда оно направлено на родительские фигуры, тем не менее оно продолжает оставаться активным so взрослой жизни, когда оно обычно направлено на какую-либо активную и доминантную фигуру, часто на родственника, но иногда на работодателя или на некоторого более старшего члена сообщества. Поведение привязанности, как подчеркивает теория, выявляется всегда, когда человек (ребенок или взрослый) болен или испытывает трудности, и выявляется с большой интенсивностью, когда он напуган или не может найти фигуру привязанности. Так как в свете этой теории поведение привязанности рассматривается нормальной и здоровой частью инстинктивной организации человека, считается крайне неправомерным называть его "регрессивным" или ребяческим, когда мы встречаем его у старшего ребенка или у взрослого. По этой причине также считается, что термин "зависимость" ведет к серьезной ошибочной перспективе: ибо в повседневной речи описание кого-либо как зависимого не может не нести с собой подтекст критики. По контрасту, описание кого-либо как испытывающего привязанность несет с собой позитивную оценку.
Данная картина поведения привязанности как нормального и здорового компонента инстинктивной организации человека приводит нас также к рассмотрению сепарационной тревоги как естественной и неизбежной реакции всегда, когда фигура привязанности объяснимо отсутствует. Мы полагаем, что приступы паники, к которым, как известно, склонны люди, понесшие тяжелую утрату близкого человека, могут быть наилучшим образом поняты в свете этой гипотезы. Они склонны иметь место в течение первых месяцев после переживания утраты, особенно когда реальность утраты доходит до сознания лица, понесшего ее.
Как наше собственное небольшое, но интенсивное исследование, так и более масштабный обзор, предпринятый Мэддисон и Уолкером (1967), наводят на мысль, что большинству женщин требуется длительное время для того, чтобы пережить потерю мужа. По каким бы психиатрическим стандартам их ни оценивали, менее половины из них снова становятся самими собой в конце первого года утраты. Из двадцати двух вдов, опрошенных Паркесом, две вдовы, по его мнению, все еще были крайне опечалены, а еще девять вдов время от времени испытывали горе и депрессию. Лишь четыре вдовы, по всей видимости, к концу первого года показывали хорошее приспособление. Очень часто наблюдались бессонница, различные незначительные боли и состояние нездоровья. В обзоре, предпринятом Мэддисон и Уолкером, к концу первого года у 1/5 вдов все еще наблюдалось очень плохое здоровье и расстроенное эмоциональное состояние. Мы придаем особое значение этим данным, какими бы прискорбными они ни были, потому что считаем, что клиницисты иногда имеют нереалистичные ожидания относительно той скорости, с которой люди могут преодолевать тяжелую утрату близкого человека. Возможно, некоторые из теоретических формулировок Фрейда были несколько вводящими в заблуждение в этом отношении. Например, часто цитируемый отрывок из работы "Тотем и табу" (1902-1913) гласит: "Траур имеет совершенно точно определенную психическую задачу для выполнения: его функция состоит в отводе воспоминаний и надежд оставшегося в живых человека от умершего". Когда мы руководствуемся таким критерием, мы должны признать, что в большинстве случаев траур терпит неудачу. Сам Фрейд, однако, осознавал это. Так, в письме соболезнования Бинсвангеру (смотрите E.L.Freud, 1961) он пишет:
"Хотя мы знаем, что после такой утраты острое состояние траура будет утихать, нам также известно, что мы будем оставаться безутешными и никогда не найдем замены. Безотносительно к тому, что может заполнить эту брешь, даже если она целиком заполнена, все же остается нечто еще. И в действительности так и должно быть. Это единственный способ увековечивания той любви, от которой мы не хотим отказаться".
Вдовы, с которым беседовал Паркес спустя год после их утраты, повторяли подобные слова. Почти половина из них все еще находила для себя затруднительным делом признать тот факт, что их муж был мертв: большинство из них все еще проводили много времени, думая о прошлом, и все еще временами испытывали ощущение, что их муж присутствует поблизости. Ни у одной из этих вдов воспоминания и надежды не были отведены от воспоминаний об умершем. В наших собственных исследованиях, а также в обзоре Мэддисон и Уолкера, было обнаружено, что чем моложе овдовевшая женщина, тем более интенсивен ее траур, и тем более расстроенным склонно быть ее здоровье к концу первого года утраты. По контрасту, если женщине свыше 65 лет, когда умирает ее муж" данный удар склонен быть намного менее выводящим ее из строя. Дело обстоит таким образом, как если бы ее связи уже начинали ослабевать. Это вполне заметное отличие в интенсивности и продолжительности траур может, возможно, обеспечить ключ для понимания того, что происходит после утраты в детстве.
Печаль и траур в детстве
Несколько лет тому назад один из нас (Bowlby, 1960b) отмечал, что маленькие дети не только испытывают горе, но что они часто испытывают печаль много дольше, чем это иногда предполагалось. В поддержку этой точки зрения он привел некоторые наблюдения своих коллег- Робертсона (1953Ь) и Хейнике (1956) - о длительной печали по матери у детей от одного до двух лет в районных детских яслях, а также отчеты о поведении детей в Хэмпстедском приюте-яслях во время войны. (Смотрите также более позднее исследование Хейнике и Вестхеймера (1966).) Эти исследования, по-видимому, делают ясным, что в таких обстоятельствах маленькие дети открыто выражают свою печаль по поводу отсутствия матери в течение по крайней мере нескольких недель, плача и призывая ее или указывая другими путями, что они все еще стремятся к ней и ожидают ее возвращения. Представление о том, что печаль в младенчестве и раннем детстве является кратковременной, не подтверждается при внимательном изучении в свете этих наблюдений. В частности, в отчете, представленном А.Фрейд и Бёрлингам (1943), был приведен случай мальчика в возрасте трех лет и двух месяцев, чья печаль явно продолжалась в течение некоторого времени, хотя и в молчаливой форме. Теперь мы вновь обращаемся к данному отчету, так как считаем, что он содержит очень много относящейся к делу информации. Когда Патрика оставляли в приюте-яслях, его убеждали быть хорошим мальчиком и не плакать, иначе мать не будет его навещать.
"Патрик пытался сдержать свое обещание, и его никогда не видели плачущим. Вместо этого он всегда кивал своей головой, когда кто-либо глядел на него, и уверял себя и любого другого человека, который хотел его выслушать, что мать придет за ним, наденет на него его пальто и вновь заберет его домой. Всегда, когда слушатель казался верящим ему, он был удовлетворен; всегда, когда кто-либо ему противоречил, он разражался яростными слезами.
Такое же состояние дел продолжалось в последующие два или три дня с различными дополнениями. Кивание приняло более принудительный и автоматический характер: 'Моя мать наденет на меня пальто и вновь заберет меня домой'.
Позднее стал добавляться постоянно растущий список одежды, который, как он предполагал, мать наденет на него: 'Она наденет на меня мое пальто и детские рейтузы, она застегнет застежки-молнии на моих ботинках, она наденет на меня мою шапочку в виде грибка'. Когда повторения этой формулы стали монотонными и нескончаемыми, кто-то спросил его, не может ли он перестать снова и снова говорить об этом. И опять Патрик попытался быть хорошим мальчиком, как этого хотела от него мать. Он перестал повторять эту формулу вслух, но его губы двигались, показывая, что он молчаливо повторял это снова и снова.
В то же самое время он заменял проговаривание жестами, которые показывали местоположение его шапочки в виде грибка, надевание на него воображаемого пальто, застегивание молнии на ботинках и т. д. То, что в один день показывалось как экспрессивное движение, на следующий день редуцировалось до простого начального движения пальцев. В то время как другие дети были в основном заняты игрушками, играми, издаванием музыкальных звуков, Патрик, абсолютно безучастный, обычно стоял где-либо в углу, двигая своими руками и губами с трагичным выражением на лице ". (Freud, Burlingham, 1942).
Очень много полемики последовало вслед за ранними статьями Боулби; и мы предполагаем, что пройдет еще некоторое время, прежде чем все эти проблемы будут прояснены. Из многих обсуждавшихся проблем есть две, которые мы хотим здесь прокомментировать. Первая связана с использованием термина "траур"; вторая имеет отношение к сходствам и различиям между детским трауром и трауром взрослого. В более ранних работах считалось полезным использовать термин "траур" в широком смысле для охвата различных реакций на утрату, включая некоторые реакции, которые ведут к патологическому исходу, а также те реакции, которые следуют за утратой в раннем детстве.
Преимущество такого использования заключается в том, что тогда становится возможно связать вместе многие процессы и состояния, которые, как показывает опыт, являются взаимосвязанными - во многом таким же образом, каким термин ".воспаление" используется в физиологии и патологии для связывания многих процессов, некоторые их которых приводят к здоровому исходу, а другие терпят неудачу и приводят в результате к патологии. Альтернативной практикой будет ограничение термина "траур" особой формой реакции на утрату, а именно такой формой реакции, "в которой утраченный объект постепенно становится не связанным посредством болезненной и длительной работы воспоминания и проверки реальности" (Wolfenstein, 1966). Однако опасность такого использования термина состоит в том, что оно может вести к ожиданиям того, каким должен быть здоровый траур, что целиком расходится с тем, что, как нам известно, на самом деле происходит у многих людей. Кроме того, если станет предпочитаться договоренность об ограниченном использовании данного термина, то мы столкнемся с необходимостью нахождения и, возможно, создания нового термина; ибо нам представляется существенно важным, если мы хотим обсуждать эти проблемы продуктивно, чтобы у нас было Какое-либо подходящее слово, которым мы могли бы описывать весь диапазон процессов, которые приводятся в действие, когда утрата является длительной. В таком случае мы будем использовать термин "печаль" в этом смысле, так как он уже использовался известными аналитиками довольно широким образом и так как уже нет споров по поводу того, что очень маленькие дети испытывают печаль.
Кроме сосредоточения внимания на центральной области психопатологии, дискуссии последних лет имели много других последствий, которые должны приветствоваться всеми. Они показали, как мало нам все еще известно о том, как дети всех возрастов, включая подростков, реагируют на утрату близкого человека, и относительно того, какие факторы ответственны за более благоприятный исход в одних случаях, по сравнению с другими(2); во вторых, они стимулировали ценные исследования.
Мы уже подчеркивали, насколько трудно даже для взрослых людей в полной мере воспринимать то, что близкий им человек мертв и не вернется назад. Для детей это явно намного труднее сделать. Вольфенштейн (1966) сообщала о реакциях многих детей и подростков, которые лишились родителя и пришли на анализ; многие из них пришли в терапию во время первого года после такой тяжелой утраты. Среди моментов, которые поразили ее группу наблюдателей, было то, что "чувства печали были урезанными; было мало плача. Продолжалась погруженность в события повседневной жизни...". Однако постепенно лечащие их аналитики стали осознавать, что явно или завуалированно эти дети и подростки "отрицали окончательность утраты" и что на более или менее сознательном уровне все еще присутствовало ожидание, что утраченный родитель вернется. Те же самые длительно сохраняемые ожидания описаны Барнесом (1964) как имеющие место у двух детей из детского сада, которые лишились матери, когда им было два с половиной и четыре года соответственно. Снова и снова эти дети продолжали выражать надежду и ожидание, что их мать вернется.
Когда в свое время вследствие помощи аналитиков или других людей эти дети постепенно начинают осознавать, что их мать в действительности не вернется назад, они реагируют на это, как и вышеописанные вдовы, паникой и гневом. Пятнадцатилетняя Руфь, описанная Вольфенштейн, заметила несколько месяцев спустя после смерти матери: "Если бы моя мать действительно умерла, я бы осталась совершенно одинока… Я испытала бы ужасную панику". В другом месте рассказывается, как Руфь, лежа ночью в постели, иногда чувствовала себя отвратительно, будучи снедаема "фрустрацией, яростью и тоской. Она рвала постельное белье, свертывала его в нечто, напоминающее человеческое тело, и обнимала его".
Таким образом, хотя определенно имеются различия между тем, как ребенок и взрослый реагируют на утрату, имеют место также очень базисные сходства.
Кроме того, имеется еще одно сходство, к которому мы хотим привлечь внимание. Мы полагаем, что не только ребенок, но также и взрослый нуждается в помощи другого лица, которому он доверяет, если он хочет оправиться от утраты. При обсуждении реакций детей на утрату и как помочь им наилучшим образом, почти каждый исследователь подчеркивал, сколь чрезвычайно важно, чтобы у ребенка была доступная единственная и постоянная заместительная фигура, к которой он смог бы постепенно привыкнуть. Лишь в таких обстоятельствах можно ожидать, что ребенок в конечном счете воспримет эту утрату как безвозвратную и затем реорганизует свою внутреннюю жизнь соответствующим образом. (Сколь неудовлетворительным может быть любое другое разрешение, было в острой форме выражено Венди, четырехлетней девочкой, описанной Барнесом (1964). Когда ее отец перечислил длинный список людей, которые знали Венди и любили ее, Венди в ответ печально отвечала: "Да, но когда моя мамочка не была мертва, я не нуждалась в столь многих людях - мне была нужна лишь она одна".) Мы подозреваем, что то же самое справедливо для взрослых, хотя во взрослой жизни может быть немного легче находить замену также в дружеских отношениях с немногими другими людьми. Это приводит к двум взаимосвязанным и очень практическим вопросам: что нам известно о тех факторах, которые содействуют или препятствуют здоровому трауру? Как можем мы наилучшим образом помочь человеку, испытывающему траур?
Условия, которые содействуют или препятствуют здоровому трауру
В настоящее время среди психиатров царит общее согласие, что для того, чтобы траур приводил к более, а не к менее благоприятному исходу для лица, понесшего тяжелую утрату, необходимо - раньше или позже - выразить свои чувства. "Дайте скорби слова,- писал Шекспир,- печаль, которая не выражает себя, врастает в сердце и разбивает его на куски".
Однако, хотя до сих пор мы все можем находиться в согласии относительно людей, не способных выражать свои чувства, или, еще, пытаясь помочь им это сделать, все же остаются вопросы: как выражать скорбь словами? какие чувства должны быть выражены? и что значит прекращение их выражения?
Теперь имеются данные, что наиболее интенсивные и наиболее расстраивающие аффекты, вызываемые утратой, являются страхом покинутости, тоской по утраченной фигуре и гневом, что ее нельзя найти - данные аффекты связаны, с одной стороны, с побуждением к поиску утраченной фигуры, а с другой стороны, с тенденцией высказывания гневных упреков в адрес любого лица, которое кажется человеку, понесшему тяжелую утрату, ответственным за нее или за препятствия, чинимые им возвращению утраченного лица. Представляется, что всем своим эмоциональным бытием понесший тяжелую утрату человек сражается с судьбой, отчаянно пытаясь повернуть назад колес времени и вновь вернуть обратно более счастливые дни, которые внезапно были отняты у него. До сих пор, сталкиваясь лицом к лицу с реальностью и пытаясь прийти с ней к согласию, понесший тяжелую утрату человек заперт в своей борьбе с прошлым.
Ясно, что если мы хотим оказать помощь человеку, понесшему тяжелую утрату, что все мы хотим сделать, существенно важно, чтобы мы видели вещи с его точки зрения и уважали его чувства - сколь бы нереалистичными они нам ни казались. Ибо лишь в том случае, если понесший тяжелую утрату человек чувствует, что мы можем по крайней мере понимать и симпатизировать ему в стоящих перед ним задачах, есть большая вероятность, что он будет способен выражать те чувства, которые его переполняют - свою жажду возвращения утраченной фигуры, свою надежду, несмотря ни на что, что неким чудесным образом все хорошее может вернуться, свою ярость по поводу покинутости, свой гнев и несправедливые упреки в адрес "тех некомпетентных врачей ", "тех бесполезных сестер", и своего собственного виновного Я; если бы он раньше делал то-то и то-то или не делал этого и этого, возможно, можно было бы избежать катастрофы.
Находимся ли мы в роли друга человека, недавно понесшего тяжелую утрату, или врача кого-либо, кто много лет тому назад страдал от тяжелой утраты и чей траур потерпел неудачу, представляется как ненужным, так и бесполезным принимать на себя роль "представителя реальности": ненужным, потому что человек, понесший тяжелую утрату, в некоторой части своей личности хорошо осознает, что мир изменился; бесполезным, потому что, не принимая во внимание мир, как его все еще воспринимает часть личности такого человека, мы отчуждаем себя от него. Вместо этого наша роль должна быть ролью товарища и защитника, готового исследовать в ходе совместных обсуждений все те надежды и желания, и ослабить влияние маловероятных возможностей, которые он все еще питает в душе вместе со всеми теми сожалениями, упреками и разочарованиями, которые приводят его в отчаяние. Давайте приведем два примера.
В более ранней работе (Bowlby, 1963) был описан случай миссис К., примерно тридцатипятилетней женщины; ее отец неожиданно умер после необязательной операции в то время, когда ее врач (Дж.Б.) был за границей. В течение года она хранила свои чувства и мысли про себя, но в годовщину утраты истинная картина вышла на свет.
"Она рассказала мне, что в течение многих недель после смерти отца она жила в частично разделяемом убеждении, что в госпитале была допущена ошибка относительно личности умершего и что в любой день ей могут позвонить и сказать, что отец жив и готов вернуться домой. Кроме того, она ощущала особую злость на меня, потому что считала, что если бы я был рядом, то смог бы оказать влияние на госпиталь и таким образом позволить ей вернуть отца. Теперь, спустя двенадцать месяцев, эти мысли и чувства продолжали существовать. Она все еще частично ожидала сообщения из госпиталя и все еще злилась на меня за то, что я не вступаю в контакт с его начальством. Кроме того, в глубине души она все еще готовилась приветствовать отца при его возвращении. Это объясняет, почему она была столь сердита на свою мать за перемену обстановки в квартире, в которой жили ее родители, и почему также она продолжала откладывать перемену обстановки в собственной квартире: она считала жизненно важным, чтобы, когда ее отец действительно вернется назад, он нашел привычные для себя места обитания" (Bowlby, 1963).
Теперь для ее врача не было надобности выступать от имени реальности: другие люди это уже сделали, и она достаточно хорошо знала, какую точку зрения разделял мир, от своих родственников и друзей. В чем она нуждалась, так это в шансе выразить свою тоску, свои надежды и горький гнев за непонимание со сторон родственников и друзей. Она описывала, как в прошлую неделю ей привиделось, что ее отец смотрел на витрину магазина, и как она перешла улицу, чтобы подробнее присмотреться к похожему на отца человеку. Она описала свою ярость на сестру из персонала госпиталя, которая сообщила ей известие о смерти отца, и как она испытала побуждение бросить ее на цементный пол и размозжить ей голову. Она описала, как ощущала предательство своего врача, который отсутствовал как раз тогда, когда она больше всего в нем нуждалась; и она описала многое помимо этого, что в холодном свете дня, как она сама осознавала, было нереалистичным и несправедливым. В чем она нуждалась от врача и, как мы надеемся, нашла, так это в ком-либо, кто смог бы понять и посочувствовать ее нереалистичности и ее несправедливости. С каждым месяцем ее надежды и гнев увядали, и она начала примиряться с реальностью утраты.
Ту же самую роль проигрывал шестнадцатилетний юноша, которого мы станем называть Биллом. Он впервые встретился со своим психиатром (J.B.) в клинике, когда ему было четыре года, потому что дела в приюте шли неважно. История его жизни была полна неясностей, но мы узнали, что мать Билла была проституткой, которая поместила его в приют, когда ему было два года и затем исчезла. У Билла было множество проблем, и приемные родители отказались держать его у себя. В приюте за ним был организован особый уход, а позднее лечение в стационаре по месту проживания. Несколько раз в году он встречался с психиатром в клинике, и таким образом обеспечивалась некая непрерывность лечения. Теперь, в шестнадцатилетнем возрасте, он должен был вскоре закончить обучение в школе. В данной беседе Билл рассказал психиатру о своем плане отправиться в Америку на поиски своей матери. Он уже ранее бывал в пароходной компании и собирался отработать свою плату за переезд. Он был вполне интеллигентным парнем, и его планы относительно транспорта казались практичными. Однако можно себе представить изумление психиатра! Перед ним стоял молодой человек, который в последний раз видел свою мать, когда ему было два года и ни разу не слышал о ней с тех пор, у которого не было никакого представления о том, где она может быть и который даже не был уверен, что знает, как ее зовут. Очевидно, это была схема поисков дикого гуся. Однако психиатр не высказывал вслух свои мысли. Это был мир Билла и план Билла, и он сообщал о нем по секрету своему врачу; в роль врача не входило его развенчивание. Фактически, вся сессия была посвящена обсуждению этого плана. Билл считал, что его отец был военнослужащим, и предполагал, что мать вернулась к нему после войны. Снова были рассмотрены его планы пересечь Атлантику, а также те способы, которыми он мог заработать достаточное количество денег по другую сторону Атлантики, чтобы продолжать свои поиски. Психиатр не высказывал никаких сомнений, но он пригласил Билла прийти к нему для продолжения разговора где-то через неделю. Билл пришел. Он описал, как много думал по поводу своего плана, однако уже начал испытывать сомнения. Возможно, будет трудно установить точное местонахождение матери; и возможно, даже если ему удастся это сделать, она может быть не слишком желанной. В конце концов, рассуждал Билл, он будет для нее незнакомым человеком. И опять, получив шанс исследовать в сочувствующей компании все те чувства и планы, которые он секретно лелеял многие годы, собственное чувство реальности пациента было достаточным.
Естественно, для других пациентов, в особенности для более взрослых, которые перенесли утрату много лет тому назад, в детстве или подростковом возрасте, задача терапевта помочь им восстановить утраченные чувства, утраченные надежды на воссоединение и гнев на то, что их покинули, может быть длительной и технически сложной задачей. Но общие цели остаются теми же самыми.
Стремление к невозможному, неумеренный гнев, слезы бессилия, ужас от перспективы одиночества, жалобная мольба о симпатии и поддержке - таковы чувства, которые требуется выразить человеку, понесшему тяжелую утрату, а иногда ему надо их сперва обнаружить, если он хочет успешного прохождения траура. Однако все это такие чувства, которые склонны считаться немужественными и недостойными мужчины. В лучшем случае их выражение может представляться унизительным; в худшем - они могут вызывать критику и презрение. Неудивительно, что такие чувства столь часто остаются невыраженными и могут впоследствии уходить в подполье.
Это приводит нас к вопросу о том, почему для некоторых людей труднее - часто намного труднее - выражать свои чувства печали, нежели иные чувства.
По нашему мнению, основная причина того, почему для некоторых людей крайне трудно находить выражение своей печали, заключается в том, что семья, в которой они воспитывались и с которой они все еще соединены, является семьей, в которой поведение привязанности ребенка не вызывает сочувствия и рассматривается как нечто, что должно быть изжито как можно быстрее. В таких семьях от плача и других протестов по поводу разлуки склонны избавляться как от инфантильных, а гнев или ревность считаются достойными порицания. Кроме того, в таких семьях чем больше ребенок настаивает на том, чтобы быть со своей матерью или отцом, тем больше ему говорится, что такие требования являются глупыми и несправедливыми; чем больше он плачет или проявляет вспышки раздражения, тем больше ему говорится, что он непослушный и плохой. Как результат подвергания таким давлениям, ребенок склонен приходить к принятию этих стандартов для себя; плакать, выдвигать требования, ощущать гнев, потому что они не удовлетворяются, обвинять Других - все эти эмоции будут оцениваться им как несправедливые, детские и плохие. Поэтому, когда он страдает от серьезной утраты, вместо выражения всех тех чувств, которые переполняют всякого человека, понесшего тяжелую потерю, он склонен заглушать их. кроме ТОГО, его родственники, продукты той же самой семейной культуры, склонны разделять такой же критический взгляд на эмоции и их выражение. И поэтому тот человек, который больше всего нуждается в понимании и ободрении, имеет наименьшую возможность получить такую поддержку.
Яркая иллюстрация этого процесса интернализации укоряющего контроля представлена случаем Патрика, трехлетнего мальчика из Хэмпстедского приюта-яслей, описанного ранее. Патрика, как вы помните, убеждали быть хорошим мальчиком и не плакать - в противном случае мать не будет навещать его. Представляется вероятным, что это было типично для ее отношения к выражениям страдания ребенка. Поэтому неудивительно, что он пытался задушить все свои чувства и вместо их выражения развил ритуал, который все в большей степени становился оторван от того эмоционального контекста, который привел к его порождению.
Мы считаем, что избегание траура является важным, но не единственным патологическим вариантом печали. Многие понесшие тяжелую утрату взрослые люди, ищущие помощи у психиатров, показывают мало свидетельств внутреннего запрета на выражение эмоций, как было описано выше. Наоборот, как было документально подтверждено в предыдущей работе (Parkes, 1965), эти люди показывают все черты печали в тяжелой и затянувшейся форме. Стоящая здесь проблема состоит не в том, почему пациентка неспособна выражать печаль, но почему она (ибо обычно это женщина) не в состоянии из нее выйти. Конечно, возможно, что даже в этих случаях встречаются некоторые еще не узнанные компоненты печали, на выражение которых наложен внутренний запрет; но имеются три характеристики, которые, по-видимому, отличают эти хронические реакции печали и которые могут наводить на мысль об альтернативном объяснении.
Во-первых, привязанность пациентки к своему утраченному супругу, как обычно обнаруживается, является очень тесной, с огромным самоуважением, и ролевая идентичность оставшегося в живых члена пары зависит от продолжающегося присутствия супруга. Такие пациентки склонны сообщать о переживании ими сильного страдания даже во время коротких временных разлук в прошлом. Во-вторых, у пациентки нет близких отношений с другим членом семьи, на кого она могла бы перенести некоторые из тех связей, которые привязывают ее к своему мужу. Ее интенсивное взаимоотношение с ним, по-видимому, было столь единственным в своем роде, что даже те члены семьи, которые существуют, отошли на задний план, так что после понесения тяжелой утраты супруга она не находит какого-либо человека или какой-либо интерес, который отвлек бы ее от печали. Наконец, вполне вероятно, что взаимоотношение в браке было противоречивым, возможно, потому, что муж возмущался по поводу собственнических притязаний на него со стороны жены. Во всяком случае, оставшаяся в живых пациентка обычно находит какой-либо источник для упреков в свой адрес и бичует себя за то, что не смогла быть более хорошей женой, или за то, что позволила своему мужу умереть. Печаль такого человека, по-видимому, часто содержит в себе элемент самонаказания, как если бы беспрестанный траур стал священным долгом перед мертвым, посредством которого оставшийся жить член семьи мог получить воздаяние.
Лечение таких пациентов оказывается трудным делом, так как они часто, по-видимому, находят удовольствие в возможности повторения, снова и снова, болезненной драмы их утраты. Хотя нет общего согласия по поводу ценности для них психотерапии, многое может быть сделано, чтобы помочь им в восстановлении их привязанности к миру. Семья, местное духовенство или поддерживающая помощь организации, такой, как "Источник" или "Самаритяне", могут быть мобилизованы, действуя подобно мосту, ведущему к жизни; в то же время заупокойная служба, праздник с друзьями или даже перестановка в доме могут быть поворотным пунктом, ритуалом перехода из одного состояния в другое, из роли испытывающего траур человека к новой роли вдовы.
Рассматриваемая в таком свете, тяжелая утрата становится семейной проблемой. Поэтому нам требуется знать, какие изменения происходят в динамической структуре семьи, когда умирает ее ведущий член. Относящаяся к делу информация поступает к нам от исследования молодых вдов и вдовцов из Бостона, которая все еще продолжает собираться (3). Помимо эмоциональных проблем, наиболее безотлагательной проблемой является проблема ролей. Кто, например, должен взять на себя роли умершего мужа? Некоторые из них, такие, как руководство домашними делами, обычно передаются оставшейся вдове. Другие роли остаются незаполненными: так, например, многие вдовы спят с лежащей рядом с ними подушкой или валиком под подушку. Молодая вдова обычно пытается воспринимать своего умершего мужа как продолжающего оказывать ей помощь в принятии решений и делает его желания и предпочтения основой для многого в собственном поведении. Когда необходимо принятие решений, которые выходят за рамки сферы этого "внутреннего судьи", она наиболее часто станет обращаться к брату мужа как к человеку, наиболее близкому к ее мужу по культуре и крови. Сходным образом, вдова склонна рассматривать сестру мужа как наиболее полезного члена среди женщин его семьи и ищет ее помощи в принятии решений по поводу детей и домашних дел.
Однако с течением времени эти ролевые распределения увядают, и часто за ними следует постепенное разрушение расширенной семьи. Вдова или вдовец более не обращается к семье супруга как к источнику помощи и вместо этого развивает более высокую степень самостоятельности, несмотря на одиночество и внутрисемейные конфликты, которые являются следствием такого поведения. Затем друзья и дети становятся важным источником поддержки по мере того, как позиция вдовы или вдовца становится более прочной и он/она вновь начинает энергично решать встающие жизненные задачи.
Способность вдовы или вдовца справляться с этими новыми ролями и ответственностями явно зависит частично от личности и предшествующего опыта, а частично - от выдвигаемых требований и поддержки, необходимой внутри семьи. Дети могут быть обузой или благословением; такими же могут быть и невестки, золовки и свояченицы; и женщине, у которой нет опыта работы вне дома, приходится преодолевать много препятствий, чтобы договориться о чем-либо. Неудивительно, что значительной части вдов не удается найти какого-либо удовлетворительного образа жизни. Когда спустя тринадцать месяцев после утраты мужа им задали вопрос, как они себя чувствуют, 74% молодых вдов из Бостона согласились, что "никогда нельзя оправиться от такого удара ".
Исследование, иллюстрирующее ту роль, которую друзья и родственники играют в воздействии на исход тяжелой утраты, было проведено Мэддисон и Уолкером (1967). Они исследовали две группы вдов, каждую из двадцати человек, члены которых согласились отвечать на вопросы, и они сравнивались, насколько это было возможно, по обычным социологическим параметрам. Первая группа вдов была отобрана потому, что к концу двенадцати месяцев после тяжелой утраты они все, казалось, на основании данных об их здоровье, добились достаточно благоприятного исхода; вторая группа вдов была отобрана потому, что данные об их здоровье наводили на мысль, что у них исход не был благоприятным. Беседы с ними подтвердили, что данные о состоянии здоровья в действительности являются хорошим индикатором того, как человек справляется с эмоциональными проблемами тяжелой утраты.
В ходе долгих полуструктурированных бесед опрашивающий интересовался тем, кто был доступен для вдовы в течение первых трех месяцев ее вдовства, а также - в отношении всех этих лиц - нашла ли она их полезными, бесполезными или нейтральными. Кроме того, вопросы были направлены на обнаружение того, легко или затруднительно было вдове выражать свои чувства с каждым вышеназванным лицом, побуждали ли они ее вспоминать о прошлом, испытывали ли они желание направлять ее внимание на текущие или будущие проблемы и предлагали ли они ей практическую помощь. Так как целью данного исследования было попытаться найти, как сами вдовы вспоминают свое поведение с другими людьми, не предпринималось никакой попытки проверки, как их описания соответствуют описаниям тех людей, с которыми они контактировали.
Когда сравнивались ответы двух этих групп вдов, были выделены следующие отличия. Во-первых, вдовы, состояние которых было неблагоприятным спустя двенадцать месяцев после утраты, сообщали, что получали слишком мало поддержки как для выражения своей печали и гнева, так и для разговора о своем умершем муже и о прошлом. Они жаловались, что вместо этого люди делали для них выражение чувств более затруднительным делом, настаивая, чтобы вдова взяла себя в руки или контролировала себя, что, во всяком случае, она не единственный человек, кто страдает, что для нее было бы более мудрым делом смотреть в лицо будущим проблемам, чем непродуктивно вспоминать о прошлом. По контрасту, вдовы с достаточно хорошим исходом траура сообщали, как те люди, с которыми они были в контакте, делали для них легким делом выражать интенсивность своих чувств и плакать; и они описывали, какое испытывали облегчение, имея возможность свободно и продолжительно говорить о прошедших днях со своим мужем и об обстоятельствах его смерти.
Как нам следует интерпретировать эти данные? Очевидное и, видимо, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что отношение друзей и родственников заставляло вдову из первой группы подавлять или избегать выражения печали и что патологический исход траура явился следствием такого поведения. Или же вдова могла приписывать своим друзьям и родственникам свой собственный страх выражения чувств и обвиняла их за собственную неспособность их выражения. Или же оба процесса могли протекать совместно. Однако не все формы патологического исхода траура, описанные Мэддисон и Уолкером, могут быть приписаны внутреннему запрету или избеганию печали; некоторые другие вдовы показывали синдром хронической печали, описанный выше. В этих случаях возможно, что те переживания, о которых рассказали такие вдовы, отражают такой разрыв в коммуникации, что семья не казалась сочувствующей и помогающей. При отсутствии понимания и поддержки с их стороны вдова, вполне вероятно, могла обнаружить для себя, что ей очень трудно найти какой-либо стимул для нового старта, для какого-либо нового своего вклада в мир, со всеми опасностями дальнейшего разочарования и утраты. Вместо этого, по-видимому, она была склонна смотреть назад, неоднократно ища мужа, которого могла находить лишь в памяти, и осуждая себя на постоянную печаль.
Это приводит нас к заключительному пункту. У нас вызывает тревогу теоретизирование, представленное в психоаналитической литературе, а также язык, который используется в клинической дискуссии. Например, нередко можно обнаружить, что плач взрослых людей после утраты близкого человека в результате катастрофы описывается как "регрессия" или как сильное стремление к другому человеку, побуждение оставаться ему верным, описывается как выражение "детской зависимости". Мы не только считаем такое теоретизирование ошибочным с научной точки зрения, но оно очевидно представляет такое отношение, которое, если это будет перенесено на клиническую работу, может лишь усилить наклонности понесшего тяжелую утрату человека ощущать вину и стыд как раз за те чувства и поведение, выражение которых, по нашему мнению, Могло бы ему больше всего помочь.
Имеются и другие слова и концепции, которые, по нашему мнению, приводят к сходным затруднением. "Магическое мышление" и "фантазия" являются терминами, которые следует использовать крайне осторожно. Фантазия, по определению, есть что-то всецело нереалистичное; так что говорить о надеждах и ожиданиях ребенка о возвращении его мертвой матери как о "желаемой фантазии" значит, в наших глазах, несправедливо к ним относиться. Мы считаем, что вера миссис К., что ее отец все еще мог быть жив, вероятно, была ошибочной, как она сама это подозревала, но она не была абсурдной. Время от времени совершаются ошибки, и пропавшие без вести люди действительно возвращаются, когда этого меньше всего ожидают. Идеи Билла, шестнадцатилетнего парня, который надеялся найти свою мать, вероятно, были неправильно поняты, но при определенных предпосылках это был достаточно обоснованный план. Нам кажется, что избегая употреблять такие негативно нагруженные термины, как "отрицание реальности" и "фантазия", и используя вместо этого такие фразы, как "отсутствие веры в то, что произошло событие X", "вера в то, что событие Y все же может быть возможным" или "выработка плана для достижения Z", мы сможем в большей мере видеть мир так, как его видят наши пациенты, и сохранять ту нейтральную и эмпатическую позицию, исходя из которой, как нам известно из опыта, мы можем помочь им наилучшим образом.
Примечания
1. Смотрите примечание 1 к третьей лекции.
2. Теперь нам известно намного больше о тех условиях, которые влияют на течение детского траура. Смотрите примечания 4 и 5 к третьей лекции.
3. Смотрите книгу Глика, Вейсса и Паркеса (1974).
|
Уверенность в себе и некоторые условия, которые ей содействуют
|
|
|
|
Создание и разрушение эмоциональных связей
Боулби Джон
"Создание и разрушение эмоциональных связей" Лекция 7
Каждый год Королевский колледж психиатров организует лекцию в честь Генри Модели, который был благотворителем предшествующего колледжа, Королевской медико-психологической ассоциации (а также госпиталя Модели). Меня пригласили прочесть лекцию 1976 года на собрании колледжа, проводимом в Лондоне осенью этого года. Она была опубликована в намного расширенной форме и в двух частях следующей весной.
Этиология и психопатология в свете теории привязанности
Начиная с того времени, как я впервые изучал психиатрию в госпитале Модели, мои интересы были сосредоточены на том вкладе, который вносит окружающая человека обстановка в его психологическое развитие. В течение многих лет на нее не обращали внимания, и лишь теперь она начинает получать то внимание, которого заслуживает. Это не вина того стойкого защитника научного исследования психических расстройств, чью жизнь и деятельность мы вспоминаем сегодня. Ибо, хотя из некоторых отрывков из его трудов может создаться впечатление, что Генри Модели придавал малое значение факторам окружающей обстановки, это далеко не так, что видно из чтения его важной книги "Ответственность в психических заболеваниях", впервые опубликованной почти ровно столетие тому назад. И действительно, с самого начала своей карьеры подход Модели был подходом биолога - как и можно было ожидать от сына фермера: и он знал, что в психиатрии, как и во всех других биологических науках, необходимо принимать во внимание "субъекта и окружающую его обстановку, человека и его обстоятельства " и тот факт, что это требует, чтобы мы приняли эволюционный подход. (Цитата из эссе Модсли, опубликованного в 1860 г. Получением этой и другой информации относительно жизни и деятельности Модсли я обязан информации, представленной сэром Обри Льюисом в его двадцать пятой лекции о Модсли (Lewis, 1951).) Таким образом, в подготовке этой лекции, приглашение прочесть которую явилось для меня большой честью, меня поддерживала уверенность в том, что ее тема, тема социального и эмоционального развития ребенка в связи с различными типами семейной обстановки, находится в согласии со всем тем, что отстаивал Генри Модели.
То, что ради удобства я называю теорией привязанности,- это способ концептуализации склонности людей устанавливать сильные нежные привязанности с выделенными людьми и объяснения многих форм эмоционального страдания и расстройства личности, включая тревогу, гнев, депрессию и эмоциональное отчуждение, чему дают начало нежеланная разлука и утрата. Как теоретический предмет, теория привязанности имеет дело с теми же самыми явлениями, которые до сих пор рассматривались в терминах "потребности, обусловленной зависимостью" или "объектных отношений", или "симбиоза" и "индивидуации". Данная теория, хотя она включает в себя многое из психоаналитического мышления, отличается от традиционного психоанализа тем, что заимствует много принципов, которые выводятся из сравнительно новых дисциплин этологии и теории контроля; это позволило обходиться без понятий психической энергии и влечения, а также установить тесные связи с когнитивной психологией. Достоинства такого подхода состоят в том, что хотя понятия этой теории являются психологическими, они совместимы с понятиями нейрофизиологии и эволюционной биологии, а также в том, что этот подход удовлетворяет обычным критериям научной дисциплины.
Защитники теории привязанности утверждают, что многие формы психиатрического расстройства могут быть приписаны либо отклонениям в развитии поведения привязанности, либо, более редко, неудаче в развитии поведения привязанности; и что эта теория также проливает свет на происхождение и лечение таких состояний. Выраженный кратко, тезис данной лекции состоит в том, что если мы хотим помочь такому пациенту терапевтически, необходимо дать ему возможность детального рассмотрения того, как на его текущие способы восприятия и поведения с эмоционально значимыми лицами, включая врача, могут оказывать влияние и, возможно, серьезно их нарушать, те переживания, которые были у него с родителями в годы детства и юности, а некоторые из которых, возможно, продолжаются вплоть до настоящего времени. Это влечет за собой рассмотрение прошлых переживаний как можно более честным образом, рассмотрение, которому врач может либо способствовать, либо препятствовать. В данном кратком изложении возможно лишь высказать общие принципы и стоящее за ними логическое обоснование. Мы начинаем с краткого описания того, что имеется в виду под теорией привязанности, (Для более полного описания тех данных, на которых она основывается, применяемых концепций и аргументов в ее защиту, смотрите уже опубликованные два тома работы "Привязанность и утрата, Bowlby, 1969, 1973.)
До середины пятидесятых годов XX века преобладала ясно сформулированная точка зрения на природу и происхождение эмоциональных связей, и по этому вопросу имело место согласие между психоаналитиками и теоретиками теории обучения. Утверждалось, что между индивидами развиваются связи, так как индивид обнаруживает, что для уменьшения определенных влечений, например, к пище в младенчестве или к сексу во взрослой жизни, необходим другой человек. Этот тип теории ставит условием две разновидности влечения, первичную и вторичную; еда и секс классифицируются здесь как первичные, а "зависимость" и другие личные взаимоотношения - как вторичные влечения. Хотя теоретики объектных отношений (Balint, Fairbairn, Guntrip, Klein, Wmnicott) пытались модифицировать эту формулировку, продолжали существовать концепции зависимости, оральности и регрессии.
Исследования неблагоприятных воздействий на развитие личности утраты материнской заботы привели меня к вопросу об адекватности традиционной модели. В начале пятидесятых годов работа Лоренца по импринтингу, которая впервые появилась в 1935 году, стала более широко известна и предложила альтернативный подход. Лоренц обнаружил, что, по крайней мере у некоторых видов птиц, развиваются сильные привязанности к фигуре матери в первые дни жизни без какой-либо связи с пищей, а просто потому, что молодой птенец встречается и знакомится с данной фигурой. Утверждая, что эмпирические данные о развитии привязанности человеческого младенца к своей матери могут быть лучше поняты на языке модели, полученной от этологии, я в общих чертах наметил теорию привязанности в работе, опубликованной в 1958 году. Одновременно и независимо от меня, Харлоу (1958) опубликовал результат своих первых исследований детенышей обезьян-резусов, которых растили суррогатные, неодушевленные матери. Он обнаружил, что молодая обезьяна будет оставаться привязанной к суррогатной матери, которая ее не кормит, при условии, что эта мать мягкая и с ней уютно.
За последние пятнадцать лет были опубликованы многие эмпирические исследования детей человека (например, Robertson, Robertson, 1967-1972; Heinicke, Westheimer, 1966; Ainsworth, 1967; Ainsworth, Bell, Stayton, 1971, 1974; Blurton Jones, 1972), теория была крайне расширена (например, Ainsworth, 1968; Bowlby, 1969; Bischof, 1975), и исследовалось взаимоотношение теории привязанности и теории зависимости (Maccoby, Masters, 1970; Gewirtz, 1972) (1). Были выдвинуты новые формулировки относительно патологической тревоги и фобии (Bowlby, 1973), а также относительно траура и его психиатрических осложнений (например, Bowlby, 1961; Parkes, 1965,1971,1972). Паркес (1961) расширил эту теорию до охвата ряда эмоциональных реакций всегда, когда человек сталкивается с большими изменениями в его жизненной ситуации. Было проведено много исследований сравнительного поведения разных видов приматов (смотрите обзор Hinde, 1974).
Кратко представленное поведение привязанности понимается как любая форма поведения, которое приводит в результате к тому, что человек добивается или сохраняет близость с каким-либо другим выделенным и предпочитаемым им индивидом, который обычно считается более сильным и/или более мудрым.
Утверждается, что хотя поведение привязанности наиболее очевидно в раннем детстве, оно характеризует людей от колыбели до могилы. Оно включает в себя плач и крик, которые вызывают заботу, следование и цепляние, а также сильный протест, если ребенок должен оставаться в одиночестве или с незнакомыми людьми. С возрастом частота и интенсивность, с которыми проявляется подобное поведение, постоянно уменьшаются. Тем не менее все эти формы поведения продолжают существовать как важная часть поведенческого реагирования человека. У взрослых людей такое поведение особенно заметно, когда человек расстроен, болен или боится. Особые проявления поведения привязанности, показываемые индивидом, частично зависят от его текущего возраста, пола и обстоятельств, частично - от тех переживаний, которые у него были с фигурами привязанности ранее в его жизни.
Как способ концептуализации сохранения близости, теория привязанности, в отличие от теории зависимости, выделяет следующие черты: (При описании этих черт я обращаюсь к тексту статьи (Bowlby, 1975), написанной для тома 6 "American Handbook of Psychiatry ", 1975. Basic Books Inc., и я признателен редакторам и издателям за разрешение это делать.)
(а) Специфичность. Поведение привязанности направлено на одного или немногих выделенных индивидов, обычно в явном порядке предпочтения.
(б) Длительность. Привязанность продолжается обычно в течение большей части жизненного цикла. Хотя в юности ранние привязанности могут ослабевать и дополняться новыми привязанностями, а в некоторых случаях заменяться ими, от ранних привязанностей отказываются нелегко, и они обычно продолжают существовать.
(в) Вовлеченность эмоции. (Хотя этот параграф немного отличается от подобных параграфов в лекциях 4 и 6, я оставляю его без изменения, потому что без этого данная лекция была бы существенно неполной.) Многие из наиболее сильных эмоций возникают во время установления, поддержания, разрыва и возобновления отношений привязанности. Установление связи описывается как влюбленность, поддержание связи - как любовь кого- либо, а утрата партнера - как печаль о ком-то. Сходным образом, угроза утраты порождает тревогу, а действительная утрата порождает печаль; в то же время любая из этих ситуаций склонна вызывать гнев. Не вызывающее сомнений сохранение связи переживается как источник безопасности, а возобновление связи - как источник радости. Так как такие эмоции обычно являются отражением состояния нежных привязанностей человека, психология и психопатология эмоций по большей части являются психологией и психопатологией нежных привязанностей.
(г) Онтогенез. У огромного большинства человеческих младенцев поведение привязанности к предпочитаемой фигуре развивается во время первых девяти месяцев жизни. Чем больше переживаний социального взаимодействия имеет младенец с человеком, тем больше вероятность его привязанности к этому человеку. По этой причине всякое лицо, осуществляющее главный уход за ребенком, становится его главной фигурой привязанности. Поведение привязанности остается легко активируемым до конца третьего года жизни; в здоровом развитии оно затем становится постепенно менее легко активируемым.
(д) Научение. В то время как обучение различать знакомое от незнакомого является ключевым процессом в развитии привязанности, обычные награды и наказания, используемые экспериментальными психологами, играют лишь малую роль. И действительно, привязанность может развиваться, несмотря на неоднократное наказание от фигуры привязанности.
(е) Организация. Первоначально поведение привязанности опосредуется реакциями младенца, организованными на вполне простых линиях. С конца первого года жизни оно опосредуется все более утонченными поведенческими системами, организованными кибернетически и включающими в себя репрезентационные модели окружающей среды я собственного Я. Эти системы активируются определенными условиями и прекращаются другими условиями. Среди активирующих условий находятся незнакомость, голод, усталость и все, что вызывает испуг. Условия прекращения включают в себя вид или звук материнской фигуры, и в особенности счастливое взаимодействие с ней. Когда поведение привязанности сильно возбуждено, для его прекращения может потребоваться прикосновение или цепляние за нее и/или крепкое объятие с ее стороны. И наоборот, когда материнская фигура присутствует или ее местонахождение хорошо известно, ребенок прекращает показывать поведение привязанности и вместо этого исследует окружающую его среду.
(ж) Биологическая функция. Поведение привязанности возникает у детенышей почти всех видов млекопитающих и у многих видов продолжается на протяжении всей взрослой жизни. Хотя имеют место многие отличия в деталях между видами, сохранение близости незрелого животного к предпочитаемой взрослой особи, почти всегда матери, является правилом, которое говорит о том, что такое поведение имеет ценность выживания. В другом месте (Bowlby, 1969) я утверждал, что, безусловно, предпочтительнее наиболее вероятной функцией поведения привязанности является защита, главным образом от хищников. Таким образом, поведение привязанности понимается как класс поведения, отличный от кормящегося поведения и сексуального поведения, и по меньшей мере столь же важного в человеческой жизни. В таком поведении нет ничего внутренне детского или патологического.
Следует отметить, что концепция привязанности сильно отличается от концепции зависимости. Например, зависимость не связана особым образом с сохранением близости, она не направлена на особого индивида, она не подразумевает прочной эмоциональной связи, она не связана необходимым образом с сильным чувством. Ей также не приписывается какая-либо биологическая функция. Кроме того, в концепции зависимости есть ценностный смысл, в точности противоположный тому, который передает концепция привязанности. В то время как описание человека как зависимого склонно нести в себе оттенок принижения, описание человека как привязанного к кому-либо вполне может быть выражением одобрения. И наоборот, если человек отчужден в своих личных взаимоотношениях, это обычно рассматривается как черта, далеко не вызывающая восхищения. Уничижительный элемент в концепции зависимости, который отражает неудачу в осознании той ценности, которую поведение привязанности имеет для выживания, считается фатальной слабостью для ее клинического использования.
Индивида, который показывает поведение привязанности, обычно описывают как ребенка, а фигуру привязанности - как мать. Это происходит потому, что до сих пор поведение привязанности пристально изучалось лишь у детей. Однако такое поведение применимо также в отношении взрослых людей и для любого человека, который участвует в нем в качестве фигуры привязанности - часто супруга, иногда родителя, и более часто, чем это можно предположить, ребенка.
Было отмечено [под рубрикой (е) выше], что когда мать присутствует или ее местонахождение хорошо известно и она желает принимать участие в дружеском взаимообмене, ребенок обычно прекращает показывать поведение привязанности и, вместо этого, исследует окружающую его среду. В такой ситуации мать может рассматриваться как обеспечивающая своего ребенка безопасной опорой, исходя из которой он может исследовать и к которой он может возвращаться, в особенности когда он устает или пугается. На протяжении всей оставшейся жизни он склонен показывать тот же самый паттерн поведения, уходя от тех, кого он любит, на все большее расстояние и период времени, однако всегда сохраняя контакт и раньше или позже возвращаясь к любимому лицу. Та опора, исходя из которой действует взрослый, наиболее вероятно является либо его первоначальной семьей, либо, иначе, новой опорой, которую он создал для себя. Всякий, у кого нет такой опоры, не имеет корней и крайне одинок.
В приводимом до сих пор описании упоминались два паттерна поведения, отличные от привязанности, а именно, исследование и оказание заботы.
В настоящее время имеются многочисленные данные в поддержку точки зрения о том, что исследовательская деятельность имеет собственную огромную значимость, позволяя человеку или животному построить связную картину особенностей окружающей среды, которая в любое время может стать важной для выживания. Дети и другие юные создания хорошо известны своим любопытством и исследованием, которые обычно уводят их в сторону от фигуры привязанности. В этом смысле исследовательское поведение является прямо противоположным к поведению привязанности. У здоровых индивидов две эти разновидности поведения обычно чередуются.
Поведение родителей и любого другого человека в роли оказания заботы является взаимно дополняющим к поведению привязанности. Роли лица, оказывающего заботу, состоят, во-первых, в том, чтобы быть доступным и реагирующим всегда, когда в этом есть потребность, и во-вторых, беспристрастно вмешиваться, когда ребенок или более взрослое лицо, о ком заботятся, сталкивается с трудностью. Это не только ключевая роль оказывающей заботу фигуры, но имеются веские свидетельства, что то, как забота проявляется со стороны родителей данного лица, в большой степени определяет, будет или не будет он расти психически здоровым. По этой причине, а также вследствие того, что это та роль, которую мы выполняем в качестве психотерапевтов, наше понимание этой роли имеет центральную значимость для практики психотерапии. Следует отметить еще один момент, прежде чем мы начнем рассматривать значение этой схемы для теории этиологии и общей психопатологии, и поэтому для практики психотерапии. Он имеет отношение к нашему пониманию тревоги, и сепарационной тревоги в особенности.
Общее допущение, которое проходит сквозь большую часть психиатрической и психопатологической теории, состоит в том, что страх должен проявляться лишь в ситуациях, которые действительно опасны, и что страх, проявляемый в любой другой ситуации, является невротическим. Это приводит к заключению, что так как сепарация от фигуры привязанности не может считаться подлинно опасной ситуацией, тревога по поводу разлуки с этой фигурой является невротической. Изучение исследовательских данных показывает, что как это предположение, так и то заключение, к которому оно приводит, являются ложными.
Когда мы подходим эмпирически, сепарация от фигуры привязанности склонна относиться к классу ситуаций, каждая из которых может пробуждать страх, однако ни одну из которых нельзя считать по своей сути опасной. Эти ситуации охватывают, среди других, темноту, внезапные большие изменения стимульного уровня, включая громкие звуки, внезапное движение, незнакомых людей и незнакомые вещи. Данные показывают, что животные многих видов встревожены в таких ситуациях (Hinde, 1970) и что это справедливо для детей человека (Jersild, 1947), а также взрослых людей. Кроме того, страх особенно склонен возбуждаться, когда два или более из этих условий присутствуют одновременно, например, раздающийся громкий звук, когда человек находится один в темноте.
Объяснение того, почему индивиды столь постоянно реагируют на эти ситуации со страхом, гласит, что хотя ни одна их этих ситуаций не является по сути опасной, каждая из них несет с собой возросший риск опасности. Шум, неизвестность, изоляция и для многих видов темнота - все эти условия статистически связаны с возросшим риском опасности. Шум может предвещать природную катастрофу - огонь, наводнение или обвал. Для молодого животного хищник является незнакомым, он двигается и часто нападает ночью, и намного более вероятно, что он нападет, когда потенциальная жертва находится в одиночестве. Теория гласит, что так как такое поведение способствует как успешному выживанию, так и успешному кормлению, молодые виды, которые выжили, включая человека, оказываются генетически склонными развиваться таким образом, что они реагируют на шум, неизвестность, внезапное приближение и темноту действием уклонения от опасности или убеганием - в действительности, они ведут себя таким образом, как если бы опасность реально присутствовала. Сравнимым образом, они реагируют на изоляцию, ища компанию. Реакции страха, возбуждаемые такими естественно встречающимися сообщениями об опасности, являются частью базисного поведенческого реагирования человека.
Рассматриваемая в таком свете тревога по поводу нежеланной разлуки с фигурой привязанности напоминает тревогу, которую испытывает генерал экспедиционных войск, когда связи с его базой перерезаны или нависает угроза, что они будут перерезаны.
Это ведет к заключению, что тревога по поводу нежеланной разлуки может быть абсолютно нормальной и здоровой реакцией. Что может быть озадачивающим, так это то, почему такая тревога возбуждается у некоторых людей крайне интенсивным образом, или, наоборот, у других людей ее интенсивность столь низка. Это приводит нас к вопросам этиологии психических расстройств и психопатологии.
На протяжении этого столетия велись дискуссии относительно роли переживаний детства в этиологии психиатрического расстройства. Не одни только психиатры, придерживающиеся традиционных взглядов, были скептическими по поводу их уместности, но и во взглядах на них психоаналитиков тоже царил сумбур. Долгое время большинство аналитиков, которые считали, что переживания реальной жизни играют важную роль, концентрировали внимание на первых двух или трех годах жизни и на определенных способах ухода за ребенком - на то, как его кормят или приучают к горшку - а также на то, был ли он свидетелем полового акта между родителями. Не поощрялось внимание к взаимодействию в семье или к тому, как данный родитель обращается с ребенком. И действительно, некоторые экстремисты утверждали, что систематическое исследование переживаний человека внутри семьи лежит вне должного интереса психоаналитика.
Ни один специалист в области детской психиатрии, которую правильнее называть семейной психиатрией, не сможет, по всей видимости, разделить такую точку зрения. В огромном большинстве случаев не только имеются данные о нарушенных семейных взаимоотношениях, но и эмоциональные проблемы родителей, порожденные их собственным несчастливым детством, обычно также весьма серьезные. Таким образом, данная проблема всегда казалась мне состоящей не в том, стоит ли изучать семейную ситуацию пациента, а в решении того, какие особенности семейной ситуации уместны в этой связи, какие методы исследования пригодны к употреблению и какой тип теории наилучшим образом соответствует этим данным. Так как многие другие исследователи приняли такую же точку зрения, к настоящему времени исследователями многих дисциплин было проделано очень много достаточно надежных исследований. На основании результатов этих исследований, интерпретированных на языке теории привязанности, я предлагаю нижеследующие обобщения и точки зрения.
Ключевой момент моего тезиса состоит в том, что имеется сильная причинная связь между переживаниями индивида с его родителями и его последующей способностью устанавливать эмоциональные связи, и что определенные широко распространенные вариации в этой способности, проявляющиеся в супружеских проблемах и трудностях с детьми, а также в невротических симптомах и расстройствах личности, могут быть приписаны определенным общим вариациям в тех путях, которыми родители выполняют свои роли. Много данных, на которых основывается этот тезис, приводится во втором томе работы "Привязанность и утрата" (глава 15 и далее). Главной переменной, на которую я обращаю внимание, является та степень, в которой родители ребенка (а) обеспечивают его надежной опорой и (б) поощряют его к исследованиям окружающей среды, отталкиваясь от этой опоры. В этих ролях поведение родителей варьирует вдоль нескольких параметров, из которых, вероятно, наиболее важной, так как она пропитывает все взаимоотношения, является та степень, в которой родители признают и уважают желание ребенка иметь надежную опору и его потребность в ней, и приспосабливают свое поведение к нуждам ребенка соответствующим образом. Это влечет за собой, во-первых, интуитивное и сочувствующее понимание родителем поведения привязанности у ребенка и готовность отвечать на него и, таким образом, завершать его, и, во-вторых, понимание того, что одним из самых распространенных источников гнева ребенка является фрустрация его желания любви и заботы и что его тревога обычно отражает неуверенность в том, будут ли его родители оставаться пригодными для этой цели. Добавочным по значимости к уважению родителем желаний привязанности у ребенка является Уважение его желания исследовать и постепенно расширять свои взаимоотношения как с ровесниками, так и с другими взрослыми.
Исследования говорят о том, что во многих областях Великобритании и Соединенных Штатов более половины детского населения растет с родителями, которые обеспечивают своих детей такими условиями. Типично этих детей воспитывают быть уверенными в себе и полагаться на свои собственные силы, а также быть доверчивыми, сотрудничающими и полезными по отношению к другим людям. В психоаналитической литературе о таком человеке говорится, что он имеет сильное Эго; и он может описываться как показывающий "базисное доверие" (Erikson, 1950), "зрелую зависимость" (Fairbairn, 1952) или "интроецировавшим хороший объект" (Klein, 1948). На языке теории привязанности он описывается как построивший репрезентационную модель себя как способного помогать самому себе, так и достойно принять помощь со стороны других людей при возникновении затруднений.
В отличие от них, многие дети (в некоторых местах до 1/3 или более) растут с родителями, которые не обеспечивают этих условий. Отметим здесь, что фокус внимания обращен к особому взаимоотношению родителя с конкретным ребенком, так как родители не относятся к каждому ребенку одинаковым образом и могут обеспечивать превосходные условия воспитания для одного ребенка и очень неблагоприятные - для другого.
Давайте рассмотрим некоторые из наиболее часто встречающихся отклонений в проявлениях поведения привязанности, которые показываются подростками, а также взрослыми людьми, с примерами типичных детских переживаний, которые склонны были иметь и, возможно, все еще имеют показывающие такие особенности поведения люди.
Многие из этих направленных к психиатрам лиц являются тревожными, неуверенными в себе индивидами, обычно описываемыми как чрезмерно зависимые или незрелые. Под влиянием стресса они склонны развивать невротические симптомы, депрессию или фобию. Исследование показывает, что они подвергались воздействию по крайней мере одного, а обычно более чем одного, из определенных типичных условий патогенного воздействия родителей, которые включают в себя:
(а) постоянную невосприимчивость одного или обоих родителей к добивающемуся заботы поведению ребенка и/'или его активное принижение и отвержение;
(б) прерывание родительской заботы, происходящее более или менее часто, включающее в себя периоды пребывания в больнице или детском учреждении;
(в) постоянные угрозы нелюбви к ребенку со стороны родителей, используемые как средство контроля над ним;
(г) угрозы родителей уйти из семьи, используемые ими либо как метод дисциплинирования ребенка, либо как способ принуждения партнера по браку;
(д) угрозы со стороны одного родителя бросить или даже убить другого родителя, или же покончить жизнь самоубийством (каждая из них более часто встречается, чем кажется);
(е) принуждение ребенка ощущать себя виноватым, утверждая, что его поведение ответственно или будет ответственно за болезнь или смерть родителя.
Любое из этих переживаний может приводить ребенка, подростка или взрослого человека к жизни в постоянной тревоге, как бы он не лишился своей фигуры привязанности и, как результат, к обладанию низким порогом для проявления поведения привязанности. Данное состояние лучше всего описывается как состояние тревожной привязанности. (Нет никаких данных в поддержку традиционного представления, все еще широко распространенного, что такому человеку чрезмерно потакали, когда он был ребенком, и поэтому он вырос "испорченным".)
Дополнительный набор условий, которым подвергались и все еще могут быть подвержены некоторые индивиды, состоит в том, что родитель, обычно мать, оказывает на них давление действовать по отношению к ней как к фигуре привязанности, таким образом, переворачивая вверх дном нормальное взаимоотношение. Средства оказания такого давления варьируют от бессознательного поощрения преждевременного чувства ответственности в отношении других людей, до умышленного использования угроз или внушения чувства вины. Люди, с которыми обращались подобным образом, склонны становиться чрезмерно совестливыми и переполненными виной, а также тревожно преданными. Большинство случаев школьной фобии и агорафобии развивается, вероятно, таким образом.
Все до сих пор описанные варианты родительского поведения склонны не только пробуждать гнев ребенка против своих родителей, но и тормозить его выражение. Результатом этого является во многом частично неосознаваемое негодование, которое переходит затем во взрослую жизнь и обычно выражается не на родителях, а на ком-либо более слабом, например, на супруге или своем ребенке. Такой человек склонен быть подвержен сильным бессознательным стремлениям к получению любви и поддержки, которые могут выражаться в некоторой необычной форме домогающегося заботы поведения, например, в нерешительных попытках самоубийства, конверсионных симптомах, нервной анорексии, ипохондрии (Henderson, 1974).
Проявления поведения привязанности, явно противоположного тревожной привязанности, описаны Паркесом (1973) как проявления компульсивной самоуверенности, неодолимого полагания на свои собственные силы. Будучи очень далек от поиска любви, опоры и заботы со стороны других людей, человек, который показывает такие особенности поведения, настойчиво проявляет собственную жесткость и все делает для себя сам, каковы бы ни были условия. Эти люди также склонны ломаться под влиянием стресса и показывать психосоматические симптомы или депрессию.
Многие такие люди ранее имели переживания, не очень отличающиеся от переживаний тех индивидов, которые развивают тревожную привязанность; но они реагировали на них иным образом, тормозя чувства и поведение привязанности и отвергая, возможно, даже высмеивая, любое желание близких отношений с человеком, который мог бы обеспечить им любовь и заботу. Однако не требуется глубинного постижения их переживаний для осознания того, что они глубоко недоверчивы к близким взаимоотношениям и страшатся позволить себе полагаться на кого-либо другого, в некоторых случаях для того, чтобы избежать боли отвержения, а в других - чтобы избежать давления осуществлять заботу о каком-либо человеке. Как и в случае тревожной привязанности, в основании такого поведения лежит огромное негодование, которое, когда оно проявляется, направляется против более слабых лиц, а также невыраженное стремление к любви и поддержке.
Паттерн поведения привязанности, связанный с компульсивным полаганием на свои собственные силы, является паттерном компульсивного оказания помощи. Человек, показывающий такие особенности поведения, может вступать во многие близкие взаимоотношения, но всегда в роли оказывающего помощь и никогда не может быть в роли получающего ее. Часто человек, выбираемый для оказания помощи, является гадким утенком, который может некоторое время быть благодарным за оказываемую помощь. Но человек, компульсивно оказывающий помощь, будет также стремиться заботиться о тех людях, которые не ищут помощи и не приветствуют такое его поведение. Типичным переживанием детства для таких людей было иметь мать, которая вследствие депрессии или какой-либо другой помехи была неспособна заботиться о ребенке, но вместо этого приветствовала его заботу о себе и, возможно, также требовала помощи в заботе о младших братьях и сестрах. Таким образом, начиная с раннего детства, человек, который развивается таким образом, видел, что единственной доступной ему эмоциональной связью является привязанность, в которой он всегда должен оказывать заботу, и что единственная забота, которую он может когда-либо получить, это его забота о самом себе. (Дети, воспитывающиеся в государственных учреждениях, иногда также развиваются таким образом.) Здесь опять, как в случае человека, компульсивно полагающегося на свои собственные силы, имеется много скрытого стремления к получению любви и заботы и много подавленного гнева на родителей за то, что они не обеспечили любовь и заботу; и конечно же, много тревоги и вины по поводу выражения таких желаний. Винникотт (1965) описал людей такого рода как развивших "ложное собственное Я" и считает, что истоки такого развития можно находить у человека, не получившего "достаточно хорошего" материнского ухода в детстве. Помочь такому человеку открыть свое "подлинное собственное Я" значит помочь ему осознать и стать захваченным своим стремлением к получению любви и заботы и своим гневом на тех людей, которые не смогли дать ему такие любовь и заботу.
Жизненными событиями, которые особенно склонны воздействовать как стрессоры на индивидов, чье поведение привязанности и оказания заботы развивалось вдоль той или другой из до сих пор описанных линий, являются тяжелая болезнь или смерть либо фигуры привязанности, либо кого-либо иного, о ком они заботились, либо некоторая другая форма разлучения с ними. Тяжелая болезнь усиливает тревогу и, возможно, вину. Смерть или разлука подтверждают наихудшие ожидания человека и ведут к отчаянию, а также к тревоге. У этих людей траур по поводу смерти или разлуки склонен принимать атипичную форму протекания. В случае тревожной привязанности траур склонен характеризоваться необычно сильным гневом и/или упреками в свой адрес, с депрессией, и продолжаться намного дольше, чем нормальный траур. В случае человека с компульсивным полаганием на собственные силы траур может откладываться на месяцы или годы. Обычно присутствует ничуть не меньшее напряжение и раздражительность и могут происходить эпизодические депрессии, но причинная связь со смертью или разлукой теряется из виду. Эти патологические формы траура рассмотрены Паркесом (1972).
Люди вышеописанного типа склонны не только ломаться после утраты или разлуки, но они склонны сталкиваться с определенными типическими трудностями, когда вступают в брак и заводят детей. В отношении к партнеру в браке такой человек может проявлять тревожную привязанность и высказывать постоянные требования любви и заботы; или же еще он или она могут проявлять навязчивую заботу о своем партнере со скрытым негодованием, что такую заботу не ценят и на нее не отвечают взаимностью. В отношении к ребенку также может проявляться любой из этих паттернов. В первом случае родитель требует, чтобы ребенок заботился о нем, а во втором - настаивает на оказании помощи ребенку, даже когда она неуместна, что приводит в результате к "удушающей любви". (Термин "симбиотический " иногда используется для описания этих удушающе тесных взаимоотношений. Однако данный термин выбран неудачно, так как в биологии он относится к взаимно полезному партнерству между двумя организмами, тогда как семейные взаимоотношения, названные этим термином, плохо адаптированы. Описание ребенка как "чрезмерно опекаемого" обычно вводит в заблуждение, так как оно не дает возможности осознания настойчивых требований в оказании заботы, которые родитель накладывает на ребенка.) Нарушения родительского поведения происходят также в результате того, что родитель воспринимает ребенка и обращается с ним, как если бы ребенок был одним из его сиблингов, что может приводить в результате, например, к тому, что отец ревниво воспринимает то внимание, которое жена оказывает их ребенку.
Другая частая форма нарушения взаимоотношений в семье имеет место, когда родитель воспринимает ребенка как точную копию себя самого, в особенности те его аспекты, которые он пытался искоренить в себе и затем пытается искоренить их также у своего ребенка. В этих усилиях он склонен использовать разновидность тех же самых методов дисциплины - возможно жестоких и насильственных, возможно осуждающих или саркастических, возможно внушающих вину - воздействию которых он сам подвергался, когда был ребенком, и которые привели в результате к тому, что он развил те же самые проблемы, которые теперь пытается столь неподходящим образом предотвратить или от них избавиться, у своего ребенка. Муж может также воспринимать свою жену и относиться к ней подобным образом. Сходным образом, жена и мать может принять такой паттерн в своем восприятии и отношении к своему мужу или ребенку. При столкновении с неприятным и саморазрушающим поведением такого типа, полезно помнить, что каждый из нас склонен поступать с другими таким образом, как ранее поступали с ним. Грубо ведущий себя взрослый является выросшим ребенком, с которым грубо обращались.
Когда человек принимает по отношению к самому себе или по отношению к другим те же самые взаимоотношения или формы поведения, которые его родитель принимал и может все еще принимать по отношению к себе, можно говорить об идентификации с этим родителем. Те процессы, посредством которых приобретаются такие взаимоотношения и формы поведения, предположительно являются процессами обучения в результате наблюдения и, таким образом, не отличаются от тех процессов обучения, посредством которых приобретаются другие сложные формы поведения, включая полезные навыки.
Из многих других проявлений нарушенного семейного функционирования и личностного развития, которые могут быть поняты в терминах патологического развития поведения привязанности, хорошо известен паттерн эмоционально отчужденного индивида, который неспособен поддерживать стабильную нежную привязанность с кем-либо. Люди с такой неспособностью могут быть обозначены как психопатические и/или истерические. Они часто склонны к правонарушениям и суицидальному поведению. Типичной историей их жизни является история длительного лишения материнской заботы в самые первые годы жизни, обычно в сочетании с более поздним отвержением и/или угрозами отвержения со стороны родителей или приемных родителей. (Так как все вышеописанные психиатрические состояния представляют различные степени и паттерны одной и той же лежащей в основании психопатологии, нет какой-либо большей надежды резкого различения одного от другого, чем относительно резкого различения между различными формами туберкулезной инфекции. При объяснении этих отличий вполне могут быть уместны вариации в переживаниях различных индивидов.)
Для объяснения того, почему индивиды различных типов продолжают проявлять вышеописанные характерные особенности поведения спустя долгое время после того, как они выросли, представляется необходимым принять условие, что любые репрезентационные модели фигур привязанности и собственного Я, которые индивид выстраивает в период детства и юности, склонны сохраняться относительно неизменными и продолжаться в течение всей его взрослой жизни. Как результат, он склонен сравнивать любого нового человека, с которым он может устанавливать узы привязанности, такого, как супруг(а), или ребенок, или работодатель, или врач, с существующей моделью (того или другого родителя или собственного Я) и часто продолжает это делать, несмотря на неоднократное свидетельство того, что эта модель неподходяща. Сходным образом, он ожидает, что будет восприниматься ими и что они будут с ним обращаться таким образом, который будет соответствовать его модели собственного Я, и продолжает питать такие ожидания, несмотря на противоречащие этому свидетельства. Такие оказывающие влияние восприятия и ожидания ведут к различным неправильным представлениям относительно других людей, к ложным ожиданиям по поводу их поведения и к неподходящим действиям, предназначенным для предупреждения их ожидаемого поведения. Таким образом, беря простой пример, мужчина, которому в детстве часто грозили уходом, может легко приписывать подобные намерения своей жене. Затем он станет неверно интерпретировать то, что она говорит или делает, в терминах такого намерения, а затем предпримет всевозможные действия, которые, по его мнению, наилучшим образом будут адекватны той ситуации, которая, по его мнению, имеет место. Следствием этого может быть неправильное понимание его взаимодействия с женой и конфликт. Во всех этих действиях он не осознает, что на него оказывает влияние его прошлый опыт в отношении самого себя, который приводит к ошибочности его текущих представлений и ожиданий.
В традиционной теории описанные процессы часто упоминаются в терминах "интернализации проблемы", а неправильные приписывания и неправильные представления относятся на счет проекции, интроекции или фантазии. Не только утверждения, проистекающие в результате такого понимания, склонны быть двусмысленными, но и тот факт, что такие неправильные приписывания и неверные представления прямо вытекают из предшествующего опыта реальной жизни, либо лишь смутно подразумевается, либо, иначе, полностью затемняется. Я полагаю, что структурируя эти процессы в терминах когнитивной психологии, становится возможна намного большая точность и гипотезы по поводу причинной роли различных видов детского переживания, через продолжение существования репрезентационных моделей фигур привязанности и собственного Я на бессознательном уровне, могут быть сформулированы в проверяемой форме. Следует отметить, что неподходящие, но продолжающие существовать репрезентационные модели часто сосуществуют с более подходящими моделями. Например, муж может переходить от веры в верность по отношению к нему его жены к подозрению, что она строит планы ухода от него. Клинический опыт свидетельствует, что чем более сильные эмоции пробуждаются во взаимоотношении, тем более вероятно, что более ранние и менее осознаваемые модели станут доминантными. Объяснение такого психического функционирования, которое традиционно обсуждается с позиции защитных процессов, представляет вызов когнитивным психологам, но такой, который они уже адресуют самим себе (например, Erdelyi, 1974) (2).
Некоторые принципы психотерапии
Таковы, следовательно, элементы психопатологии, построенной на теории привязанности. Какое руководство дает это для доступа к проблемам пациента и помощи ему?
Во-первых, мы должны решить, является ли представленная проблема такой, к которой применима теория привязанности. Данный вопрос все еще требует большого исследования. Если она представляется применимой, мы рассматриваем, какие особенности типично принимает поведение привязанности пациента, имея в виду как то, что он нам говорит о себе, так и те взаимоотношения, которые он устанавливает, а также то, как он относится к нам как к потенциальным помощникам. Мы также исследуем подходящие жизненные события, в особенности расставания, серьезные заболевания или смерть, а также приезды, и ту степень, в которой текущие симптомы могут быть поняты как свежие или запоздалые реакции на них. В ходе этих исследований мы можем начать получать некоторое отдаленное представление о тех особенностях взаимодействия, которые применяются в его нынешнем доме, происхождение которых может быть обусловлено либо его семьей, либо новой семьей, которую он помог создать, либо (возможно, особенно в случае женщин) ими обоими. Любой исторический материал, который проливает свет на то, как текущие особенности поведения привязанности могли появиться на свет, делает наше понимание более острым.
Большая трудность в этом процессе оценки лежит в том, что сообщаемая информация может опускать жизненно важные факты или фальсифицировать их. Не только родственники - родители или супруг(а) - склонны опускать, подавлять или фальсифицировать, но и сам пациент вполне может так поступать. Конечно, все это не случайно. Во-первых, очевидно, что многие родители, которые по той или иной причине не обращали внимания на ребенка или отвергали, оставляли его в одиночестве, осуществляли попытки самоубийства, имели между собой неоднократные ссоры или же льнули к ребенку из-за собственного желания в оказывающем поддержку лице, будут крайне противиться тому, чтобы стали известны подлинные факты их семейного взаимодействия. Они неизбежно ожидают критики и обвинений и поэтому искажают истину, иногда непроизвольно, иногда умышленно. Сходным образом, дети таких родителей выросли со знанием того, что правду нельзя разглашать и, возможно, наполовину также считая, что они сами повинны во всяком затруднении, на чем всегда могли настаивать их родители. Общераспространенным методом держать семейные неурядицы в секрете является приписывание симптомов психического расстройства некоторой другой причине; он может бояться ребят в школе (это не результат воздействия на него его матери); она страдает от головных болей и расстройства желудка (это не результат того, что мать угрожает отказаться от нее, если она уйдет из дома); он был трудным ребенком с самого рождения (это не результат того, что он был нежелательным и заброшенным ребенком); она страдает от эндогенной депрессии (это не результат того, что она испытывает запоздалый траур по отцу, умершему много лет тому назад). Раз за разом обнаруживается, что то, что описывается как психопатологический симптом, является откликом, который, будучи оторван от той ситуации, которая проясняла его, представляется необъяснимым. Или же еще симптом возникает как результат попытки пациента избежать реагирования с подлинным чувством на действительно расстраивающую ситуацию. В любом случае первой и главной задачей будет установление той ситуации или ситуаций, на которые пациент либо реагирует, либо же тормозит реагирование.
Явно желательно, чтобы любой клиницист, осуществляющий такую работу, обладал обширным знанием отклоняющихся паттернов привязанности и осуществляющего заботу поведения и тех патогенных семейных переживаний, которые считаются содействующими им; он также должен быть знаком со всевозможной информацией, которая часто опускается, подавляется или фальсифицируется. Обладая таким знанием, нередко может быть очевидно, что некоторая часть жизненно важной информации отсутствует и что утверждения определенного типа сомнительны или явно ложны. Самое главное, клиницист, опытный в такой работе, знает, когда ему еще предстоит открыть эти факты, и он готов либо ожидать появления соответствующей информации, либо же мягко нащупывать подходящие для этого области. Новички же склонны к клинической работе поспешно переходить к заключениям и быть неправыми.
В построении адекватной клинической картины психиатру разумно не полагаться на одни лишь традиционные методы опроса, но всегда, когда это возможно, принимать участие в одном или более семейном опросе. Ни одна другая техника не может так быстро обнаруживать существующие особенности поведения привязанности в их истинном свете и давать ключи к пониманию того, как они могли развиваться. Теперь доступно большое число книг по семейной психиатрии и семейной терапии. Хотя в них обращается внимание на громадное воздействие, которое различные особенности семейного взаимодействия могут оказывать на каждого члена семьи, и описываются техники опроса и способы терапевтических вмешательств, используемые в них теоретические подходы не являются концепциями теории привязанности. Поэтому для целей данного описания они обладают ограниченной ценностью.
Требуется проделать огромную работу, прежде чем мы сможем быть уверены, какие расстройства поведения привязанности и оказания заботы излечимы посредством психотерапии, а какие нет, и если они излечимы, то какие из различных методов психотерапии предпочтительнее. Многое зависит от опыта клинициста, его способностей и возможностей. В общем мы можем следовать Малину (1963), используя в качестве главного критерия, показывают ли готовность данный пациент и/или члены его семьи исследовать проблему вдоль описанных линий: так это или не так, обычно проясняется в ходе нашей оценки. Иногда как данный пациент, так и его родственники отзывчивы, охотно или неохотно, к утверждению, что вызывающая жалобы проблема или симптомы, по-видимому, имеют смысл в отношении событий и семейных расстройств, которые они описывают. Нередко такие представления неприятны для одного или более близких родственников, и время от времени они отвергаются как неуместные и абсурдные. В зависимости от этих реакций мы определяем нашу терапевтическую стратегию.
Здесь нет места для рассмотрения применений и ограничений многих возможных методов терапевтического воздействия как с родителями и их детьми (любого возраста), так и с супружескими парами, которые в настоящее время стали установившейся практикой. Совместные опросы, индивидуальные опросы, их чередование - все имеет свое место, как и продолжительные сессии, длящиеся по нескольку часов: но мы далеки еще от знания того, какой метод терапии может быть наилучшим для данной проблемы. Однако имеются определенные принципы, которые уместны для любой из этих терапевтических процедур. Для удобства изложения я беру случай индивидуальной терапии; хотя замечу, что возможно перефразировать каждый принцип терапевтической тактики таким образом, что он будет иметь отношение к членам семьи в целом вместо одного человека.
Как мне представляется, перед врачом стоит много взаимосвязанных задач, среди которых есть следующие:
(а) во-первых, и самое главное, обеспечить пациента надежной опорой, исходя из которой он сможет исследовать как себя самого, так и свои взаимоотношения со всеми теми лицами, с которыми он установил или мог устанавливать нежную привязанность; и одновременно сделать для него ясным, что все решения относительно того, как наилучшим образом управлять ситуацией и какое действие лучше всего предпринять, должны быть его собственными и что мы считаем, что с помощью полученной помощи он способен принимать такие решения;
(б) объединиться с пациентом в таких исследованиях, побуждая его рассматривать как те ситуации, в которых он в настоящее время склонен находиться со значимыми для него людьми, так и те роли, которые он может играть в вызывании таких ситуаций, а также каковы его реакции в мыслях, чувствах и действиях, когда он находится в таких ситуациях;
(в) обратить внимание пациента на те пути, которыми он, возможно, непреднамеренно, склонен истолковывать чувства и поведение врача по отношению к нему и на те прогнозы, которые он (пациент) делает, и на те действия, которые он совершает в результате; а затем пригласить его рассмотреть, могут ли его способы истолкования, прогнозирования и действия быть частично или полностью несоответствующими в свете того, что ему известно о враче;
(г) помочь ему в рассмотрении того, как те ситуации, в которые он типично вовлекается, и его типические реакции на них, включая то, что может происходить между ним и врачом, могут быть поняты с позиции тех переживаний в реальной жизни, которые он имел с фигурами привязанности в период детства и юности (и, возможно, все еще может иметь) и какими могли быть его реакции на них в то время (и, возможно, такие реакции все еще продолжают иметь место).
Хотя четыре очерченных задачи концептуально отличны, на практике их можно преследовать одновременно. Ибо одно дело для врача делать все, что в его силах, чтобы быть надежной, полезной и продолжающей свое воздействие фигурой, а другое дело для пациента истолковывать его действия таким образом и доверять ему как такой дающей помощь и заботу фигуре. Чем более неблагоприятными были переживания пациента со своими родителями, тем труднее для него доверять врачу теперь и тем легче он будет неправильно воспринимать, неправильно объяснять и неправильно истолковывать то, что врач делает и говорит. Кроме того, чем менее он может доверять врачу, тем меньше он будет рассказывать врачу и тем труднее будет для обоих сторон исследовать те болезненные, или внушающие испуг, или загадочные события, которые могли иметь место в более ранние годы жизни пациента. Наконец, чем менее полна и точна имеющаяся в распоряжении картина того, что случилось в прошлом, тем более трудно понять текущие чувства и поведение пациента для обоих сторон и тем более стойкими склонны быть неправильные восприятия и неверные истолкования пациента. Таким образом, мы находим, что пациент заключен внутри более или менее закрытой системы, и лишь медленно, часто дюйм за дюймом, возможно помочь ему выбраться оттуда. Из этих четырех задач рассмотрение прошлого является той задачей, решение которой мо
жно отложить с наименьшими потерями для терапии, так как ее единственная значимость заключается в том свете, который оно отбрасывает на настоящее. Последовательность рассмотрения описанных задач терапии для врача и пациента, работающих совместно, часто может быть следующей: вначале осознание того, что пациент обычно склонен реагировать на особый тип межличностной ситуации определенным саморазрушительным образом, затем исследование того, какие разновидности чувств и ожиданий такие ситуации обычно в нем возбуждают, и лишь после этого рассмотрение того, что у него, возможно, могли иметь место переживания, произошедшие недавно или случившиеся в далеком прошлом, которые способствовали тому, что он испытывает подобные чувства и ожидания в таких межличностных ситуациях. Таким образом, пробуждаются воспоминания о значимых переживаниях, не просто как о несчастливых событиях, но в терминах того всеохватывающего влияния, которое они оказывают в настоящем на чувства, мысли и действия пациента.
Очевидно, что очень многие психотерапевты, безотносительно к теоретическим взглядам, обычно обращают внимание на эти задачи, так что многое из того, о чем я говорю, давно уже было им известно. В общепринятой терминологии об этих задачах говорится как об оказании помощи, интерпретации переноса и конструировании или реконструировании ситуаций прошлого. Если имеются какие-либо новые моменты акцентирования в текущей формулировке, то они следующие:
(а) придание центральной значимости не только в практике, но также в теории, нашей роли обеспечения пациента надежной опорой, исходя из которой он может исследовать и затем достигать собственных заключений и принимать самостоятельные решения;
(б) отказ от интерпретаций, которые обусловливают различные формы более или менее примитивных фантазий и вместо этого сосредоточение внимания на переживаниях в ходе реальной жизни пациента;
(в) направленность внимания в особенности на детали того, как родители пациента в действительности могли вести себя по отношению к нему не только в период его младенчества и детства, но и в ходе его юности, а также вплоть до настоящего времени; а также на то, как он обычно реагировал в такие моменты;
(г) использование перерывов в ходе лечения, в особенности тех из них, которые навязаны врачом, либо в случае обычного хода вещей, как в случае отпуска, либо в исключительных обстоятельствах, как в случае заболевания, в качестве возможностей, во-первых, наблюдать, как пациент истолковывает разлуку и реагирует на нее, затем, помогая ему осознать, как он управляет событиями и реагирует на это, и, наконец, исследовать с ним, как и почему произошло такое его развитие.
Настаивание на принципе, что внимание пациента должно быть направлено на рассмотрение того, каковы могли быть его подлинные переживания в прошлом и как эти переживания все еще могут оказывать на него свое влияние, часто дает начало неправильному пониманию. Нас могут спрашивать, не занимаемся ли мы ничем иным, кроме побуждения пациента перекладывать всю вину за его трудности на своих родителей? А если это так, то что хорошего может из этого выйти? Во-первых, необходимо подчеркнуть, что в нашу работу в качестве врачей не входит определение того, кто и за что виноват. Вместо этого наша задача заключается в том, чтобы помочь пациенту понять ту степень, в которой он неправильно воспринимает и неверно истолковывает поступки со стороны тех людей, кого он любит или может любить в настоящее время и как вследствие этого он относится к ним таким образом, который порождает в результате его сожаления или раскаивание. Наша задача, на самом деле, состоит в том, чтобы помочь пациенту рассмотреть репрезентационные модели фигур привязанности и самого себя, которые без такого его осознания руководят его восприятиями, предсказаниями и действиями, и как эти модели могли развиться в период его детства и юности и, если он сочтет это целесообразным, помочь ему модифицировать эти модели в свете более свежего эмоционального опыта. Во-вторых, ввиду того, что пациент может быть очень склонен к обвинению, мы можем указать на те эмоциональные трудности и несчастливые переживания, которые, возможно, были у его родителей и, таким образом, пробудить его симпатию. Имея в виду нашу терапевтическую роль, мы должны подходить к тому, что может быть глубоко прискорбным поведением со стороны родителей пациента, столь же объективным образом, каким мы старались подходить к поведению самого пациента. В нашу цель входит не распределение вины, а прослеживание причинных цепочек в нарушениях развития личности с точки зрения разрыва эмоциональных связей или улучшения их последствий.
Это хороший момент для обращения к семейной терапии, ибо в ходе семейных бесед может оказаться возможным получить намного более протяженную перспективу того, как зародились текущие трудности. Используя такие события для детального составления семейного дерева, могут быть впервые выявлены жизненно важные сведения, в особенности когда сюда входят бабушки и дедушки. Как однажды заметил мой коллега: "Удивительно наблюдать, какое воздействие на пациента оказывают слова их бабушек и дедушек, когда они говорят о своих бабушках и дедушках".
Хотя я считаю, что в семейной психотерапии применимы те же самые принципы, что и в индивидуальной терапии, различия в их применении слишком многочисленны, чтобы рассматривать их в данном месте, и заслуживают собственного полного обсуждения. Однако одно отличие может быть упомянуто. Главная цель семейной терапии - позволить всем членам устанавливать друг с другом отношения таким образом, чтобы каждый член мог находить надежную опору в своих взаимоотношениях внутри семьи, как это происходит в каждой здорово функционирующей семье. К этой цели направлено внимание для понимания тех способов поведения, которыми члены семьи могут временами успешно обеспечивать друг друга надежной опорой, но в другое время терпят в этом неудачу, например, неправильно выстраивая роли друг друга, развивая ложные ожидания в отношении друг друга или же перенаправляя формы поведения, которые правильным образом должны были бы быть направлены относительно одного члена семьи к другому. Как результат, в ходе семейной терапии склонно уделяться меньше времени интерпретации переноса, чем в случае индивидуальной терапии. Главная выгода состоит в том, что когда терапия оказывается эффективной, она часто может быть закончена скорее и с меньшей болью и расстройством, чем индивидуальная терапия, в ходе которой пациент может легко начать рассматривать врача как единственную надежную опору, обладание которой он когда-либо мог себе представить.
Давайте теперь вновь вернемся к разговору об индивидуальной терапии.
Я уже подчеркивал, что согласно моей точке зрения главная терапевтическая задача - помочь пациенту открыть, каковы те ситуации, текущие или прошлые, с которыми связаны его симптомы, будут ли они либо реакциями на те ситуации, либо же побочными эффектами попытки не реагировать на них. Однако, так как данным ситуациям был подвержен сам пациент, он уже в некотором смысле обладает всей эмоционально значимой информацией. Почему же тогда он нуждается в столь большой помощи для обнаружения таких ситуаций?
Дело заключается в том, что большая часть всей личностно значимой информации относится к чрезвычайно болезненным или пугающим событиям, которые пациент очень хотел бы забыть. Это воспоминания о том, как его всегда считали неправым, или как ему приходилось заботиться о депрессивной матери вместо того, чтобы самому получать от нее заботу, об ужасе и гневе, которые он испытывал, когда отец был в ярости, или же мать высказывала угрозы, или же о вине, когда ему говорилось, что его поведение приведет к болезни родителя, о печали, отчаянии и гневе, которые он ощущал после утраты, или же об интенсивности его некомпенсированной тоски в период вынужденной разлуки. Никто не может вспоминать такие события без переживаний реактивированных чувств тревоги, гнева, вины или отчаяния. Никто также не хочет считать, что его собственные родители, которые в другое время могли быть добрыми и полезными, в данном случае вели себя некоторым крайне расстраивающим образом. Родители также не склонны побуждать своих детей запоминать или вспоминать такие события; в действительности они слишком часто пытались поколебать представления своих детей и заставить их замолчать. Для родителей, со своей стороны, рассмотрение того, каким образом их собственное поведение могло содействовать и, возможно, все еще содействует текущим проблемам их детей, в равной степени болезненно. Поэтому у всех сторон имеют место сильные тенденции к забыванию и искажению, вытеснению и фальсификации, освобождению от ответственности одной стороны и обвинению другой. Таким образом, мы находим, что защитные процессы столь же часто направлены против узнавания или вспоминания событий реальной жизни и пробужденных ими чувств, как и против осознания бессознательного импульса или фантазии. И действительно, часто лишь тогда, когда был восстановлен в воспоминаниях и подробно изложен детальный ход течения какого-либо расстраивающего и нарушенного взаимоотношения, на ум приходит пробужденное им чувство и те действия, которые пациент намеревался совершить в ответ. Я хорошо помню, как молчаливая заторможенная девушка в начале третьего десятка лет, подверженная якобы непредсказуемым сменам настроения и истерическими вспышкам у себя дома, реагировала на мое замечание: "Мне кажется, что ваша мать в действительности никогда вас не любила". (Она была второй дочерью, за рождением которой в скором времени последовало рождение двух долгожданных сыновей.) В потоке слез она подтвердила мою точку зрения цитированием, слово в слово, замечаний, высказанных ее матерью с детства до сегодняшнего дня, и тем отчаянием, ревностью и яростью, которые пробуждались в ней вследствие такого обращения матери. После этого естественно последовало обсуждение ее глубинной веры в то, что я также считал ее нелюбимой и что ее взаимоотношения со мной будут столь же безнадежными, какими они были с ее матерью. Эта вера объясняла ее угрюмое молчание, которое мешало терапии.
Техника, разработанная для помощи людям, потерявшим своих близких, хорошо иллюстрирует описываемые мною принципы. В этой работе рассматриваемые события и возбужденные ими чувства, мысли и действия являются недавними и поэтому, по сравнению с событиями детства и реакциями на них, склонны более ясно и точно помниться. Кроме того, болезненное чувство часто либо все еще присутствует, либо же, самое меньшее, оно более легко доступно.
Те специалисты, которые проводили консультации с людьми, понесшими утрату близкого человека (например, Raphael, 1975), эмпирически обнаружили, что если они хотят оказать помощь, то необходимо побудить клиента вспомнить и подробно описать все события, которые привели к данной утрате, обстоятельства, окружающие эту утрату, и ее переживания после утраты; (Вследствие демографических причин развитие техники консультирования людей, понесших утрату близкого человека, проводилось главным образом со вдовами; отсюда женский род в этом и следующем параграфах.) ибо представляется, что лишь таким образом вдова или любой другой человек, понесший утрату близкого человека, сможет разобрать свои надежды, сожаления и отчаяния, свою тревогу, гнев и, возможно, вину и, что столь же важно, сможет рассмотреть все те действия и реакции, которые она хотела совершить и, возможно, все еще хочет совершить, хотя многие из них всегда могли быть неподходящими или самозащитными и определенно являются таковыми теперь. Для человека, понесшего утрату близкого человека, желательно рассмотреть не только все, окружающее эту утрату, но также всю историю данного взаимоотношения, со всеми его удовлетворительными и неудовлетворительными сторонами, те вещи, которые были сделаны, а также те, которые остались не сделанными. Ибо представляется, что лишь когда вдова сможет рассмотреть и реорганизовать свой прошлый опыт, для нее станет возможным рассматривать себя как вдову и свою возможную будущую жизнь со всеми ее ограничениями и возможностями и наилучшим образом ими воспользоваться без последующего напряжения или нервного расстройства. То же самое, конечно же, относится к вдовцам и к родителям, утратившим детей.
До сих пор я не упоминал о консультации. Опыт консультирования людей, потерявших своих близких, показывает, что если у понесшего утрату лица не было времени для прохождения некоторого пути в своем пересмотре прошлого и своей переориентации по отношению к будущему, консультирование приносит намного больше вреда, чем пользы. Кроме того, такой человек намного больше нуждается в информации, чем в консультации. Ибо жизненная ситуация вдовы сильно отличается от ситуации ее предшествующей жизни. Много знакомых путей действия теперь закрыты, и она вполне может не обладать информацией относительно тех путей действия, которые теперь для нее открыты, с выгодами и невыгодами каждого пути. Обеспечение ее уместной информацией или ориентирование ее относительно такой информации и помощь ей в анализировании возможного применения такой информации к ее будущему, в свое время оставляя ей возможность собственного принятия решений, может в то же время быть очень полезным делом. Гамбург неоднократно подчеркивал огромную важность поиска и использования человеком новой информации в качестве необходимого шага для того, чтобы справиться с любым стрессовым переходом (Hamburg, Adams, 1967). Помощь пациенту сделать это в должное время и правильным образом составляет, таким образом, пятую задачу для врача.
При помощи психиатрическому пациенту необходимые для выполнения задачи и способы их достижения, по-моему, не отличаются по своему виду от консультирования лиц, понесших утрату близких людей. Существующие отличия обусловлены тем фактом, что репрезентационные модели пациента и паттерны поведения, основанные на них, были столь длительное время укоренены, что многие события, которые привели к их развитию, произошли много времени тому назад и что пациент и члены его семьи могут испытывать глубокое нежелание снова рассматривать эти вещи. Вследствие этого, помогая психиатрическому пациенту исследовать свой мир и самого себя, врачу приходится выполнять сложную роль.
Таким образом, он должен побуждать пациента к исследованию, даже когда тот сопротивляется этому, а также помогать пациенту в его поиске, направляя его внимание на те черты в его рассказе, которые склонны быть относящимися к делу, и отводя его внимание от тех черт, которые представляются не относящимися к делу и отвлекающими внимание. Часто врач будет обращать внимание пациента на его нежелание даже рассмотреть определенные возможности и, возможно одновременно, выражать симпатию в связи с тем замешательством, тревогой и болью, которые может повлечь за собой такое рассмотрение. Во всем этом, как отмечалось, я согласен с теми специалистами, которые считают, что роль врача должна быть активной. Однако для того чтобы быть эффективным, врач должен осознавать, что он не может идти быстрее пациента и что, слишком настойчиво обращая внимание на болезненные темы, он будет пробуждать страх пациента и навлекать на себя его гнев или глубокое негодование. Наконец, он никогда не должен забывать, что какими бы правдоподобными и даже убедительными ни казались ему его собственные предположения по сравнению с предположениями пациента, ему плохо известны факты и что в конечном счете в качестве окончательной истины должно быть принято то, во что искренне верит пациент.
Здесь мы затрагиваем крайне важную тему собственных взглядов и системы ценностей врача в связи с пациентом и его или ее проблемами; ибо любые взгляды и отношения врача склонны оказывать воздействие на отношения пациента, даже если это происходит главным образом через бессознательный процесс наблюдательного обучения (посредством идентификации). В этом процессе восприятие пациентом поведения врача и тона его голоса, а также то, как он подходит к данной теме, по меньшей мере столь же важны, как и все, что он говорит. Таким образом, с теорией привязанности в голове врач будет передавать, главным образом невербальными средствами, свое уважение и симпатию к желаниям пациента получать любовь и заботу от своих родственников, к его тревоге, гневу и, возможно, отчаянию при фрустрации и/или очернении его желаний не только в прошлом, но, возможно, также в настоящем и по поводу того страдания и печали, начало которым, возможно, могла положить утрата близкого человека в детстве; врач будет указывать на свое понимание того, что сходные конфликты, ожидания и эмоции могут быть активными также и в терапевтическом взаимоотношении. В столь же большой мере посредством и невербальной вербальной коммуникации врач также будет передавать свое уважение и пробуждать желание пациента исследовать мир и приходить к собственным решениям в жизни; хотя в то же самое время он осознает, что в глубине души пациент может питать уверенность, проистекающую из настойчивых утверждений других людей, что он не способен это сделать. В этих ежедневных обменах врачом неизбежно демонстрируется определенный паттерн осуществления межличностных взаимоотношений, и это не может не оказывать некоторого воздействия на взгляды пациента. Например, на место того, что могло быть паттерном нахождения вины, наказания и мести, или принуждения посредством наведения вины, или уклонения и мистификации, он вводит паттерн, в котором делается попытка понимания точки зрения другого человека и открытых переговоров с ним. В некоторые моменты в терапии обсуждение различных способов обращения с людьми и возможных последствий каждого способа обращения может быть полезным. Во время таких обсуждений врач склонен как ставить вопросы, так и предоставлять информацию, в то же самое время снова оставляя принятие решений пациенту. Ясно, что для того чтобы хорошо выполнить эту работу, врачу требуется не только хорошее усвоение этих принципов, но также способность к эмпатии и выдерживанию интенсивной и болезненной эмоции. Люди с сильно организованной тенденцией к компульсивному полаганию на собственные силы плохо подходят для осуществления этой работы, и им очень рекомендуется не делать ее.
При предшествующем обсуждении четырех базисных задач врача подчеркивалось, что хотя они концептуально различны, на практике их можно преследовать одновременно. Насколько далеко терапия может и должна предприниматься с какой-либо семьей или пациентом - это сложный и трудный вопрос. Главный момент, возможно, заключается в том, что модификация внутренних репрезентативных моделей человека и переоценка им некоторых аспектов человеческих взаимоотношений, с соответствующими изменениями в его способах обращения с людьми, склонны быть медленными и обрывочными. При благоприятных условиях обрабатывается почва сначала под одним углом, затем под другим. В лучшем случае прогресс идет по спирали. Сколь далеко заходит врач и сколь глубоко он становится вовлечен - это личное дело для обоих сторон. Иногда одна или несколько сессий дают возможность пациенту или семье увидеть проблемы в новом свете или, возможно, дают подтверждение тому, что точка зрения, отвергаемая и высмеиваемая другими людьми, в действительности внушает доверие и может быть с выгодой принята. (Смотрите описания и примеры Caplan, 1964; Argles, Mackenzie, 1970; Lind, 1973; Heard, 1974). Особая ценность совместных семейных опросов состоит в том, что они дают возможность каждому члену семьи открыть, как смотрит на семейную жизнь каждый другой член семьи, и вместе продвигаться в переоценке и изменении семейной жизни. Часто также они дают возможность всем членам семьи узнать, часто впервые, о тех несчастливых переживаниях, которые мог иметь в прошлые годы тот или другой родитель, в результате чего можно быстро понять, что настоящий семейный конфликт был следствием тех переживаний, идущих из далекого прошлого. (Превосходный пример, в котором текущий супружеский кризис прослеживается к продолжающимся воздействиям неблагоприятного течения траура после утраты в детском возрасте, описан Paul, 1967). Однако имеется много других случаев, в особенности у пациентов, которые развили высоко организованное ложное собственное Я и стали компульсивно уверенными в своих силах или компульсивно подверженными заботиться о других людях, в которых может быть необходим намного более длительный период лечения, прежде чем станет заметно какое-либо изменение.
Тем не менее, какой бы короткой или длительной ни была терапия, данные ясно говорят в пользу того, что если врач не готов войти в подлинное взаимоотношение с семьей или индивидом, нельзя ожидать никакого прогресса (Malan, 1963; Truax, Mitchell, 1971). Это влечет за собой, что врачу следует в той мере, в какой он может это делать, удовлетворять желание пациента в надежной опоре, в то же время осознавая, что его самые горячие усилия разобьются о то, чего хочет пациент и от чего он может получить выгоду; что ему следует вступать в исследования пациента в качестве партнера, готового как вести, так и быть ведомым; что он должен быть готов обсуждать восприятие его пациентом и ту степень, до которой они могут быть или не быть подходящими друг другу, что иногда нелегко определить; и, наконец, что он не должен притворяться в противном, когда становится встревоженным по поводу пациента или раздраженным на него. Это особенно важно для тех пациентов, родители которых постоянно симулировали привязанность для сокрытия глубоко укорененного их отвержения. Гантрип (1975) хорошо описал работу врача: "Она заключается, как мне представляется, в обеспечении надежного и понимающего человеческого взаимоотношения такого типа, который устанавливает контакт с глубоко подавленным травматизированным ребенком таким образом, который позволяет [пациенту] становиться все более способным жить, в безопасности нового реального взаимоотношения, с травматическим наследством самых ранних формирующих лет, по мере его просачивания или прорыва в сознание".
Когда он принимает такую установку, врач подвергается риску определенных опасностей, о которых также следует знать. Во-первых, сильное стремление пациента к надежной опоре и его мучительный страх того, что он будет отвергнут, могут делать его притязания настоятельно выраженными, так что с ними становится трудно иметь дело. Во-вторых, что намного более серьезно, в ходе проявления этих требований пациент может использовать по отношению к врачу те же самые способы обращения, которые родитель мог использовать по отношению к нему, когда он был ребенком. Таким образом, мужчина, чья мать, когда он был ребенком, переворачивала взаимоотношение, требуя, чтобы он заботился о ней, и которая использовала методы воздействия, связанные либо с угрозами, либо с пробуждением чувства вины, чтобы заставить его поступать таким образом, может во время лечения использовать по отношению к врачу такие же способы воздействия. Очевидно, крайне важно, чтобы врач понимал, что происходит, прослеживал вглубь зарождение используемых способов воздействия и сопротивлялся им, т. е. устанавливал границы. Однако чем более тонкими являются методы воздействия, связанные с пробуждением чувств вины, тем большее желание помочь испытывает врач и тем больше опасность того, что он втягивается в такие взаимоотношения. Я подозреваю, что последовательность такого рода объясняет многие случаи, описанные Балинтом (1968) как показывающие "злокачественную регрессию" и классифицируемые другими специалистами как пограничные состояния. Те клинические проблемы, которым они могут дать начало, хорошо проиллюстрированы Мэйн (1957), а также Кохеном и др. (1954). Последняя группа указывает на опасность для врача непонимания того, когда ожидания пациента начинают становиться нереалистическими, потому что, когда становится ясно, что они не будут удовлетворяться, пациент может внезапно ощутить тотальное отвержение и, вследствие этого, отчаяние.
Так как теория привязанности имеет дело со столь многими одинаковыми проблемами, что и другие теории психопатологии - проблемами зависимости, объектных отношений, симбиоза, тревоги, печали, нарциссизма, травмы и защитных процессов - вряд ли удивительно, что многие терапевтические принципы, к которым она приводит, давно уже нам знакомы.
Некоторые пересечения между выдвинутыми мной идеями и идеями Балинта (1965,1968), Винникотта (1965) и других были рассмотрены Педдером (1976) в связи с лечением депрессивного пациента с "ложным собственным Я". Другие пересечения концепций, например, эквивалентность концепции игры Винникотта (Winnicott, 1971) и тем, что здесь обозначено термином исследование, были отмечены Хирдом (1978). Пересечения с идеями врачей, которые обращали особое внимание на роль, играемую в генезе эпизодических депрессий и многих других невротических симптомов, неудачи оплакивания родителя, утраченного в период детства или юности (например, Deutsch, 1937; Fleming, Altschul, 1963), или примириться с попытками самоубийства родителя (Rosen, 1965), будут очевидны. Однако, хотя эти пересечения концепций достаточно подлинные, имеют место также важные различия как в акцентировании, так и в ориентации. Они частично связаны с тем, как мы понимаем место поведения привязанности в природе человека (или, по контрасту, как мы применяем концепции зависимости, оральности, симбиоза и регрессии), и частично с тем, каким образом, по нашему мнению, человек приобретает определённые неприятные и несущие ему поражение способы взаимодействия с людьми из своего окружения, или же неуместные представления, такие, как, например, что он по своему существу неспособен сделать что-либо полезное или эффективное.
Все те специалисты, которые мыслят в терминах зависимости, оральности или симбиоза, относят выражение желаний привязанности и поведения привязанности со стороны взрослого человека как результат его регрессии к некоему состоянию, которое считается нормальным в период младенчества и детства, часто к поведению младенца, сосущего грудь матери. Это приводит врачей к разговору с пациентом о "детской части в нем" или о том, что "ребенок в тебе хочет любви или быть накормленным" и к описанию человека, который плачет после утраты близкого человека, как находящегося в состоянии регрессии. Согласно моей точке зрения, все такие утверждения ошибочны как по теоретическим, так и по практически соображениям. Что касается теории, было сказано достаточно, чтобы сделать ясным, что я считаю желание быть любимым и получать заботу интегральной частью человеческой природы на всем протяжении взрослой жизни, а также ранее, и что выражение таких желаний должно ожидаться у каждого взрослого, особенно в периоды болезни или скорби. Что касается практики, представляется крайне нежелательным говорить о "детских потребностях" пациента, когда мы пытаемся помочь ему восстановить его естественные желания в получении любви и заботы, которые, вследствие несчастливых переживаний ранее в своей жизни, он пытался отрицать. Когда мы конструируем их как детские и говорим о них как о таковых, пациент легко может интерпретировать наши замечания как унизительные и напоминающие неодобряющего родителя, который отвергает ребенка, пытающегося получить утешение, и называет его "глупым и избалованным". Альтернативным способом говорить о желаниях пациента будет говорить о его стремлении быть любимым и получать заботу, которое есть у всех нас, но которое в его случае ушло в подполье, когда он был ребенком (по причинам, которые мы затем может быть в состоянии точно определить). (Проводимые мною различия идентичны с теми, которые проводил Неки (1976), сравнивающий ценность индийской культуры в отношении "сильных взаимозависимых членских привязанностей, воспитываемых и переносимых во взрослую жизнь" с западной ценностью, "ориентированной на достижение независимости". Его обсуждение того, как эти расходящиеся идеалы влияют на терапию в этих отношениях, следует линиям, очень схожим со схематически обрисованными здесь линиями рассуждения.)
Вторая область отличий относится к тому, как, по нашему мнению, человек начинает использовать супруга и детей, а иногда также врача, для определенных неприятных давлений, например, угрожая самоубийством или используя более тонкие способы пробуждения вины. В прошлом, хотя эта проблема признавалась, не уделялось большого внимания той возможности, что пациент, научившийся тому, как осуществлять такие давления, так как он сам пострадал от них в детстве, теперь, сознательно или бессознательно, копирует своего родителя.
Третья область различия имеет отношение к первопричине длительного отчаяния и беспомощности. Традиционно она прослеживалась, почти исключительно, к воздействиям бессознательной вины. Тот взгляд, который я защищаю, находится в согласии с исследованиями Селигмэна усвоенной беспомощности (Seligman, 1975), и также совместим с традиционной точкой зрения, и состоит в том, что человек, который легко погружался в длительные состояния безнадежности и беспомощности, в период младенчества и детства неоднократно оказывался в ситуациях, в которых его попытки повлиять на родителей уделить ему больше времени, любви и понимания, встречали лишь резкий отказ и наказание.
Наконец, мы можем задать вопрос, какие данные у нас имеются, что терапия, проводимая в соответствии с обрисованными в общих чертах принципами является эффективной, и если это так, то в каких типах случаев? Ответ такой: у нас нет прямых данных, потому что никакие серии пациентов не подвергались лечению в точности вдоль этих линий, так что не было возможно никакое исследование результатов. Самое большее, что можно сказать, так это то, что определенные косвенные данные внушают надежду. Она проистекает от исследований эффективности кратковременной психотерапии и консультирования людей, понесших тяжелую утрату близкого человека.
В течение многих лет Малан (1963,1973) исследовал результаты кратковременной психотерапии (произвольно определяемой как длящейся не более 40 сессий) и пришел к заключению, что может быть выделена группа пациентов, которые склонны получать пользу от определенного типа психотерапии, черты которой также могут быть определены. Пациенты, склонные получить выгоду от терапии, это такие люди, которые во время нескольких первых бесед показывают себя способными смотреть в лицо собственному эмоциональному конфликту и желают исследовать чувства и работать внутри рамок терапевтического взаимоотношения. Техника, оказавшаяся эффективной, была такой, в которой врач чувствовал себя способным понимать проблемы своего пациента и формулировать план; и в которой он был отзывчив к взаимоотношению переноса и четко его интерпретировал, обращая особое внимание на тревогу и гнев пациента, когда врач назначал дату окончания терапии.
В ходе повторного исследования Малан со своими коллегами пришли к тому же самому заключению. Кроме того, они обнаружили свидетельства того, что "важным терапевтическим фактором является готовность пациента быть вовлеченным в терапию таким образом, который повторяет детское взаимоотношение с одним или обоими его родителями, и его способность с помощью врача понимать, что происходит (Malan, 1973). Дальнейшее исследование той же самой группы, на этот раз пациентов, у которых наступает улучшение после всего лишь одного опроса, представляет добавочные данные в поддержку этого заключения (Malan et al., 1975).
Хотя теория психопатологии, используемая Маланом и его коллегами, в некоторых отношениях отлична от кратко обрисованной здесь теории, у них есть важные сходства. Кроме того, как будет отмечено, имеется значительное сходство между принципами той техники, которую он находит эффективной, и теми принципами, которые мы защищаем здесь.
Оценка эффективности консультирования лиц, понесших тяжелую утрату, для вдов, относительно которых имел место неблагоприятный прогноз, также внушает надежду. Среди вдов, которые получили описанную выше форму консультирования, было обнаружено значительно большее их число, к концу тринадцати месяцев после утраты, развитие которых шло в благоприятном направлении, чем среди тех вдов в контрольной группе, не получивших консультирования (Raphael, Maddison, 1976).
Конечно, следует признать, что наметить в общих чертах принципы терапии намного легче, чем применять их в постоянно изменяющихся условиях клинической практики. Кроме того, сама теория привязанности все еще находится на ранней стадии развития, и еще предстоит проделать огромную работу в этом направлении. Среди приоритетных задач находится определение как диапазона тех клинических условий, для которых данная теория уместна, так и особых вариантов терапевтической техники, наилучшим образом подходящих для их лечения.
Тем временем, те люди, которые принимают теорию привязанности, полагают, что как ее структура, так и ее отношение к эмпирическим данным теперь таковы, что полезность этой концепции может быть проверена систематическим образом. В области этиологии и психопатологии она может использоваться для развития специфических гипотез, которые связывают различные формы семейного опыта с разными вариантами психиатрического расстройства, а также, возможно, с теми нейрофизиологическими изменениями, которые их сопровождают, как считает Гамбург со своими коллегами (1974). В области психотерапии она может использоваться для уточнения терапевтической техники, для описания терапевтического процесса и, при необходимости технических усовершенствований, для измерения изменений в отношении их развития. По мере продвижения исследований сама эта теория несомненно будет модифицироваться и развиваться. Это дает надежду на то, что с течением времени теория привязанности может оказаться полезной как один из компонентов внутри более обширной области психиатрической науки, для развития которой Генри Модсли приложил максимум усилий.
Примечания
1. Другие клинически соответствующие области, к которым эффективно применялась теория привязанности, это исследование истоков связи мать-младенец в неонатальный период, проведенное Маршаллом Клаусом и Джоном Кеннемом (1976), исследование расстройств внутри супружеского взаимоотношения, проведенное Жанет Мэттинсон и Яном Синклером (1979) и исследование эмоциональных последствий супружеской разлуки, проведенное Робертом С.Вейссом (1975). Третий том работы "Привязанность и утрата " должен быть опубликован в начале 1980 года.
2. В главах 4 и 20 работы "Привязанность и утрата " в третьем томе я дал краткий набросок того, как можно приближаться к защитным процессам в терминах обработки данных человеческой информац
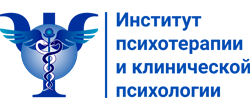

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству




 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
