Библиотека » Психоанализ, психоаналитическая и психодинамическая психотерапия » Кляйн Мелани Статьи
Автор книги: Кляйн
Книга: Кляйн Мелани Статьи
Кляйн - Кляйн Мелани Статьи читать книгу онлайн
МОСКОВСКАЯ СЕКЦИЯ КЛЯЙНИАНСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА
СОДЕРЖАНИЕ
МЕЛАНИ КЛЯЙН К вопросу о психогенезе маниакально-депрессивных состояний
МЕЛАНИ КЛЯЙН Печаль и маниакально-депрессивные состояния
МЕЛАНИ КЛЯЙН Роль школы в либидинальном развитии ребенка
МЕЛАНИ КЛЯЙН О криминальности
МЕЛАНИ КЛЯЙН Психоаналитическая игровая техника: ее история и значение
МЕЛАНИ КЛЯЙН
К вопросу о психогенезе маниакально-депрессивных состояний
(1935)
Мои более ранние работы содержат отчет о фазе садизма в его зените, через которую дети проходят во время первого годы жизни. В самые первые месяцы жизни ребенка и него имеются садистические импульсы, направленные не только против груди матери, но также против ее тела внутри: вычерпать его, сожрать его содержимое, разрушить его всеми средствами, которые может предоставить садизм. Развитие ребенка управляется механизмами интроекции и проекции. С самого начала Эго интроецирует объекты "хорошие" и "плохие", для каждых из них прототипом является грудь матери - для хороших объектов, когда ребенок получает ее и для плохих, когда она покидает его. Но именно потому, что ребенок проецирует свою собственную агрессию на эти объекты, он ощущает их "плохими" и не только тогда, когда они фрустрируют его желания: ребенок представляет их как действительно опасные - преследователи, которых он боится, что они сожрут его, вычерпают содержимое его тела, разрежут его на куски, отравят его - короче, осуществят свое разрушение всеми возможными садистическими средствами. Эти образы, которые фантастически нарушают картину реальных объектов, на которой они основаны, устанавливаются не только во внешнем мире, но, посредством процесса инкорпорации, также внутри Эго. Следовательно, совсем маленькие дети проходят через ситуации тревоги (и реагируют на них с механизмами защиты), содержимое которых сравнимо с психозами взрослых.
Один из самых ранних методов защиты против страха преследователей, воспринимаемых как существующих во внешнем мире либо интернализированных, является метод скотомизации, отрицания психической реальности; это может приводить к существенному ограничению механизмов интроекции и проекции, и к отрицанию внешней реальности, и формирует основу самых тяжелых психозов. Очень скоро, также, Эго начинает попытки защититься против интернализированных преследователей посредством процессов изгнания (expulsion) и проекции. В то же время, так как страх интернализированных объектов нисколько не уничтожается с их проекцией, Эго выстраивает против преследователей внутри тела те же силы, какие она применяет против них во внешнем мире. Содержание этих тревог и механизмы защит формируют основу паранойи. В инфантильном страхе волшебников, колдунов, злых зверей и т.д. мы видим нечто от этой психотической тревоги, в частности параноидной тревоги, но здесь она уже подверглась проекции и модификации. Один из моих выводов, более того, заключается в том, что инфантильная психотическая тревога, в особенности параноидная тревога, связана с обсессивными механизмами и модифицируется этими механизмами, которые появляются очень рано.
В этой статье я собираюсь рассмотреть депрессивные состояния в их отношении к паранойе с одной стороны и к мании с другой. Я получила материал, на котором основаны мои выводы, из анализа депрессивных состояний в случаях тяжелых неврозов, пограничных состояний и из анализа пациентов, и взрослых, и детей, которые проявляли смешанные параноидные и депрессивные наклонности.
Я изучала маниакальные состояния в различной степени и форме, включая легкие гипоманиакальные состояния, которые возникают у нормальных людей. Анализ депрессивных и маниакальных черт у нормальных детей и взрослых также оказался очень поучительным.
Согласно Фрейду и Абрахаму, фундаментальным процессом в меланхолии является потеря любимого объекта. Реальная потеря реального объекта, или некоторые сходные ситуации, имеющие такое же значение, приводят к тому, что объект становится инсталлированным в Эго. Вследствие, однако, избытка каннибалистических импульсов в субъекте, эта интроекция терпит неудачу и в результате возникает заболевание.
Итак, почему именно процесс интроекции столь специфичен для меланхолии? Я полагаю, что основное различие между инкорпорацией в паранойе и в меланхолии связано с изменениями в отношении субъекта к объекту, хотя это также вопрос изменения в конституции интроецирующего Эго. Согласно Эдварду Гловеру, Эго, [but loosely] сперва слабо организованное, состоит из значительного числа ядер Эго. С его точки зрения, в первую очередь ядра орального Эго и позже ядра анального Эго преобладают над другими. На этой очень ранней фазе, в которой оральный садизм играет ведущую роль, и которая, на мой взгляд, является основой шизофрении, сила Эго идентифицироваться с его объектами все еще мала, частично из-за того, что она само все еще не скоординировано (un-coordinated) и частично потому, что интроецированные объекты все еще главным образом являются частичными объектами, которые приравниваются к выделениям.
В паранойе характерные защиты направлены главным образом на аннигиляцию "преследователей", хотя тревоги по поводу Эго занимают главное место в этой картине. Когда Эго станет лучше организованным, интернализированные образы будут сильнее приближаться к реальности и Эго будет полнее идентифицироваться с "хорошими" объектами. Страх преследования, который сперва ощущался по поводу Эго, теперь относится к также и к хорошим объектам, и с этого времени предохранение хорошего объекта рассматривается как синоним выживания Эго.
Рука об руку с этим развитием происходит изменение величайшей важности, а именно, переход от отношения к частичным объектам к отношению с целостным объектом. Посредством этого шага Эго достигает новой позиции, которая составляет основу ситуации, называемой потерей любимого объекта. Пока объект не живет как целый, его потеря не может восприниматься как потеря целого.
С этим изменением в отношении к объекту появляется тревога нового содержания, и происходит изменение в механизме защиты. Развитие либидо также подвергается решающему влиянию. Параноидная тревога, не станут ли объекты, садистически разрушенные, сами источником яда и опасности внутри тела субъекта, заставляет его, несмотря на силу его оральных садистических атак, быть в то же самое время очень недоверчивым к ним, все-таки инкорпорируя их.
Это приводит к ослаблению [weakening? - слабость, склонность] оральных фиксаций. Одна из манифестаций этого может наблюдаться в трудностях, которые очень маленькие дети проявляют в отношении еды, что, я думаю, всегда имеет параноидные корни. Когда ребенок (или взрослый) идентифицируется более полно с хорошим объектом, либидные стремления усиливаются; он развивает жадную любовь и желание поглотить этот объект и механизм интроекции усиливается. Кроме того, он оказывается вынужден постоянно повторять инкорпорацию хорошего объекта, частично из-за страха, что он уничтожил его своим каннибализмом - т.е. повторение этого действия направлено на тестирование реальности его страхов и опровержение их - и частично из-за страха интернализированных преследователей, против которых ему требуется помощь хорошего объекта. На этой стадии Эго более чем когда-либо движимо одновременно любовью и потребностью интроецировать объект.
Другим стимулом для интроекции является фантазия, что любимый объект может быть сохранен в безопасности внутри себя. В этом случае опасности изнутри проецируются на внешний мир.
Если, однако, забота [consideration] об объекте усиливается, и устанавливается лучшее понимание психической реальности, тревога, не будет ли объект разрушен в процессе интроекции его, приводит - как описывал Абрахам - к различным нарушениям в функции интроекции.
Мой опыт свидетельствует, более того, что имеется глубокая тревога, связанная с опасностями, которые ожидают объект внутри Эго. Оно не может быть безопасно сохранено там, так как место внутри ощущается как опасное и ядовитое, в котором любимый объект погибнет. Здесь мы видим одну из ситуаций, которые я описала как являющиеся фундаментальными в "потере любимого объекта", а именно, ситуации, когда Эго становится полностью идентифицированным с его хорошими, интернализированными объектами, и в то же самое время начинает осознавать свою собственную неспособность защитить и сохранить их против интернализированных, преследующих объектов и Ид. Эта тревога психологически оправданна.
Эго, когда оно становится полностью идентифицированным с объектом, не отказывается от своих более ранних механизмов защиты. Согласно гипотезе Абрахама, аннигиляция и изгнание объекта - процессы, характерные для более раннего анального уровня -инициируют депрессивный механизм. Если это так, это подтверждает мое представление о генетической связи между паранойей и меланхолией. На мой взгляд, параноидный механизм разрушения объектов (либо внутри тела либо во внешнем мире) всеми средствами, которыми оральный, уретральный и анальный садизм может управлять, продолжает, но в меньшей степени и с определенной модификацией оказывать влияние на [to the change] изменение отношения субъекта к его объектам. Как я уже говорила, страх, не будет ли хороший объект изгнан вместе с плохим приводит к обесцениванию механизмов изгнания и проекции. Мы знаем, что на этой стадии Эго больше использует интроекцию хорошего объекта в качестве механизма защиты. Это связано с другим важным механизмом: механизмом совершения репараций объекту. В некоторых моих ранних работах я обсуждала в деталях понятие реставрации (restoration) и показала, что это намного больше, чем просто реактивное образование. Эго чувствует себя принуждаемым (и я могу добавить, принуждаемым его идентификацией с хорошим объектом) совершить реституцию (restitution) за все садистические атаки, которые оно пустило в ход против этого объекта. Когда ярко выраженное различие между хорошим и плохим объектом достигнуто, субъект пытается восстановить первый, совершая хорошее в восстановлении каждой детали его садистических атак. Но Эго все еще не может достаточно быть уверенным в благожелательности этого объекта и в своей собственной способности совершить реституцию. С другой стороны, благодаря его идентификации с хорошим объектом и благодаря другим ментальным успехам, которые это подразумевает, Эго оказывается вынужденным более полно осознать психическую реальность, и это приводит его к болезненному конфликту. Некоторые из его объектов - неопределенное число - являются его преследователями, готовыми поглотить его и причинить ему огромный вред [do violence]. Всевозможными способами они угрожают одновременно Эго и хорошему объекту. Каждый вред, причиненный в фантазии ребенком его родителям (первоначально из ненависти и вторично из самозащиты), каждый акт агрессии [violence], совершенный одним объектом с другим (в особенности деструктивный, садистический коитус родителей, который рассматривается как еще одно последствие его собственных садистических желаний) - все это разыгрывается [played out] одновременно во внешнем мире и, так как Эго постоянно вбирает в себя весь внешний мир, также внутри Эго. Теперь, однако, все эти процессы рассматриваются как постоянный источник опасности одновременно для хороших объектов и для Эго.
Верно, что теперь, когда хорошие и плохие объекты более ясно дифференцированно, ненависть субъекта направлена скорее против последних, тогда как его любовь и его попытки репарации больше сфокусированы на первых; но избыток его садизма и тревоги действует как препятствие этому продвижению в ментальном развитии. Каждый внешний или внутренний стимул (например, каждая реальная фрустрация) чревата крайней опасностью: не только плохим объектам, но также и хорошим угрожает Ид, поскольку каждый приступ ненависти или тревоги может временно уничтожить дифференциацию и таким образом привести к "потере любимого объекта". И это не только сила неконтролируемой ненависти субъекта, но также его любовь, что угрожает объекту, поскольку в этой фазе его развития любящий объект и поглощающий очень тесно связаны. Маленький ребенок, который верит, когда его мама исчезает, что он съел ее или разрушил ее (либо из любви либо из ненависти), терзается тревогой одновременно за нее и за хорошую мать, которую он поглотил в себя.
Теперь становится ясно, почему, в этой фазе развития, Эго чувствует постоянную угрозу своему обладанию интернализированными хорошими объектами. Оно полно тревоги, не умрут ли эти объекты. И у детей, и у взрослых, страдающих от депрессии, я обнаруживала страх мучительно умирающих или мертвых объектов (особенно родителей) внутри них и идентификацию Эго с объектами в этом состоянии.
С самого начала психического развития существует постоянная корреляция реальных объектов с объектами, инсталлированными внутри Эго. Именно по этой причине тревога, которую я только что описала, проявляет себя в преувеличенной фиксации ребенка на его матери или тем, кто за ним ухаживает. Отсутствие матери возбуждает в ребенке тревогу, не передадут ли его плохим объектам, внешним или интернализированным, либо по причине ее смерти, либо по причине ее превращения в "плохую" мать.
Оба случая указывают на то, что он потерял свою любимую мать, и я особо привлекла бы внимание в факту, что этот страх потери "хороших", интернализированных объектов становится постоянным источником тревоги, что его реальная мать может умереть. С другой стороны, каждое переживание, которое говорит о потере реального любимого объекта, стимулирует страх потери также и интернализированного.
Я уже говорила о том, что мой опыт привел меня в выводу, что потеря любимого объекта имеет место во время той фазы развития, в которой Эго совершает переход от частичного к полному инкорпорированию объекта. Описав сейчас ситуацию Эго в этой фазе, я могу выразиться более точно по этому поводу. Процессы, которые впоследствии обозначаются как "потеря любимого объекта" обусловлены чувством неспособности (failure) у субъекта (во время отнятия от груди и в периоды, которые предшествуют и следуют за ним) сохранить его хороший, интернализированный объект, т.е. самому обладать им. Одна из причин этой неспособности состоит в том, что он не может преодолеть его параноидный страх интернализированных преследователей.
В этой точке мы сталкиваемся с вопросом о важности для всей нашей теории. Мои собственные наблюдения и наблюдения ряда моих коллег в Англии присели нас в выводу, что прямое влияние ранних процессов интроекции и на нормальное, и на патологическое развитие намного более значимое, и в некоторые отношениях иное, чем до сих пор обычно принимается в психоаналитических кругах.
Согласно нашим взглядам, даже самые ранние инкорпорированные объекты формируют основу Супер-Эго и входят в его структуру. Это вопрос далеко не просто теоретический. Когда мы изучаем отношение раннего инфантильного Эго к его интернализированным объектам и к Ид, и приходим к пониманию постепенных изменений, которым подвергаются эти отношения, мы получает более глубокое понимание (insight into) ситуаций специфической тревоги, через которые проходит Эго, и специфических механизмов защиты, которые оно развивает, когда становится более высоко организованным. Гладя с этой точки зрения на наш опыт, мы находим, что мы достигли более полного понимания самых ранних фаз психотического развития, структуры Супер-Эго и генезиса психотических заболеваний, поскольку там, где мы имеем дело с этиологией, кажется существенным принимать во внимание диспозицию либидо не просто как таковую, но также рассматривать ее в связи с самыми ранними отношениями субъекта в его интернализированным и внешним объектам, рассмотрение, которое подразумевает понимание механизмов защиты, развиваемых Эго постепенно при столкновении с различными ситуациями тревоги.
Если мы примет этот взгляд на формирование Супер-Эго, его безжалостная суровость в случае меланхолии станет более понятной. Преследования и требования интернализированных объектов; нападения таких объектов друг на друга (особенно те, которые представлены садистическим коитусом родителей); настоятельная необходимость выполнять очень строгие требования "хороших" объектов и примирять их внутри Эго с исходящей от Ид [resultant] ненависти; постоянная неуверенность в "хорошести" хорошего объекта, которая заставляет его с такой легкостью превращаться в плохой объект - все эти факторы объединяются, чтобы создать в Эго чувство, что оно является жертвой противоречивых и невозможных требований изнутри, состояние, которое ощущается как нечистая совесть. Иначе говоря: самые ранние проявления [utterances] совести ассоциированы с преследованием плохими объектами. Само слово "грызущая совесть" (Gewissenbisse) свидетельствует о безжалостности "преследования" совести и о том факте, что первоначально она воспринимается как пожирающая свою жертву.
Среди различных внутренних требований, которые влияют [go to] на суровость Супер-Эго у меланхолика, я упоминала его настойчивую потребность исполнять самые строгие требования "хороших" объектов. Именно эта часть картины - а именно, только жестокость "хороших", т.е. любимых внутренних объектов - признавалась до сих пор общим аналитическим мнением, а именно, в безжалостной суровости Супер-Эго у меланхолика. Но, на мой взгляд, только глядя в целом на отношение Эго к его фантастически плохим объектам, равно как и к его хорошим объектам, только глядя на всю картину внутренней ситуации, которую я пыталась описать в этой статье, мы можем понять рабство, в которое попадает Эго, когда подчиняется исключительно жестоким требованиям и указаниям его любимого объекта, который был инсталлирован внутри Эго. Как я уже упоминала раньше, Эго старается держать хорошее отдельно от плохого, реальные отдельно от фантастических объектов. В результате появляется понятие об исключительно плохих и исключительно совершенных объектах, то есть, его любимые объекты являются в различных аспектах [in many ways] исключительно высоко моральными и требовательными. В то же самое время, так как Эго не может действительно держать свои реальные хорошие и плохие объекты отдельно друг от друга в своем уме, часть жестокости плохих объектов и Ид начинает относиться к хорошим объектам и это тогда вновь усиливает суровость их требований. Эти строгие требования служат цели поддержать Эго в его борьбе против его неконтролируемой ненависти и его плохих атакующих объектов, с которыми Эго частично идентифицируется. Чем сильнее тревога потерять любимые объекты, чем сильнее Эго стремится сохранить их, и чем труднее становится задача восстановления, тем строже будут требования, которые ассоциированы с Супер-Эго.
Я пыталась показать, что трудности, которые Эго переживает когда оно переходит к инкорпорации целостного объекта, происходят от его все еще несовершенной способности справиться с управлением, посредством его новых механизмов защиты, со свежим содержанием тревоги, возникающим при этом продвижении в его развитии.
Я осознаю, как трудно провести четкую линию между содержанием тревоги и чувствами параноика и тех, кто депрессивный, так как они очень близко связаны друг с другом. Но они могут быть отделены друг от друга, если в качестве критерия дифференциации рассмотреть, является ли тревога преследования главным образом относящейся к сохранению Эго - и в этом случая она параноидная - или к сохранению хороших интернализированных объектов, с которыми Эго идентифицируется как целое. В последнем случае - который является депрессивным случаем - тревога и чувства страдания имеют намного более сложную природу. Тревога, не будут ли хорошие объекты и с ними Эго разрушены, или тревога, что они находятся в состоянии дезинтеграции, взаимосвязана с постоянными и отчаянными попытками сохранить хорошие объекты, и интернализированные, и внешние.
Мне кажется, что только когда Эго интроецирует объект как целое и устанавливает лучшее отношение к внешнему миру и к реальным людям, тогда оно способно понять бедствие, создаваемое его садизмом и особенно его каннибализмом, и почувствовать страдание от этого. Это страдание относится не только к прошлому, но также и к настоящему, так как на этой ранней стадии развития садизм находится в самом разгаре. Требуется более полная идентификация с любимым объектом и более полное осознание его значения, чтобы Эго стало осознавать состояние дезинтеграции, к которому оно приводило [has reduced] и продолжает приводить свой любимый объект. Эго тогда сталкивается с психическим фактом, что его любимые объекты находятся в состоянии распада (dissolution) - на части [in bits] - и отчаяние, раскаяние, и тревога, происходящие от этого осознания, находятся на дне многочисленных ситуаций тревоги. Перечислю только некоторые из них: существует тревога о том, как собрать эти куски вместе правильным образом и в правильное время; как выбрать правильные части и отделаться от плохих частей; как оживить объект, когда он собран вместе; и существует тревога о том, что выполнению этой задачи могут помешать плохие объекты и своя собственная ненависть, и т.д.
Ситуации тревоги этого типа, как я обнаружила, находятся в основе не только депрессии, но также всех задержек [inhibitions] в работе. Попытки сохранить любимый объект, восстановить и возродить его [repair and restore], попытки, которые в состоянии депрессии связаны с разочарованием, так как Эго сомневается в своей способности достичь этого восстановления, являются определяющими факторами во всех сублимациях и во всем развитии Эго. В этой связи я сейчас напомню о специфическом значении для сублимации частей, к которым был редуцирован любимый объект, и усилия собрать их вместе. Это "совершенный" объект, который в частях; поэтому попытка отменить (undo) состояние дезинтеграции, к которому он был редуцирован, предполагает необходимость сделать его прекрасным и "совершенным". Мысль о совершенстве, более того, столь притягательна потому, что она опровергает мысль о дезинтеграции. У некоторых пациентов, которые отвернулись от своей матери в нелюбви или ненависти, или использовали другие механизмы, чтобы убежать от нее, я обнаруживала, что в их уме тем не менее существует изображение прекрасной матери, но которое ощущается только как изображение, а не ее реальная личность. Реальный объект воспринимается как непривлекательный - действительно испорченный, неисправимый и следовательно страшный человек. Прекрасное изображение было отделено от реального объекта, но не было отброшено, и играет огромную роль в специфических способах [their] сублимаций.
По-видимому, желание совершенства коренится в депрессивной тревоге о дезинтеграции, которая таким образом имеет огромное значение во всех сублимациях.
Как я уже указывала раньше, Эго приходит к пониманию своей любви к хорошему объекту, целому объекту и в добавок к реальному объекту, вместе с ошеломляющим пониманием вины перед ним. Полная идентификация с объектом основанная на либидной привязанности [attachment], сперва к груди, а затем к целой личности, идет рука об руку с тревогой за него (о его дезинтеграции), с виной и раскаянием, с чувством ответственности за сохранение его невредимым в защите от преследователей и Ид, и с печалью, относящейся к ожиданию неизбежной потери его. Эти эмоции, либо сознательные, либо бессознательные, на мой взгляд являются существенными и фундаментальными элементами чувства, которое мы называем любовью.
В этой связи я могу сказать, что мы знакомы с самоупреками депрессивного человека [the depressive], которые представляют собой упреки против объекта. Но, на мой взгляд, [ego's hate of the id, cf.: p.131: subject hates his id] Эго ненависть к Ид, которая главенствует [paramount] в этой фазе, отвечает гораздо больше за его чувство недостойности и отчаяние, чем это делают его упреки против объекта. Я часто обнаруживала, что эти упреки и ненависть к плохим объектам вторично усиливаются как защита против ненависти к Ид, которая еще более непереносима. В соответствии с современным анализом [last] именно бессознательное знание Эго, что ненависть действительно также существует, равно как и любовь, и что она может в любой момент взять верх (тревога Эго о том, что его увлечет Ид и таким образом разрушит любимый объект), приносит печаль, чувство вины и отчаяние, которые лежат в основе печали. Эта тревога также ответственна за сомнения о хороших качествах любимого объекта. Как указывал Фрейд, сомнение является в реальности сомнением в своей собственной любви и "человек, который сомневается в своей собственной любви, может, или скорее должен, сомневаться в каждой меньшей вещи".
Параноик, следует сказать, также интроецировал целый и реальный объект, но не был способен достичь полной идентификации с ним, или, если достиг [got as far as this], он не был способен сохранить ее [maintain it]. Упомяну несколько причин, которые ответственны за эту неудачу: тревога преследования слишком велика; подозрения и тревоги фантастической природы стоят на пути полной и стабильной интроекции хорошего объекта и реального объекта. Как бы он не был интроецирован [in so far as], существует малая возможности для поддержания его как хорошего объекта, так как сомнения и подозрения всех видов вскоре превратят любимый объект обратно в преследователя. Таким образом, это отношение к целым объектам и к реальному миру все еще находится под влиянием его раннего отношения к интернализированным частичным объектам и выделениям как преследователям и может вновь дать дорогу последним.
Мне кажется, что для параноика характерно то, что хотя по поводу своей тревоги преследования и своих подозрений он развивает очень сильную и острую способность к наблюдению за внешним миром и реальными объектами, это наблюдение и его чувство реальности тем не менее нарушено, так как его тревога преследования заставляет его глядеть на людей главным образом с точки зрения, являются ли они преследователями или нет. Там, где тревога преследования [for the] относительно Эго господствует, полная и стабильная идентификация с другим объектом, в смысле видения и понимания его так, как он реально существует, и полная способность любить, не возможны.
Другой важной причиной, почему параноик не может сохранить его отношение к целому объекту, состоит в том, что когда тревоги преследования и тревоги за самого себя столь сильны, он не может выдержать дополнительную нагрузку тревог за любимый объект и, кроме того, чувств вины и раскаяния, которые сопровождают эту депрессивную позицию. Более того, в этой позиции он значительно меньше может использовать проекцию, из-за страха выбросить его хорошие объекты и таким образом потерять их, и, с другой стороны, из-за страха испортить хорошие внешние объекты, выбрасывая то, что плохое, из самого себя.
Таким образом, мы видит, что страдания, связанные с депрессивной позицией, толкают его обратно к параноидной позиции. Тем не менее, хотя он убежал от нее, депрессивная позиция уже была достигнута и, следовательно, склонность к депрессии имеется всегда. Этим объясняется, на мой взгляд, тот факт, что мы часто встречаем депрессию вместе с тяжелой паранойей, равно как и в более легких случаях.
Если мы сравним чувства параноика с чувствами депрессивного человека в отношении дезинтеграции, то можно увидеть, что для депрессивного человека характерна наполненность печалью и тревогой за объект, который он хотел бы объединить вновь в целое, тогда как для параноика дезинтегрированный объект главным образом представляет собой множество преследователей, так как каждая часть вырастает вновь в преследователя. Это понимание опасных фрагментов, к которым редуцируются объекты, кажется мне согласующимся с интроекцией частичных объектов, которые приравнены к выделениям (Абрахам), и с тревогой о множестве внутренних преследователей, к которым, на мой взгляд, приводит интроекция множества частичных объектов и большого количества опасных выделений.
Я говорила уже о различии между параноиком и депрессивным человеком с точки зрения их отношения к любимым объектам. Давайте теперь рассмотрим в этой связи задержки и тревоги о пище. Тревога о поглощении опасных веществ, деструктивных для внутренности человека, будет таким образом параноидная, тогда как тревога о том, что внутренний хороший объект подвергается опасности введением плохих веществ извне в него будет депрессивной. Опять, тревога о том, что внешний хороший объект подвергается опасности внутри человека, когда инкорпорируется, является депрессивной. С другой стороны, в случаях с ярко выраженными параноидными чертами я встречала фантазии о завлечении внешнего хорошего объекта к себе вовнутрь, т.е. в место, полное опасных монстров, и т.д. Здесь мы видим параноидные причины для интенсификации механизма интроекции, хотя мы знаем, что депрессивные личности применяют этот механизм столь характерным образом с целью инкорпорации хорошего объекта.
Теперь, сравнивая в этом отношении ипохондрические симптомы, мы можем сказать, что боль и другие манифестации, которые в фантазии происходят от атак внутренних плохих объектов против Эго являются типично параноидными. Симптомы, которые происходят, с другой стороны, от плохих внешних объектов и Ид против хороших, т.е. внутренняя борьба, в которой Эго идентифицируется со страданиями хороших объектов, являются типично депрессивными.
Например, пациент, которому в детстве говорили, что у него солитеры (которых он никогда не видел), связывал солитеров внутри него со своей жадностью. Во время анализа у него были фантазии, что солитер проел дорогу через его тело, и он сильно тревожился, что появится рак. Этот пациент, который страдал от ипохондрических и параноидных тревог, был очень подозрительным ко мне, и среди других вещей, подозревал меня в сговоре с другими людьми, враждебно настроенными к нему. В это время он видел сон, что детектив арестовал враждебного и преследующего человека и поместил этого человека в тюрьму. Но затем детектив оказался ненадежным и стал сообщником врага. Детектив представлял собой меня и вся тревога была интернализирована и была также связана с фантазией о солитере. Тюрьма, в которую был помещен враг, была его собственной внутренностью [inside] - в действительности особой частью его внутренности, где должен был содержаться преступник. Стало ясно, что опасный солитер (одна из его ассоциаций была о том, что солитер бисексуальный) представлял собой двоих родителей во враждебном альянсе (в действительности в половом акте) - против него.
В то время, когда анализировались фантазии о солитере, у пациента развился понос, который - как он ошибочно думал - был смешан с кровью. Это испугало его очень сильно; он ощущал это как подтверждение опасных процессов, происходящих внутри него. Это чувство основывалось на фантазиях, в которых он атаковал своих плохих объединенных родителей внутри него ядовитыми выделениями. Понос означал для него ядовитые выделения, равно как и плохой пенис его отца. Кровь, которая, как он думал, была в его выделениях, представляла меня (это было показано ассоциациями, в которых я была связана с кровью). Таким образом, понос ощущался представляющим опасное оружие, с которым он сражался против своих плохих интернализированных родителей, равно как и с самими отравленными и разрушенными родителями - солитером. В раннем детстве он в фантазии атаковал своих реальных родителей ядовитыми выделениями и действительно мешал им в половой связи дефекацией. Понос всегда был чем-то очень пугающим для него. Вместе с этими атаками на его реальных родителей вся эта война стала интернализированной и угрожала разрушить его Эго. Я могу сказать, что этот пациент вспомнил во время анализа, что в возрасте приблизительно десяти лет он определенно чувствовал, что у него имеется маленький человек внутри его желудка, который контролировал его и давал ему указания, которые он, пациент, должен был выполнять, хотя они были извращенные и ошибочные (он имел аналогичные чувства в отношении к своему реальному отцу).
С прогрессом анализа и уменьшением недоверия ко мне, пациент стал очень беспокоиться обо мне. Он всегда очень волновался о здоровье своей матери; но он не был способен развить реальную любовь к ней, хотя он делал все возможное для ее удовольствия. Теперь, вместе с беспокойством обо мне, сильные чувства любви и благодарности вышли на поверхность, вместе с чувствами недостойности, печали и депрессии. Пациент никогда не чувствовал себя по-настоящему счастливым, его депрессия распространялась, можно сказать, на всю его жизнь, но он никогда не страдал он действительно депрессивных состояний. В своем анализе он прошел через фазы глубокой депрессии со всеми симптомами, характерными для этого состояния ума. В то же самое время изменились чувства и фантазии, связанные с его ипохондрическими болями. Например, пациент тревожился, что рак найдет себе дорогу в содержимом его желудка; но теперь, это выглядело так, что хотя он боялся за свой желудок, он действительно хотел защитить "меня" внутри себя - в действительности его интернализированную мать - которую, как он чувствовал, атакует пенис его отца и его собственное Ид (рак). В другой раз у пациента были фантазии, связанные с физическим дискомфортом по поводу внутреннего кровотечения, от которого он должен умереть. Стало ясно, что я идентифицировалась с кровотечением, причем меня представляла хорошая кровь. Мы должны вспомнить, что, когда доминировали параноидные тревоги и я ощущалась главным образом как преследователь, я идентифицировалась с плохой кровью, которая была смешана с поносом (с плохим отцом). Теперь драгоценная хорошая кровь представляла меня - потеря ее означала мою смерть, которая влекла за собой его смерть. Теперь стало ясно, что рак, который он сделал ответственным за смерть его любимых объектов, равно как и за его собственную, и который символизировал пенис плохого отца, еще больше ощущался как его собственный садизм, особенно его жадность. Вот почему он ощущал себя таким нестоящим и был в таком отчаянии.
Когда параноидные тревоги доминировали и тревога по поводу его плохих объединенных объектов превалировала, он чувствовал ипохондрические тревоги только за свое собственное тело. Когда появились депрессия и печаль, любовь к хорошему объекту и беспокойство о нем вышли на поверхность, и изменилось содержание тревог, равно как и все чувства и защиты. В этом случае, равно как и в других, я обнаружила, что параноидные страхи и подозрения усиливались как защита против депрессивной позиции, которая перекрывалась ими. Я сейчас процитирую другой случай с сильными параноидными и депрессивными чертами (паранойя преобладала) и с ипохондрией. Жалобы по поводу физических проблем, которые занимали большую часть каждого часа, сменялись сильными подозрениями к людям в его окружении и часто становились прямо связанными с ними, так как он делал их ответственными за его физические проблемы тем или иным образом. Когда, после тяжелой аналитической работы, недоверие и подозрения уменьшалось, его отношение ко мне улучшалось все больше и больше. Стало ясно, что, погребенная под постоянными параноидными обвинениями, жалобами и критикой других, существовала исключительно глубокая любовь к его матери и забота о его родителях равно как и о других людях. В то же самое время печаль и глубокая депрессия выступали на первый план. Во время этой фазы ипохондрические жалобы изменились, как в способе, каким они были представляемы мне, так и в содержании, которое лежало за ними. Например, пациент жаловался на различные физические проблемы и затем начал рассказывать, какие медикаменты он принимает - перечисляя, что он принимает для своих легких, своего горла, своего носа, своих ушей, своего кишечника и т.д. Это выглядело так, будто он нянчится с этими частями своего тела и этими органами. Он начал говорить о его беспокойстве о некоторых молодых людях, находящихся у него на попечении (он был учителем) и затем о своем волнении за некоторых членов его семьи. Стало совершенно ясно, что различные органы, которые он старался вылечить, идентифицировались с его интернализированными братьями и сестрами, перед которыми он чувствовал вину и которых он должен был непрерывно держать в порядке. Именно его сверхтревожность о том, чтобы привести их в порядок [put right], потому что он разрушил их в фантазии, и его избыточная печаль и огорчение по поводу этого, привели его к такому усилению параноидных тревог и защит, что любовь и забота о людях и идентификация с ними оказались погребенными под ненавистью. В этом случае также, когда депрессия вышла на первый план в полной силе и параноидные тревоги уменьшились, ипохондрические тревоги стали относиться к интернализированным любимым объектам и (поэтому) к Эго, тогда как раньше они переживались в отношении только к Эго.
Попытавшись провести различие между содержанием тревоги, чувствами и защитами, действующими при паранойе и в депрессивных состояниях, я должна вновь прояснить, что, на мой взгляд, депрессивное состояние основано на параноидном состоянии и генетически происходит от него. Я рассматриваю депрессивное состояние как результат смешивания параноидной тревоги с того содержания тревоги, чувств разочарования и защит, которые связаны с неизбежной потерей целого любимого объекта. Мне кажется, что введение термина для этих специфических тревог и защит может способствовать пониманию структуры и природы паранойи, равно как и маниакально-депрессивных состояний.
На мой взгляд, когда бы не существовало состояние депрессии, будь это в нормальном, невротическом, в маниально-депрессивном или в смешанном случае, имеется всегда при этом специфическое сочетание тревог, чувств разочарования и различных вариаций этих защит, которые я описала здесь во всей полноте. [at full length]
Если эта точка зрения окажется правильной, мы сможем понять те очень часто встречающиеся случаи, где нам предстает смешанная картина параноидных и депрессивных наклонностей, так как мы сможем тогда выделить различные элементы, из которых она составлена.
Соображения о депрессивных состояниях, которые я представила в этой статье, на мой взгляд, могут привести нас к лучшему пониманию все еще загадочных реакций самоубийства. Согласно открытиям Абрахама и Джеймса Гловера, самоубийство направлено против интроецированного объекта. Но, когда при совершении самоубийства Эго стремится убить свои плохие объекты, на мой взгляд, в то же самое время оно нацелено на сохранение своих любимых объектов, внутренних и внешних. Скажем короче: в некоторых случаях фантазии, лежащие в основе самоубийства, нацелены на сохранение внутренних интернализированных хороших объектов и той части Эго, которая идентифицирована с хорошими объектами, и также на разрушение другой части Эго, которая идентифицирована с плохими объектами и с Ид. Таким образом Эго получает возможность соединиться со своими любимыми объектами.
В других случаях, самоубийство, по-видимому, определяется, фантазиями такого же типа, но здесь они относятся к внешнему миру и к реальным объектам, частично как заменителям интернализированных. Как уже говорилось, субъект ненавидит не только свои "плохие" объекта, но также его Ид, и очень сильно. При совершении самоубийства его целью может быть достижение окончательного разрыва [clean breach] его отношений с внешним миром, потому что он хочет избавить некоторый реальный объект - или "хороший" объект, который представляет собой этот весь внешний мир, и с которым идентифицировано Эго - от себя самого, или от той части Эго, которая идентифицирована с его плохими объектами и его Ид. На дне такого шага, как мы понимает, лежит его реакция на свои собственные садистические атаки на тело его матери, которые для маленького ребенка являются первым представителем внешнего мира. Ненависть к реальным (хорошим) объектам и месть им также всегда играют важную роль в таком шаге, но это именно неконтролируемая опасная ненависть, которая непрерывно бьет ключом в нем, и от которой меланхолик своим самоубийством частично пытается сохранить свои реальные объекты.
Фрейд утверждал, что мания имеет в своей основе то же содержание, что и меланхолия, и, фактически, является способом убежать от этого состояния. Я бы сказала, что в мании Эго стремится не только найти убежище от меланхолии, но также от параноидного состояния, с которым оно не способно справиться. Его мучительная и рискованная зависимость от его любимых объектов заставляет Эго стремиться к свободе. Но его идентификация с этими объектами слишком [profound] значительная, чтобы от нее можно было отказаться. С другой стороны, Эго, преследуемое страхам плохих объектов и Ид, в своей попытке избежать всех этих несчастий, прибегает к многим различным механизмам, часть из которых, так как они принадлежат к различным фазам развития, несовместимы друг с другом.
Чувство всемогущества, на мой взгляд, является первой и самой главной характеристикой мании и, более того,(как утверждала Хелен Дейч), мания основана на механизме отрицания. Я отличаюсь от Хелен Дейч в следующем пункте. Она считает, что это "отрицание" связана с фаллической фазой и кастрационным комплексом (у девочек это есть отрицание отсутствия пениса); тогда как мои наблюдения привели меня к выводу, что этот механизм отрицания возникает на самой ранней фазе, в которой неразвитое Эго пытается защитить себя от самой сверхмощной и значительной тревоги из всех, а именно, его страха внутренних преследователей и Ид. Говоря иначе, то, что прежде всего отрицается, есть психическая реальность и Эго затем может перейти к отрицанию большей части внешней реальности.
Мы знаем, что скотомизация может привести к тому, что субъект становится полностью отрезанным от реальности, и к его полной пассивности (inactivity). В мании, однако, отрицание связано со сверх-активностью, хотя этот избыток активности, как указывала Хелен Дейч, часто не имеет никакого отношения к достижению каких-либо реальных результатов. Я уже объясняла, что в этом состоянии источник конфликта состоит в том, что Эго не хочет и не может отказаться от своих хороших внутренних объектов и все же пытается избежать опасной зависимости от них, равно как и от своих плохих объектов. Его попытки отделиться от объекта, при этом не отказываясь от него полностью, по-видимому, обусловлены усилением собственной силы Эго. Оно достигает успеха в этом компромиссе посредством отрицания важности своих хороших объектов и также опасностей, которыми ему грозят его плохие объекты и Ид. В то же самое время, однако, оно пытается непрестанно управлять всеми своими объектами и контролировать их (master and control), и эти усилия проявляются в его гиперактивности.
На мой взгляд, совершенно специфичным для мании является использование чувства всемогущества для цели контроля и управления объектами. Это необходимо по двум причинам: (а) чтобы отрицать страх их, который ощущается, и (в) затем, чтобы механизм (приобретенный в прошлой - депрессивной позиции) осуществления репарации мог быть осуществлен. Управляя своими объектами, маниакальный человек воображает, что будет предохранять их не только он нанесения вреда ему, но и друг другу. Его управление позволяет ему, в частности, предотвращать опасный коитус родителей, который он интернализировал, и их смерть внутри него. Маниакальные защиты принимают так много форм, что, конечно, не легко сформулировать общий механизм. Но я полагаю, что мы действительно имеет такой механизм (хотя его вариации бесконечны) в управлении интернализированными родителями, тогда как в то же само время существование этого внутреннего мира обесценивается и отрицается. И у детей, и у взрослых, я обнаружила, что там, где обсессивный невроз был самым сильным фактором в болезни, такое управление означало усиленное разделение (separation) двух (или более) объектов; тогда как там, где господствовала мания, пациент прибегал к методам более мощным. То есть, объекты убивались, но, так как субъект был всемогущим, он предполагал, что он может также сразу же вновь вернуть их к жизни. Один из моих пациентов говорил об этом процессе как "содержание их в отложенном оживлении". Убийство соответствует механизму защиты (сохранившемуся от прошлой фазы), состоящему в разрушении объекта; воскрешение соответствует репарации, совершаемой для объекта. В этой позиции Эго осуществляет аналогичный компромисс в своем отношении к объекту. Сильное желание (голод - hunger for) к объектам, столь характерное для мании, указывает на то, что Эго сохранило один защитный механизм от депрессивной позиции: интроекцию хороших объектов. Маниакальный субъект отрицает различные формы тревоги, связанные с этой интроекцией (то есть, тревоги, не интроецирует ли он плохие объекты или не разрушит иначе свои хорошие объекты в результате интроекции); его отрицание относится не просто к импульсам Ид, но к его собственной заботе о безопасности объекта. Таким образом, мы должны предположить, что процесс, в результате которого Эго и Эго-Идеал приходят к совпадению (что, как показал Фрейд, происходит при мании) является следующим. Эго инкорпорирует объект каннибалистическим путем ("пир", как назвал это Фрейд в своем описании мании), но отрицает, что чувствует какое-либо беспокойство о нем. "Конечно," говорит Эго, "это совсем не имеет такого большого значения, если этот конкретный объект будет разрушен. Имеется так много других, которые можно инкорпорировать". Это умаление значения объекта и презрение к нему является, я думаю, специфической характеристикой мании и позволяет Эго осуществлять то частичное отделение, которое мы наблюдаем наряду с сильным желанием к объектам. Такое отделение, которого Эго не может достичь в депрессивной позиции, представляет собой продвижение, усиление Эго в отношении к его объектам. Но этому продвижению препятствуют описанные выше регрессивные механизмы, которые Эго в то же самое время применяет в мании.
Прежде чем я перейду к тому, чтобы высказать несколько соображений о роли, которую параноидные, депрессивные и маниакальные позиции играют в нормальном развитии, я собираюсь обсудить два сновидения пациента, которые иллюстрируют некоторые положения, которые я выдвинула в связи с психотическими позициями. Различные симптомы и тревоги, из которых я упомяну только тяжелые депрессии и параноидные и ипохондрические тревоги, вынудили пациента С. прийти на анализ. В то время, когда он видел эти сновидения, его анализ далеко продвинулся. Ему снилось, что он путешествует со своими родителями в поезде, вероятно без крыши, так как они были на свежем воздухе. Пациент чувствовал, что он "управляет всем", заботясь о родителях, которые были намного старше и больше нуждались в его заботе, чем в реальности. Родители лежали в постели, не рядом, как обычно, но концы постелей были соединены вместе. Пациент обнаружил, что ему трудно держать их в тепле. Затем пациент мочился, тогда как его родители наблюдали за ним, в сосуд, в центре которого имелся цилиндрический объект. Мочеиспускание казалось сложным, так как он особо заботился о том, чтобы не мочиться в цилиндрическую часть. Он чувствовал, что [would have not mattered] было не важно, сможет ли он прицелиться в цилиндр и не набрызгать вокруг. Когда он закончил мочиться, он заметил, что сосуд переполнен и почувствовал, что это неприятно. Во время мочеиспускания он заметил, что его пенис был очень большим и ему было некомфортно из-за этого - как если бы его отец не должен был это видеть, так как он почувствует себя униженным, а он не хотел унижать отца. В то же самое время он чувствовал, что своим мочеиспусканием он избавил отца от необходимости вставать с постели и мочиться самому. Здесь пациент остановился и затем сказал, что он действительно чувствовал, будто его родители были частью его самого. В сновидении сосуд с цилиндром был похож на Китайскую вазу, но это было не так, потому что ножка была не под сосудом, как это должно было быть, она была "в неправильном месте", так как она была над сосудом - на самом деле, внутри него. Пациент затем сказал, что сосуд ассоциируется со стеклянным колпаком, который использовался для газовой горелки в доме его бабушки, и цилиндрическая часть напоминала ему газовую калильную сетку. Затем он подумал о темном коридоре, в конце которого был слабый свет газового фонаря, и сказал, что эта картина пробуждает в нем печальные чувства. Это заставляет его думать о бедных и обветшавших домах, где, казалось, нет ничего живого и только этот слабый свет газового фонаря. Правда, надо только дернуть за шнур, и тогда свет загорится в полную силу. Это напомнило ему, что он всегда боялся газа, и что языки пламени газовой горелки заставляли его почувствовать, что они сейчас выпрыгнут на него, покусают его, как если это были львиные головы. Другая вещь, которая пугала его в газе, был "хлопающий" звук, который он издавал, когда его выключали. После моей интерпретации, что цилиндрическая часть в сосуде и газовая калильная сетка были одним и тем же предметом, и что он боялся мочиться в него, потому что не хотел по каким-то причинам, чтобы пламя погасло, он ответил, что конечно, нельзя гасить газ таким образом, так как газ все равно останется - это не свечка, которую можно просто задуть.
На следующую ночь после этой пациент видел следующее сновидение: Он слышал шипящий звук чего-то, что жалилось в печке. Он не мог видеть, что это было, но он подумал о чем то коричневом, вероятно, это была фасоль, которая жарилась в кастрюле. Звук, который он слышал, был похож на писк или слабый крик, и ему показалось, что жарится живое существо. Его мать была там и он пытался обратить ее внимание на это, и заставить ее понять, что жарить живое существо было самым последним делом, хуже, чем варить или запекать его. Это было более мучительно, так как горячий жир не давал ему загореться целиком, и сохранял его живым, [while skinning] покрывая его. Он не смог заставить свою мать понять это, и она, казалось, не беспокоилась. Это взволновало его, но некоторым образом и успокоило, так как он подумал, что все это не может быть так печально, если она не беспокоится. Печь, которую он не открывал в сновидении - он не видел фасоль и кастрюлю - напомнила ему холодильник. В квартире своего друга он часто путал дверцу холодильника и дверцу печки. Он удивился, что жар и холод, некоторым образом, являются для него одним и тем же. Мучительный горячий жар в кастрюле напомнил ему книгу о пытках, которую он прочел ребенком; его особенно взволновало отсечение головы и пытки горячим маслом. Отсечение головы напомнило ему о короле Чарльзе. Его очень взволновала история о его казни, и позже у него развилось своеобразное увлечение им. Что касается пыток горячим маслом, он обычно много думал о них, представляя себя в такой ситуации (особенно как горят его ноги), и пытался придумать как, если это произойдет, можно было бы сделать так, чтобы сделать боль по возможности самой слабой.
В тот день, когда пациент рассказал мне это второе сновидение, он сперва сделал замечание о том, как я зажигаю спички, чтобы закурить сигарету. Он сказал, что было очевидно, что я не зажигаю спичку правильным способом, так как верхушка спички отлетает в его сторону. Он подразумевал, что я зажигаю спичку под неправильным углом, и затем сказал: "как мой отец, который неправильно подавал мячи в теннисе". Он задумался, как часто случалось прежде во время его анализа, что верхушка спички отлетала в его сторону. (Он делал замечания раз или два раньше, что я должно быть пользуюсь обычными спичками, но теперь он критицизм был направлен на мой способ зажигать их.) Он не был склонен говорить, жалуясь, что он был сильно простужен последние два дня; он чувствовал, что его голова очень тяжелая, и уши заложены, слизи было больше, чем обычно в тех случаях, когда он простужался. Затем он рассказал мне сновидение, которое я уже представила, и в ходе ассоциаций его раз упомянул простуду и то, что она сделала его таким несклонным делать что-нибудь.
Анализ этих сновидений пролил новый свет на некоторые фундаментальные моменты в развитии пациента. Они уже возникали раньше и были проработаны прежде в его анализе, но теперь они появились в новой связи и после этого стали полностью ясными и понятными для него. Сейчас я выделю только моменты, касающиеся выводов, сделанных в этой статье; я должна упомянуть, что я не имею возможности процитировать самые важные из возникших ассоциаций.
Мочеиспускание в сновидении ведет к ранним агрессивным фантазиям пациента, направленным на его родителей, особенно против их сексуальной связи. Он фантазировал о том, что покусает и съест их, и, среди других атак, о мочеиспускании на и в пенис его отца, чтобы [skin and] зажечь его и сделать так, чтобы отец заставил мать запылать внутри в их половом акте (пытка горячим маслом). Эти фантазии распространялись на детей внутри тела его матери, которых надо было убить (сжечь). Фасоль, которая заживо сгорала в кастрюле, символизировало одновременно пенис его отца - приравненный к выделениям - и детей внутри тела его матери (печь, которую он не открыл). Кастрация отца выражалась ассоциациями об отсечении головы. Присвоение пениса отца было показано чувством, что его пенис слишком большой и что он мочится одновременно за самого себя и за своего отца (фантазии об обладании пенисом отца внутри своего или присоединении его к своему появлялись часто во время его анализа). То, что пациент мочился в сосуд, означало также его сексуальную связь с матерью (поскольку сосуд и мать в сновидении представляли собой одновременно ее как реальную и как интернализированную фигуру). Импотентный кастрированный отец был вынужден смотреть на половые отношения пациента со своей матерью - перевертывание ситуации, через которую пациент проходит в фантазии в своем детстве. Желание унизить своего отца выражалось в его чувстве, что он не должен делать так. Эти (и другие садистические фантазии) приводили к тревогам различного содержания: мать нельзя было заставить понять, что для нее опасен горящий и кусающий пенис внутри нее (горящие и кусающие головы львов, газовая горелка, которую он зажигал), и что ее дети могли сгореть, и в то же самое время были опасны для нее самой (фасоль в печи). Чувство пациента, что цилиндрическая ножка была "в неправильном месте" (внутри сосуда, а не снаружи), выражало не только его раннюю ненависть и зависть к тому, что его мать принимает пенис его отца в себя, но также его тревогу об этом опасном событии. Фантазия о сохранении фасоли и пениса в живых, тогда как они подвергались мучениям, выражала одновременно деструктивные тенденции против отца и детей, и, в некоторой степени, желание сохранить их. Особое расположение постелей - отличное от расположения в реальной спальной комнате - в которых лежали родители, показывало не только первичное агрессивное и ревнивое стремление разделить их в их половой связи, но также тревогу, не будут ли они повреждены или убиты половой связью, которую в своих фантазиях их сын сделал такой опасной. Желание смерти родителям привело к огромной тревоги за их жизнь [of their death]. Это было показано ассоциациями и чувствами, связанными с слабым газовым светом, увеличенным возрастом родителей в сновидении (старше, чем в реальности), их беспомощностью и необходимостью для пациента держать их в тепле.
Одна из защит против его чувства вины и его ответственности за несчастья, которые он устроил, была выявлена ассоциацией пациента о том, что я зажигаю спички и что его отец подает теннисный мяч неправильно. Таким образом он делал родителей ответственными за их собственную ошибочную и опасную половую связь, но его страх возмездия, основанный на проекции (я сжигаю его) выражался его замечанием о том, что он задумался, как часто во время его анализа верхушки от моих спичек отлетали в его сторону, и всеми другими одержаниями тревог, связанных с атаками на него (голова льва, горящее масло).
Факт, что он интернализировал (интроецировал) своих родителей, проявлялся в следующем: (1) Вагон, в котором он путешествовал со своими родителями, постоянно заботясь о них, "управляя всех", представлял собой его собственное тело. (2) Вагон был открытым, по контрасту с его чувством, представляющим их интернализацию, что он не мог освободиться от своих интернализированных объектов, но то, что он был открыт, было отрицанием этого. (3) Что он должен был все делать для своих родителей, даже мочиться за своего отца. (4) Определенное выражение чувства, что они были частью его самого.
Но, через интернализацию его родителей, все ситуации тревоги, которые я упомянула прежде в отношении к реальным родителям, стали интернализированными и таким образом умножились, интенсифицировались и, частично, изменились в характере. Его мать, содержащая горящий пенис и умирающих детей (печь с кастрюлей, в которой что-то жарится), находится внутри него. Имеется тревога о том, что его родители занимаются опасными половыми отношениями внутри него, и что необходимо держать их порознь. Эта необходимость стала источником многих ситуаций тревоги, и в его анализе было обнаружено, что она лежит в основе его навязчивых симптомов. В любой момент могли совершить опасный половой акт, сжечь и съесть друг друга, и, так как его Эго стало местом, где разыгрываются все это ситуации тревоги, они могли также разрушить его. Таким образом, он в то же самое время должен был выносить огромную тревогу одновременно за них и за себя самого. Он был полон печали из-за неизбежной смерти интернализированных родителей, но в то же время он не осмеливался полностью оживить их (он не осмеливался дернуть за шнур газовой горелки), так как их полное возвращение к жизни подразумевало половую связь, и это тогда привело бы к их смерти и к его.
Затем, существуют опасности, исходящие от Ид. Если ревность и ненависть, возбужденные какой-либо реальной фрустрацией, бьют ключом в нем, он будет опять в фантазии атаковать интернализированного отца своими горящими выделениями, и нарушать их половых отношения, которые приводят к обновлению тревоги. Либо внешние, либо внутренние стимулы могут увеличить его параноидные тревоги, связанные с интернализированными преследователями. Если он затем также убивает своего отца внутри себя, мертвый отец становится преследователем особого рода. Мы видим это из замечания пациента (и последующих ассоциаций), что горящий газ нельзя погасить жидкостью, останется газ. Здесь параноидная позиция выходит на первый план и мертвый объект внутри становится приравненным к фекалиям и газам. Однако, параноидная позиция, которая была очень сильна в пациенте в начале его анализа, но сейчас значительно ослабела, не много проявляется в этих сновидениях.
В сновидениях доминируют чувства разочарования, которые связаны с тревогой за его любимые объекты и, как я указывала раньше, являются характерными для депрессивной позиции. В сновидении пациент имеет дело с депрессивной позицией различным образом. Он использует садистический маниакальный контроль за своими родителями, держа их отдельно друг от друга и таким образом приостанавливая их приятные, равно как и опасные, половые отношения. В то же самое время, способ, которым он заботится о них, указывает на обсессивные механизмы. Но его главным способом преодоления депрессивной позиции является восстановление (restoration). В сновидении он посвящает себя полностью своим родителям, чтобы они были живы и им было комфортно. Его беспокойство о матери доходит до его самого раннего детства, и стремление держать ее в порядке и восстановить ее, равно как и своего отца, и сделать так, чтобы росли дети, играет важную роль во всех его сублимациях. Связь между опасными событиями внутри него и ипохондрическими тревогами проявляется в замечаниях пациента о том, что он был простужен, когда видел эти сновидения. По-видимому, слизь, которой было больше, чем обычно, идентифицировалась с мочой в сосуде - с жиром в кастрюле - в то же самое время с его спермой, и что его голове, которая была такой тяжелой, он носил гениталии своих родителей (кастрюля с фасолью). Слизь, предназначалась для предохранения гениталий его матери от контакта с гениталиями отца, и в то же самое время она подразумевала сексуальные отношения с его матерью внутри. Чувство, которое было у него в голове, что она заблокирована (уши заложены), чувство, которое соответствовало блокированию гениталий родителей друг от друга, и сепарации его внутренних объектов. Одним из стимулов к сновидению была реальная фрустрация, которую пациент пережил незадолго до того, как видел эти сновидения, хотя это переживание не привело к депрессии, но оно сильно нарушило его эмоциональное равновесие, факт, который стал известен из сновидений. В сновидении депрессивная позиция выглядит усиленной, а эффективность мощных защит пациента, в некоторой степени, ослаблена. Это было не так в его реальной жизни. Интересно, что другой стимул к сновидению был совсем другого рода, Уже после болезненного переживания он недавно с его родителями был в коротком путешествии, которое принесло им много удовольствия. Действительно, начало одного из сновидений напоминает ему об этом приятном путешествии, но затем его депрессивные чувства затмевают приятные. Как я уже указывала раньше, пациент прежде обычно очень беспокоился о своей матери, но это отношение изменилось во время его анализа, и он был теперь совершенно счастлив и беззаботен в отношении к своим родителям.
Моменты, которые я выделила в связи со сновидениями, как мне кажется, показывают, что процесс интернализации, который устанавливается на самой ранней стадии в детстве, является определяющим (instrumental) в развитии психотических позиций. Мы видим, как, по мере того как родители становятся интернализированными, ранние фантазии против них ведут к параноидному страху внешних и, еще более, внутренних преследователей, приводят к сожалению и печали в связи с неизбежной смертью инкорпорированных объектов, и к ипохондрическим тревогам, и вызывают попытки овладеть всемогущественным маниакальным путем непереносимыми внутренними страданиями, которые обрушиваются на Эго. Мы также видим, как властный и садистический контроль за интернализированными объектами модифицируется, когда тенденции к восстановлению усиливаются.
У меня нет места для того, чтобы рассмотреть здесь в деталях способы, которыми нормальный ребенок перерабатывает (works through) депрессивную и маниакальную позиции, которые на мой взгляд составляют часть нормального развития. Я ограничусь поэтому несколькими замечаниями общей природы.
В моей предыдущей работе я высказала мнение, на которое я ссылалась в начале этой статьи, что в первые несколько месяцев своей жизни ребенок проходит через параноидные тревоги, относящиеся к "плохой" отрицающей груди, которая воспринимается как внешние и внутренние преследователи. Из этого отношения к частичным объектам, и от их приравнивания с выделениями, на этой стадии вытекает фантастическая и нереалистичная природа отношения ребенка ко всем другим вещам: частям своего собственного тела, людям и вещам вокруг него, который сперва воспринимаются лишь неясно. Объектный мир ребенка в первые два или три месяца его жизни можно описать как состоящий из враждебных и преследующих, или же из удовлетворяющих частей [and portions] реального мира. Вскоре ребенок все больше и больше воспринимает всю (whole) личность матери, и это более реалистичное восприятие распространяется на мир за ней. Факт, что хорошее отношение в своей матери и к внешнему миру помогает ребенку преодолеть свои ранние параноидные тревоги, проливает новый свет на значение этих самых ранних переживаний. С самого начала анализ всегда подчеркивал значение ранних переживаний ребенка, но мне кажется, что только когда мы узнали больше о природе и содержании его ранних тревог, и постоянном взаимодействии между его реальными опытом и жизнью его фантазий, мы смогли полностью понять, почему внешний фактор так важен. Но, когда это происходит, его садистические фантазии и чувства, особенно каннибалистические, в самом разгаре. В то же самое время он теперь переживает изменение в своем эмоциональном отношении к с своей матери. Фиксация либидо ребенка на груди развивается в чувства к ней как к личности. Таким образом, чувства деструктивной и любящей природы переживаются в отношении к одному и тому же объекту, и это приводит к глубоким и разрушительным конфликтам в уме ребенка.
В нормальном ходе событий Эго сталкивается в этот момент своего развития - приблизительно между четвертым и пятым месяцами жизни - с необходимостью признать в определенной степени психическую, равно как и внешнюю реальность. Это заставляет его понять, что любимый объект является в то же самое время ненавидимым, и, в дополнение к этому, что реальные объекты и воображаемые фигуры, и внешние и внутренние, связаны друг с другом. Я уже указывала в другом месте, что в совсем маленьком ребенке существуют, бок о бок с его отношениями к реальным объектам - но на другом уровне, как и должно быть [as it were] - отношения к его нереальным образам, к исключительно хорошим и к исключительно плохим фигурам, и что эти два вида объектных отношений перемешаны и окрашивают друг друга все в большей степени в ходе развития. Первые важные шаги в этом направлении возникают, на мой взгляд, когда ребенок начинает узнавать свою мать как целостную личность и начинает идентифицироваться с ней как с целой, реальной и любимой личностью. Именно в это время [then] депрессивная позиция - характеристики которой я описала в этой статье - выходит на первый план. Эта позиция стимулируется и усиливается "потерей любимого объекта", которую ребенок ощущает вновь и вновь, когда у него забирают грудь матери, и эта потеря достигает своей кульминации во время отнятия от груди. Шандор Радо указывал, что "самая глубокая точка фиксации в депрессивной позиции находится в ситуации страха потерять любовь (Фрейд), особенно в ситуации голода грудного младенца". Ссылаясь на утверждение Фрейда, что в мании Эго еще раз сливается с Супер-Эго [merge in unity], Радо приходит к выводу, что "этот процесс является прямым интрапсихическим повторением того слияния с матерью, которое имеет место во время сосания ее груди". Я согласна с этими утверждениями, но мои взгляды отличаются в важных моментах от выводов, ко которым пришел Радо, особенно в том, каким непрямым и окольным путем, как он думает, что вина становится связанной с этими ранними переживаниями. Я уже указывала ранее, что, на мой взгляд, уже в грудном возрасте, когда он начинает узнавать свою мать как целостную личность, и когда он прогрессирует от интроекции частичных объектов к интроекции всего объекта, ребенок переживает некоторые чувства вины и раскаяния, некоторую боль, которая является результатом конфликта между любовью и неконтролируемой ненавистью, некоторые тревоги о неизбежной смерти любимых интернализированных и внешних объектов - иначе говоря, в меньшей и более слабой степени страдания и чувства, которые мы находим полностью развитыми во взрослых меланхоликах. Конечно, эти чувства переживаются в различных обстоятельствах. Вся ситуация и защиты ребенка, который получает подтверждение вновь и вновь в любви матери, сильно отличаются от ситуации и защит взрослого меланхолика. Но важный момент состоит в том, что эти страдания, конфликты и чувства раскаяния и вины, являющиеся результатом отношения Эго к его интернализированным объектам, уже активны у младенца. То же самое применимо, как я считаю, к параноидной и маниакальной позициям. Если ребенок в этот период времени не может установить свои любимые объекты внутри - если интроекция "хорошего" объекта не проходит - тогда ситуация "потери любимого объекта" возникает уже в таком же смысле, как она обнаруживается у взрослых меланхоликов. Это первое и фундаментальное переживание потери любимого реального объекта, которое переживается через потери груди перед и во время отнятия от груди, только тогда приведет к депрессивному состоянию, если в этот ранний период развития ребенок не смог установить свои любимые объекты внутри Эго. На мой взгляд, также именно на этой ранней стадии развития возникают [set in] маниакальные фантазии, сперва о контролировании груди и, вскоре после этого, о контролировании интернализированных родителей, равно как и внешних, со всеми характеристиками маниакальной позиции, которые я уже описала, и используются для борьбы с депрессивной позицией. В любой момент, когда ребенок находит грудь опять, после того, как потерял ее, запускается маниакальный процесс, посредством которого Эго и Эго-Идеал приходят к соответствию [to coincide] (Фрейд); поскольку удовлетворение ребенка от того, что он накормлен, ощущается не только как каннибалистическая инкорпорация внешних объектов ("пир" в мании, как Фрейд назвал это), но также запускает каннибалистические фантазии, относящиеся к интернализированным любимым объектам и связано с контролем над этими объектами. Без сомнения, чем больше ребенок развить на этой стадии счастливое отношение к своей реальной матери, тем больше он будет способен преодолеть депрессивную позицию. Но все зависит от того, как он сможет найти свой выход из конфликта между любовью и неконтролируемыми ненавистью и садизмом. Как я уже указывала раньше, в самой ранней фазе преследующие и хорошие объекты (грудь) находятся далеко друг от друга в уме ребенка. Когда, вместе с интроекцией целого и реально объекта, они становятся ближе, Эго вновь и вновь возвращается к механизму - столь важному для развития отношений к объектам - а именно, расщеплению образов (imagos) на любимые и ненавидимые, т.е. на хорошие и опасные.
Возможно, именно в этот момент возникает (sets in) амбивалентность, которая, как известно, относится к объектным отношениям - т.е., к целостным и реальным объектам. Амбивалентность, переводимая (carried out in) в расщепление образов, позволяет маленькому ребенку достичь большей уверенности и веры в свои реальные объекты и, таким образом, в свои интернализированные объекты - любить их больше и осуществлять в большей мере свои фантазии о восстановлении любимого объекта, а параноидные тревоги и защиты направлять против "плохих" объектов. Поддержка, получаемая Эго от реального "хорошего" объекта, усиливается механизмом бегства (flight), который колеблется между внешними и внутренними хорошими объектами. [Идеализация.]
По-видимому, на этой стадии развития выполняется объединение внешних и внутренних, любимых и ненавидимых, реальных и воображаемых объектов таким образом, что каждый шаг к объединению приводит вновь к обновленному расщеплению образов. Но по мере увеличения адаптации к внешнему миру, это расщепление осуществляется в плоскостях, которые постепенно становятся все ближе и ближе к реальности. Это происходит до тех пор, пока не установятся в достаточной степени любовь к реальным и интернализированным объектам и вера в них. Тогда амбивалентность, которая частично служит защитой против собственной ненависти и против ненавидимых и пугающих объектов, будет в нормальном развитии вновь уменьшаться в различной степени.
Вместе с усилением любви к своим хорошим и реальным объектам появляется большая вера в свою собственную способность любить и уменьшение параноидной тревоги из-за плохих объектов - изменения, которые ведут к уменьшению садизма и вновь к более лучшим способам овладеть агрессией и отделаться от нее. Репаративные тенденции, которые играют самую важную роль в нормальном процессе преодоления инфантильной депрессивной позиции, запускаются в действие различными методами, из которых я упомяну только два фундаментальных метода: маниакальные и обсессивные позиции и механизмы.
По-видимому, шаг от интроекции частичных объектов к целостному любимому объекту, со всеми последствиями этого, имеет самое важное значение в развитии. Его успех, правда, зависит преимущественно от того, насколько Эго было способно справиться со своим садизмом и со своими тревогами на предыдущей стадии развития, и развило оно или нет сильную привязанность либидо к частичным объектам. Но если Эго сделало этот шаг, оно достигает, как это и должно быть [as it were ?], перекрестка, от которого в различных направлениях расходятся дороги, определяющие все ментальное строение. +
Я уже рассматривала достаточно подробно как неудача [to maintain] в идентификации с интернализированными и реальными любимыми объектами может привести к психотическим расстройствам [of] депрессивных состояний, или мании или паранойи.
Сейчас я хочу упомянуть два других пути, которыми Эго пытается покончить со всеми страданиями, которые связаны с депрессивной позицией, а именно: (а) "бегством к "хорошему", интернализированному объекту", механизм, на который Melitta Schmideberg обратила внимание в связи с шизофренией. Эго уже интроецировало целостный любимый объект, но из-за своего чрезмерного страза интернализированных преследователей, которые спроецированы на внешний мир. Эго находит убежище в непомерной вере в свои интернализированные внешние объекты. Результатом такого бегства может быть отрицание психической и внешней реальности и самые глубокие психозы.
(в) Бегством к внешним "хорошим" объектам как средством опровергнуть все тревоги - внутренние равно как и внешние. Этот механизм, который характерен для невроза и может привести к рабской зависимости и к ослаблению Эго.
Эти механизмы защиты, как я уже указывала ранее, играют свою роль в нормальной проработка инфантильной депрессивной позиции. Неудача в проработке этой позиции может привести к преобладанию одного или другого из описанных механизмов бегства и таким образок к тяжелому психозу или неврозу.
Я уже подчеркивала в этой статье, что, на мой взгляд, инфантильная депрессивная позиция является центральной позицией в развитии ребенка. Нормальное развитие ребенка и его способность к любви, по-видимому, будут основываться главным образом на том, как Эго перерабатывает эту узловую позицию. Это опять зависит от модификации, которой подвергаются самые ранние механизмы (которые остаются в действии также и в нормальной личности), в соответствии с изменениями в отношении Эго к его объектам, и особенно от успешного взаимодействия между депрессивными, маниакальными и обсессивными позициями и механизмами.
МОСКОВСКАЯ СЕКЦИЯ КЛЯЙНИАНСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА. ПЕРЕВОДЫ
в начало · гостевая книга · переводы · полезные ссылки · новости · e-mail
МЕЛАНИ КЛЯЙН
Печаль и маниакально-депрессивные состояния
(1940)
Существенную часть работы печали, как указывал Фрейд в работе "Печаль и меланхолия", составляет тестирование реальности. Он говорит, что "в печали этот период времени необходим для детального выполнения повеления, наложенного тестированием реальности, и … выполняя эту работу, Эго достигает освобождения своего либидо от потерянного объекта". И опять: "Каждое отдельное воспоминание и надежда, которые связывают либидо с объектом, проявляются и гиперкатектированы, и выполняется отвод либидо от них. Почему этот процесс выполнения повеления реальности шаг за шагом, что лежит в основе компромисса, должен быть таким необычайно болезненным, совсем не легко объяснить в терминах душевной экономии. Не имеет значения, что эта боль кажется нам естественной". И в другом абзаце: "Мы даже не знаем, какими экономическими средствами выполняется работа печали; возможно, однако, здесь нам может помочь следующее предположение. Реальность накладывает свой вердикт - что объект больше не существует - на каждое отдельное воспоминание и надежду, которыми либидо было присоединено к потерянному объекту, и Эго, поставленное перед выбором, разделить ли его судьбу, убеждается суммой нарциссический удовлетворений остаться живым и разорвать свою привязанность к несуществующему объекту. Мы может вообразить, вследствие медленности и постепенности, с которой этот разрыв осуществляется, что потребление необходимой для этого энергии каким-то образом рассасывается в ходе выполнения этой задачи".
С моей точки зрения, существует тесная связь между тестированием реальности в нормальной печали и ранними процессами в мышлении [mind]. Я утверждаю, что ребенок проходит через состояние ума, сравнимое с печалью взрослого, или, вернее, эта ранняя печаль оживает, когда скорбь переживается в дальнейшей жизни. Важнейший метод, с помощью которого ребенок преодолевает эти состояния печали, есть, на мой взгляд, тестирование реальности; этот процесс, однако, как подчеркивал Фрейд, составляет часть работы печали.
В моей работе "Психогенезис маниакально-депрессивных состояний" я ввела понятие инфантильной депрессивной позиции, и показала связь между этой позицией и маниакально-депрессивными состояниями. Сейчас, чтобы прояснить отношение между инфантильной депрессивной позицией и нормальной печалью, я должна сначала кратко изложить некоторые утверждения той статьи, и затем буду основывать на них свои рассуждения. В ходе этого изложения я также надеюсь внести вклад в дальнейшее понимание связи между нормальной печалью, с одной стороны, и маниакально-депрессивными состояниями, с другой.
Я говорила там, что ребенок переживает депрессивные чувства, которые достигают своего расцвета непосредственно перед, во время и после отнятия от груди. Это состояние ума ребенка я назвала "депрессивной позицией" и говорила о том, что оно есть меланхолия statu nascendi. Объект, о котором печалятся, есть грудь матери и все, что грудь и молоко представляют для детского ума: а именно, любовь, хорошие качества и безопасность. Ребенок чувствует, что потерял все это, и потерял в результате своих собственных неконтролируемых жадных и деструктивных фантазий против груди матери. Дальнейшие страдания в связи с угрозой потери (в это время обоих родителей) возникают в Эдиповой ситуации, которая устанавливается так рано и в такой близкой связи с фрустрациями грудью, что в самом начале в ней доминируют оральные импульсы и страхи. Круг любимых объектов, которые в фантазиях подвергаются нападению и потери которых, вследствие этого, опасаются, расширяется из-за амбивалентных отношений ребенка к его братьям и сестрам. Агрессия против фантазийных братьев и сестер, атакуемых внутри материнского тела, также приводит к чувствам вины и утраты. Сожаление и беспокойство в связи со страхом потери "хороших объектов", т.е. депрессивная позиция, как свидетельствует мой опыт, является глубочайшим источником болезненных конфликтов в Эдиповой ситуации, равно как и в отношениях ребенка к людям в общем. В нормальном развитии эти чувства печали и страха преодолеваются различными методами.
Вместе с отношением ребенка сначала к матери и вскоре к его отцу и другим людям происходят те процессы интеграции, которым я придаю такое большое значение в моей работе. Ребенок, инкорпорировав своих родителей, чувствует их живущими внутри его тела определенным образом, которым воспринимаются глубокие бессознательные фантазии, - они, в его уме, "внутренние" ("internal" or "inner") как я назвала их. Таким образом, внутренний мир, строящийся в бессознательном ребенка, соответствует его реальным переживаниям и впечатлениям, которые он получает от людей и внешнего мира, все же изменяется его собственными фантазиями и импульсами. Если это мир людей, преимущественно живущих мирно друг с другом и с Эго, он влечет за собой внутреннюю гармонию, безопасность и интеграцию.
Существует постоянное взаимодействие между тревогами, относящимися к "внешней" матери - как я буду называть ее здесь по контрасту с "внутренней" - и тревогами, относящимися к "внутренней" матери, и методы, используемые Эго при обращении с этими двумя видами тревог тесно взаимосвязаны. В уме ребенка "внутренняя" мать связана с "внешней", "двойником" которой она является, и которая, однако, посредством самого процесса интернализации служит основой изменений в его уме; т.е., ее образ находится под влиянием его фантазий, под влиянием внутренних стимулов и внешних переживаний всякого рода. Когда внешние ситуации, которые он проживает, становятся интернализированными - и я утверждаю, что так и происходит с самых ранних дней - они следуют одинаковому образцу: они становятся "двойниками" реальных ситуаций, и вновь изменяются по сходным причинам. Факт, что будучи интернализированными, люди, вещи, ситуации и события - весь внутренний мир, который строится - становятся недоступны ребенку для точного наблюдения и составления мнения, и не могут быть протестированы средствами восприятия, доступными в материальном и осязаемом мире, имеет важное значение для фантастической природы этого внутреннего мира. Вытекающие отсюда сомнения, неуверенность и тревоги действуют как сознательный стимул для маленького ребенка наблюдать и достигать уверенности относительно внешнего объектного мира, из которого этот внутренний мир берет начало, и этими средствами лучше понимать свой внутренний мир. Внешняя мать таким образом обеспечивает сознательные доказательства того, какая "внутренняя" мать, любящая она или сердитая, помогающая или мстительная. Степень, в которой внешняя реальность способна опровергнуть тревоги и сожаления, относящиеся к внутренней реальности, варьируется индивидуально, но может рассматриваться как один из критерием нормальности. У детей, у которых так сильно преобладает их внутренний мир, что их тревоги не могут быть удовлетворительно опровергнуты и нейтрализованы даже приятными аспектами их взаимоотношений с людьми, серьезные душевные проблемы неизбежны. С другой стороны, определенное количество даже неприятных переживаний значимо в этом тестировании реальности ребенком, если, через преодоление их, он чувствует, что может сохранить свои объекты, равно как и их любовь к нему и его любовь к ним и, таким образом, сохранить или переустановить внутреннюю жизнь и гармонию перед лицом опасностей.
Все удовлетворения, которые переживает ребенок в отношении со своей матерью, служат для него многочисленными доказательствами того, что любимый объект внутри, равно как и вовне, не разрушен, не превращен в мстительную личность. Увеличение любви и уверенности и уменьшение страхов в результате счастливых переживаний помогают ребенку шаг за шагом преодолеть его депрессию и чувство утраты (печаль). Они позволяют ему тестировать его внутреннюю реальность средствами внешней реальности. Через ощущение себя любимым и через удовлетворение и комфорт от отношений с людьми его уверенность в своих собственных, равно как и в хороших качествах других людей, усиливается, его вера, что его "хорошие" объекты и его собственное Эго могут быть сохранены и предохранены, увеличивается, в то же время как его амбивалентность и острый страх внутреннего разрушения уменьшается.
Неприятные переживания у маленьких детей и отсутствие приятных, особенно отсутствие счастливого и близкого контакта с любимыми людьми, увеличивают амбивалентность, уменьшают уверенность и надежду и подтверждают тревоги, относящиеся к внутренней аннигиляции и внешнему преследованию; более того, они замедляют и, возможно, постоянно сдерживают благотворные процессы, посредством которых в конечном счете достигается внутренняя безопасность.
В процессе приобретения знаний каждая новая частица опыта вписывается в образцы, предоставляемые психической реальностью, господствующей в это время, тогда как психическая реальность ребенка постепенно изменяется под влиянием каждого шага в его прогрессирующем понимании внешней реальности. Каждый такой шаг сопровождается более и более твердым установлением его внутренних "хороших" объектов, и используется Эго как средство преодоления депрессивной позиции.
В другом месте я выражала точку зрения, что каждый ребенок переживает тревоги, которые психотические по содержанию, и что инфантильный невроз есть нормальное средство обращения с этими тревогами и модифицирования их. Этот вывод я могу сейчас подтвердить более точно, как результат моей работы с инфантильной депрессивной позицией, которая привела меня к пониманию того, что это центральная позиция в развитии ребенка. В инфантильном неврозе ранняя депрессивная позиция находит выражение, перерабатывается и постепенно преодолевается, и это является важной частью процесса организации и интеграции, который, вместе с сексуальным развитием, характеризует первые годы жизни. В норме ребенок проходит через свой инфантильный невроз, и ,среди других достижений, приобретает шаг за шагом хорошее отношение к людям и реальности. Я утверждаю, что это удовлетворительное отношение к людям зависит от его успеха в борьбе с хаосом внутри него (депрессивная позиция) и безопасного установления его "хороших" внутренних объектов.
Давайте сейчас рассмотрим более детально методы и механизмы, которые осуществляют это развитие.
У ребенка процессы интроекции и проекции, в которых доминируют агрессия и тревоги, усиливающие друг друга, приводят к страхам преследования ужасными объектами. К таким страхам добавляются страх потерять любимые объекты, т.е. возникает депрессивная позиция. Когда я впервые вела понятие депрессивной позиции, я утверждала, что интроекция всего любимого объекта приводит к беспокойству о том, не разрушится ли этот объект ("плохими" объектами и Оно), и что эти вызывающие страдание чувства и страхи, в дополнение к параноидным страхам и защитам, составляют депрессивную позицию. Существует, таким два типа страхов, чувств и защит, которые, несмотря на то, что очень многообразны [varied in themselves] и тесно связаны друг с другом, на мой взгляд, в целях теоретической ясности, могут быть отделены друг от друга. Первый тип чувств и фантазий преследования характеризуется страхами, относящимися к разрушению Эго внутренними преследователями. Защитами против этих страхов является преимущественно разрушение преследователей неистовыми или скрытными и коварными методами. Эти страхи и защиты я детально рассматривала в другом контексте. Второй тип чувств, составляющих депрессивную позицию, я первоначально описала без введения специального термина для них. Сейчас я предполагаю использовать для этих чувств печали и беспокойства о любимых объектах, страха потерять их и стремления вернуть их простое слово, взятое из повседневного языка - а именно, "тоска" (pinning) по любимому объекту. Короче - преследование ("плохими" объектами) и характерные защиты от него, с одной стороны, и тоска по любимому ("хорошему") объекту, с другой, составляют депрессивную позицию.
Когда возникает депрессивная позиция, Эго вынуждено (в дополнение к более ранним защитам) развивать методы защиты, которые главным образом направлены против "тоски" по любимому объекту. Это имеет фундаментальное значение для всей организации Эго. Первоначально я назвала эти методы маниакальными защитами, или маниакальной позицией, из-за их связи с маниакально-депрессивными заболеваниям.
Флуктуации между депрессивной и маниакальной позицией составляют существенную часть нормального развития. Эго под действием депрессивных тревог (тревога, что любимые объекты, равно как и само Эго могут быть разрушены) создает всемогущественные (and violent) фантазии, частично с целью сохранить и восстановить любимые объекты. С самого начала эти всемогущественные фантазии, и деструктивные, и репаративные, стимулируют и входят во всю деятельность, интересы и сублимации ребенка. У маленького ребенка исключительных характер его садистических и конструктивных фантазий сочетается с исключительной ужасностью его преследователей - и, на другом конце шкалы, с исключительным совершенством его "хороших" объектов. Идеализация есть существенная часть маниакальной позиции и связана с другим важным элементом этой позиции, а именно, отрицанием. Без частичного и временного отрицания психической реальности Эго не может переносить несчастья, которые, как оно чувствует, ему угрожают, когда депрессивная позиция в разгаре. Всемогущество, отрицание и идеализация, тесно связанные с амбивалентностью, позволяют раннему Эго устоять в некоторой степени против внутренних преследователей и против рабской и рискованной зависимости от его любимых объектов, и таким образом достичь новых успехов в развитии. Процитирую здесь часть моей предыдущей статьи:
В самой ранней фазе преследующие и хорошие объекты (грудь) находятся далеко друг от друга в уме ребенка. Когда, вместе с интроекцией целого и реально объекта, они становятся ближе, Эго вновь и вновь возвращается к механизму - столь важному для развития отношений к объектам - а именно, расщеплению образов (imagos) на любимые и ненавидимые, т.е. на хорошие и опасные.
Возможно, именно в этот момент устанавливается (sets in) амбивалентность, которая, помимо прочего, относится к объектным отношениям - т.е., к целостным и реальным объектам. Амбивалентность, осуществляемая (carried out in) в расщеплении образов, позволяет маленькому ребенку достичь большей уверенности и веры в свои реальные объекты и, таким образом, в свои интернализированные объекты - любить их больше и осуществлять в большей мере свои фантазии о восстановлении любимого объекта. В то же время параноидные тревоги и защиты направлены против "плохих" объектов. Эта поддержка, которую Эго получает от реального "хорошего" объекта, увеличивается механизмом бегства (flight), который осуществляет колебания между внешними и внутренними хорошими объектами. [Идеализация.]
По-видимому, на этой стадии развития выполняется объединение внешних и внутренних, любимых и ненавидимых, реальных и воображаемых объектов таким образом, что каждый шаг в объединении приводит вновь к обновленному расщеплению образов. Но по мере увеличения адаптации к внешнему миру, это расщепление осуществляется в плоскостях, которые постепенно становятся все ближе и ближе к реальности. Это происходит до тех пор, пока не установятся в достаточной степени любовь к реальным и интернализированным объектам и вера в них. Тогда амбивалентность, которая частично служит защитой против собственной ненависти и против ненавидимых и пугающих объектов, будет в нормальном развитии вновь уменьшаться в различной степени.
Как я уже говорила, всемогущество преобладает в ранних фантазиях, и деструктивных, и репаративных, и влияет на сублимации и объектные отношения. Всемогущество, однако, так близко связано в бессознательном с садистическими импульсами, с которыми оно вначале ассоциировано, что ребенок чувствует, что вновь и вновь его попытки совершить репарации не достигают, или не достигнут, успеха. Его садистические импульсы, он чувствует, могут легко взять верх над ним. Маленький ребенок, который не может удовлетворительно доверять своим репаративным и конструктивным чувствам, как мы видели, прибегает к маниакальному всемогуществу. По этой причине на ранней стадии развития Эго не имеет адекватных средств в своем распоряжении для удовлетворительного обращения с виной и тревогой. Все это приводит к необходимости для ребенка - и по этой причине в некоторой степени также и для взрослого - повторять определенные действия обсессивно (что, на мой взгляд, является частью навязчивого повторения), или противоположный метод - обращаться за помощью к всемогуществу и отрицанию. Когда защиты маниакальной природы терпят неудачу, защиты, в которых опасность от различных источников отрицается или минимизируется, Эго вынуждено, взамен этого или одновременно, сражаться со страхами повреждения или дезинтеграции, пытаясь выполнить репарации обсессивным образом. В другом месте я приводила мой вывод, что обсессивные механизмы являются защитой против параноидных тревог, равно как и средством модификации их, и здесь я только кратко покажу связь между обсессивными механизмами и маниакальными защитами в связи с депрессивной позицией в нормальном развитии.
Сам факт, что маниакальные защиты действуют в такой близкой связи с обсессивными защитами, вносит свой вклад в страх Эго что репарации, осуществляемые обсессивными средствами, также потерпят неудачу. Желание контролировать объект, садистическое удовлетворение от победы и уничтожение его, получение преимуществ над ним, триумф над ним, могут так сильно входить в акт репарации (осуществляемый посредством мыслей, действий и сублимаций), что благотворный цикл, начатый этим действием, разрушается. Объекты, которые должны были быть восстановлены, превращаются вновь в преследователей, и, в свою очередь, оживают параноидные страхи. Эти страхи усиливают параноидные механизмы защиты (разрушение объекта), равно как и маниакальные механизмы (управление им или поддержание его в отложенной анимации, и т.д.). Репарация, которая осуществляется, таким образом нарушается или даже аннулируется - согласно степени, с которой эти механизмы активируются. Как результат неудача в выполнении репарации, Эго вынуждено вновь и вновь обращаться к обсессивным и маниакальным защитам.
Когда в ходе нормального развития достигается относительный баланс между любовью и ненавистью, тогда также образуется определенное равновесие между этими противоположными и все-таки тесно связанными методами, и их интенсивность уменьшается. В этой связи я хочу подчеркнуть значение триумфа, тесно связанного с презрением и всемогуществом, как элемента маниакальной позиции. Мы знаем, какую роль соперничество играет в страстном желании ребенка сравняться в достижениях со взрослыми. В дополнение к соперничеству, его смешанное со страхом желание "вырасти" из своих недостатков (в конечном счете преодолеть свою деструктивность и свои плохие внутренние объекты и стать способным управлять ими) служит стимулом для всех его достижений. Согласно моему опыту, желание перевернуть отношение ребенок-родитель, обрести власть над родителями и достичь триумфа над ними, всегда в некоторой степени ассоциировано с импульсом к достижению успеха. Ребенок фантазирует, что придет время, когда он будет сильный, высокий и взрослый, мощный, богатый и потентный, а отец и мать превратятся в беспомощных детей, или наоборот, в его фантазиях, они будут очень старые, слабые, бедные и отвергнутые. Триумф над родителями в таких фантазиях, через чувство вины, к которому он приводит, часто нарушает стремления разного рода. Некоторые люди обречены оставаться неудачниками, т.к. успех всегда подразумевает для низ оскорбление или даже опасность для кого-то другого, в первую очередь триумф над родителями, братьями и сестрами. Действия, которыми они хотят достичь чего-то, могут быть очень конструктивными по своей природе, но неявный триумф и вытекающий ущерб и обида, причиняемые объекту, могут перевесить эти цели в уме субъекта и, следовательно, предотвратить их выполнение. В результате репарация любимым объектам, которые в глубине ума совпадают с теми, над которыми он чувствует триумф, вновь не может быть выполнена и, следовательно, вина остается необлеченной. Триумф субъекта над его объектами неизбежно подразумевает для него их желание триумфа над ним и, следовательно, ведет к неуверенности и чувству преследования. Это может привести к депрессии или усилению маниакальных защит и более сильному контролю его объектов, т.к. он потерпел неудачу в примирении, восстановлении или улучшении их, и, следовательно, чувство преследования ими вновь берет верх. Все это имеет важное влияние на инфантильную депрессивную позицию и успех или неудачу Эго в преодолении ее. Триумф над его внутренними объектами, которые Эго маленького ребенка контролирует, унижает и мучает, составляет часть деструктивного аспекта маниакальной позиции, которая нарушает репарацию и воссоздание его внутреннего мира и мира и гармонии в нем, и, таким образом, триумф препятствует работе ранней печали.
Для иллюстрации этих процессов развития давайте рассмотрим некоторые черты, которые можно наблюдать у гипоманиакальных людей. Характерной чертой отношения гипоманиакальной личности к людям, принципам и событиям является их склонность к преувеличенным оценкам: сверхвосхищение (идеализация) или презрение (обесценивание). Вместе с этим он имеет тенденцию относиться ко всему в большом масштабе, думать в больших числах, все это в соответствии с величием его всемогущества, которым он защищает себя против страха потери единственного незаменимого объекта, своей матери, о которой он, по существу, все еще печалится. Его тенденция минимизировать значение деталей и малых чисел, частая зависимость (casualness????) от деталей и презрение к сознательности ярко контрастирует с очень доскональными методами, концентрацией на мельчайших вещах (Фрейд), которые являются частью обсессивных механизмов.
Это презрение, однако, также в некоторой степени основывается на отрицании. Он должен отрицать свой импульс сделать обширные и детальные репарации, потому что он должен отрицать причину репарации, а именно, повреждение объекта и последующие сожаление и вину.
Возвращаясь к ходу раннего развития, мы должны сказать, что каждый шаг в эмоциональном, интеллектуальном и физическом росте используется Эго как средство преодоления депрессивной позиции. Рост у ребенка сноровки, способностей и умений увеличивает его веру в психическую реальность его конструктивных тенденций, в его способность управлять и контролировать свои враждебные импульсы, равно как и свои "плохие" внутренние объекты. Таким образом тревоги из различных источников облегчаются, и эго приводит к уменьшению агрессии и, в свою очередь, его подозрительности к "плохим" внешним и внутренним объектам. Усиливающееся Эго, с его большей верой в людей, может затем пойти еще дальше в направлении объединения своих образов - внешних, внутренних, любимых и ненавидимых - и в направлении дальнейшего смягчения ненависти средствами любви и, таким образом, к общему процессу интеграции.
Когда вера ребенка в его способность любить, в его репаративную силу и в интеграцию и безопасность его хорошего внутреннего мира увеличивается как результат постоянных и разнообразных доказательств и контрдоказательств, получаемых при тестировании внешней реальности, маниакальное всемогущество и обсессивная природа импульсов к репарации уменьшаются, что означает, в общем, что инфантильный невроз пройден. [has passed]
Сейчас мы должны связать инфантильную депрессивную позицию с нормальной печалью. Мучительность реальной потери любимого человека, с моей точки зрения, в значительной степени увеличивается бессознательными фантазиями о потере также его внутренних "хороших" объектов. Он тогда чувствует, что его внутренние "плохие" объекты преобладают и его внутреннему миру угрожает разрушение. Мы знаем, что потеря любимого человека приводит у печалящегося к импульсу переустановить потерянный любимый объект в Эго. (Фрейд и Абрахам). С моей точки зрения, он не только принимает в себя (ре-инкорпорирует) личность, которую он потерял, но также переустанавливает его интернализированные хорошие объекты (в конечном счете своих любимых родителей), которые стали частью его внутреннего мира с самых ранних стадий его развития. Они также ощущаются погибшими, разрушенными, когда происходит потеря любимого человека. Вследствие этого ранняя депрессивная позиция, и вместе с ней тревоги, вины и чувства потери и вины происходящие от ранней ситуации, связанной с грудью, Эдиповой ситуации и всех других источников, реактивируются. Вместе со всеми этими эмоциями страх быть ограбленным и наказанным обоими опасными родителями - т.е. чувство преследования - также оживает в глубоких слоях психики.
Если, например, у женщины умирает ребенок, вместе с печалью и болью, ее ранний страх быть ограбленной "плохой" депрессивной матерью реактивируется и подтверждается. Ее собственные ранние агрессивные фантазии о том, чтобы украсть у матери детей, приводят к страху и чувству, что ее наказали, и это усиливает амбивалентность и приводит к ненависти и недоверию к окружающим. Усиление чувства преследования в состоянии печали еще более болезненно потому, что в результате увеличения амбивалентности и недоверия, дружеские отношения с людьми, которые могли бы так помочь в это время, затрудняются.
Боль, переживаемая в медленном процессе тестирования реальности в работе печали, таким образом, кажется частично обусловленной необходимость, не только обновить связи с внешним миром и таким образом сознательно пережить потерю, но и в то же время посредством этого воссоздать с болью внутренний мир, которому грозит разрушение и гибель. Тогда как маленький ребенок, проходя через депрессивную позицию, борется, в своем бессознательном, задачей установления и интеграции своего внутреннего мира, также и печалящийся человек проходит через боль его восстановления и реинтеграции.
В нормальной печали реактивируются ранние психотические тревоги, печалящийся человек, фактически, болен, но, т.к. состояние его ума столь обычно и кажется столь естественным для нас, мы не называем печаль болезнью. (По аналогичным причинам, до недавнего времени, инфантильные неврозы нормальных детей не распознавались как таковые). Сформулирую мои выводы более точно: я должна сказать, что в печали субъект проходит через модифицированное и временное маниакально-депрессивное состояние и преодолевает его, таким образом повторяя, хотя в других обстоятельствах и с другими проявлениями, процессы, через которые ребенок нормально проходит в его раннем развитии.
Величайшая опасность для печалящегося человека состоим в повороте его ненависти, направленной против утраченного любимого человека, на самого себя. Одним из способов, которым ненависть выражает себя в ситуации печали, есть чувство триумфа над умершим. Я уже говорила ранее в этой статье о триумфе как части маниакальной позиции в инфантильном развитии. Инфантильные желания смерти родителям, братьям и сестрам реально выполняются, когда умирает любимый человек, т.к. он неизбежно в некоторой степени представляет собой самые ранние значимый фигуры и, следовательно, берет на себя часть чувств, относящихся к ним. Таким образом его смерть, разрушительная по другим причинам, в некоторой степени ощущается как победа, приводит к триумфу и, следовательно, еще более к вине.
В этом вопросе я нахожу, что мой взгляд отличается от взгляда Фрейда, который утверждает: "Во-первых, тогда: в нормальной печали также потеря объекта несомненно преодолевается, и этот процесс также поглощает всю энергию Эго, пока он длится. Почему тогда он не создает экономическое условие для фазы триумфа после своего завершения или, по крайней мере, не дает слабые признаки такого состояния? Я нахожу, что невозможно без подготовки ответить на это возражение". Мой опыт свидетельствует, что чувства триумфа неизбежно связаны с нормальной печалью, и имеют эффект замедления работы печали, или даже усиливают трудности и боль, которые испытывает печалящийся. Когда ненависть к утраченному любимому объекту в ее различных манифестациях берет верх в печалящемся человеке, это не только превращает любимую фигуру в преследователя, но также ослабляет веру печалящегося в его хорошие внутренние объекты. Ослабленная вера в хорошие объекты нарушает наиболее болезненно процесс идеализации, который является существенным промежуточным шагом ментального развития. У маленького ребенка идеализированная мать служит защитой против репрессивной или мертвой матери и против всех плохих объектов, и поэтому представляет собой безопасность и саму жизнь. Как мы знаем, печалящийся получает большое облегчение от воспоминания о доброте и хороших качествах умершего, и то частично из-за утешения, которое он переживает от сохранения своего любимого объекта в настоящем времени как идеализированного объекта.
Временные состояния подъема (elation), которые возникают между скорбью и страданием в нормальной печали имеют маниакальный характер и обусловлены чувством внутреннего обладания совершенным любимым объектом (идеализированным). В любое время, однако, когда у печалящегося нахлынет ненависть к любимому лицу, его вера в него разрушается и процесс идеализации также нарушается. (Его ненависть к любимому лицу усиливается страхом, что своей смертью любимый человек стремился наказать , как в прошлом он чувствовал, что его мать, когда ее не было с ним и когда он хотел ее, умерла, чтобы наказать его). Только постепенно, приобретая веру во внешние объекты и ценности разного рода, в норме печалящийся становится способным вновь усилить свое доверие к утраченным любимым людям. Тогда он может вновь перенести понимание того, что объект не был совершенным, и все-таки не потерять веру и любовь к нему и не бояться его возмездия. Когда эта стадия достигается, важный шаг в работе печали а в направлении ее преодоления, совершен.
Чтобы проиллюстрировать пути, которыми в норме печалящийся переустанавливает связи с внешним миром, приведу пример. Миссис А. в первые несколько дней после ужасной потери своего маленького сына, который внезапно умер, когда был в школе, принялась сортировать письма, оставляя его и отбрасывая другие. Она таким образом бессознательно пыталась восстановить его и сохранить его внутри себя, и выбросить все, что она считала безразличным, или даже враждебным - т.е. "плохие" объекты, опасные выделения и плохие чувства.
Некоторые люди в печали приводят в порядок дом и изменяют обстановку, действия, которые происходят от усиления обсессивных механизмов, которые являются повторением одной из защит, используемых для борьбы с инфантильной депрессивной позицией.
В первую неделю после смерти сына она мало плакала, и слезы не давали ей облегчения, как в дальнейшем, Она чувствовала, что дни ее сочтены, она физически разрушена. Однако, ей давало некоторое облегчение общение с одним или двумя близкими людьми. На этой стадии у миссис А,, которая обычно видела сны каждую ночь, полностью прекратились сновидения из-за ее глубокого бессознательного отрицания ее действительной потери. В конце недели она видела следующее сновидение:
Она видела двоих, мать и сына. Мать была одета в черное платье. Сновидица знала, что этот мальчик умер, или умрет. В ее чувствах не было сожаления, но даже след враждебности к этим людям.
Ассоциации привели к важному воспоминанию. Когда миссис А. была маленькой девочкой, ее брат, который имел трудности в школе, собирался обучаться у своего школьного товарища одного с ним возраста (Я назову его Б.). Мать Б. пришла к матери миссис А., чтобы договориться о репетиторстве, и миссис А. помнит этот случай с очень сильными чувствами. Мать Б. вела себя покровительственно, и ее собственная мать, как ей показалось, была несколько огорчена. Она сама чувствовала, что страшный позор обрушился на ее брата, которым она восхищалась и которого очень любила, и на всю семью. Ее брат, на несколько лет старше ее, казался ей полным знаний, мастерства и силы - образец всех добродетелей, и ее идеал был разрушен, когда его трудности в школе вышли на свет. Сила ее чувств в связи с этим случаем, как непоправимым несчастьем, которая существовала в ее памяти, была, однако, связана с ее бессознательным чувством вины. Она чувствовала, что это было исполнением ее собственных злобных желаний. Ее брат был очень огорчен этой ситуацией, и выражал значительную нелюбовь и ненависть к другому мальчику. Миссис А. в то время идентифицировала себя с ним в этих мстительных чувствах. В сновидении два человека, которых миссис А. видела, были Б. и его мать, и факт, что мальчик умер, выражал раннее желание миссис А. смерти этому мальчику. В то же время, однако, желание смерти своему собственному брату и желание наказать свою мать потерей ее сына - очень глубоко вытесненные желания - были частью ее мыслей сновидения. Теперь оказалось, что миссис А., со всем ее восхищением и любовью к своему брату, ревновала к нему по различным поводам, завидовала его большим знаниям, его умственному и физическому превосходству, и также его обладанию пенисом. Ее ревность к ее горячо любимой матери, имеющей такого сына, вносила свой вклад в желание смерти брату. Одна из мыслей сновидения, таким образом, была: "Сын матери умер, или умрет. Это сын той неприятной женщины, которая обидела мою мать и брата, он должен умереть." Но в более глубоких слоях также реактивируется желание смерти ее брату, и эта мысль сновидения такова: "Умер сын моей матери, а не мой собственный". (И ее мать, и ее брат уже на самом деле умерли.) Здесь проявились противоположные чувства -симпатия к матери и сожаление о себе самой. Она чувствует: "Одной такой смерти достаточно. Моя мать потеряла своего сына, она не должна потерять также своего внука". Когда ее брат умер, кроме огромного горя, она бессознательно чувствовала триумф над ним, происходящий от ее ранней ревности и ненависти, и соответствующих чувств вины. Она перенесла некоторые из ее чувств к своему брату в свое отношение к сыну. В своем сыне она также любила своего брата, но в это же время, некоторая амбивалентность к брату, хотя и модифицированная сильными материнскими чувствами, также переносилась на ее сына. Печаль о брате, вместе с сожалением, триумфом и виной, переживаемым в отношении к нему, вошли в ее сегодняшнюю печаль и проявились в сновидении.
Давайте рассмотрим взаимодействие защит, как они проявляются в этом материале. Когда произошла потеря, маниакальная защита усилилась, и отрицание, в частности, стало играть существенную роль. Бессознательно миссис А. отвергала факт, что ее сын умер. Когда она уже не могла более полагаться на это отрицание в такой степени, но еще не была способна встретиться лицом к лицу с болью и страданием, триумф, другой элемент маниакальной позиции, стал усиливаться. "Это совсем не болезненно", - по-видимому, говорят мысли сновидения, как показывают ассоциации, - "если умер какой-то мальчик. Это даже хорошо. Сейчас я осуществила свою месть этому неприятному мальчику, который обидел моего брата". Факт, что триумф над братом также ожил и усилился, стал очевиден только после тяжелой аналитической работы. Но этот триумф был ассоциирован с управлением интернализированными матерью и братом, и триумфом над ними. На этой стадии контроль над ее внутренними объектами усилился, несчастье и печаль были смещены с нее на ее интернализированную мать. Здесь отрицание вновь входит в игру - отрицание психической реальности, что она и ее внутренняя мать страдали вместе. Сострадание и любовь к внутренней матери отрицались, чувство мести и триумф над интернализированными объектами и управление ими усилилось, и частично вследствие ее собственных мстительных чувств, они превратились в преследователей.
В сновидении был только один легкий намек на растущее у миссис А. бессознательное знание (указывающее, что отрицание ослабло), что это была она сама, кто потерял своего сына. Днем накануне сновидения она одевала черное платье с белым воротником. У женщины в сновидении тоже было что-то белое вокруг шеи на ее черном платье.
Через две ночи после этого сновидения ей приснилось вновь:
Она летает со своим сыном, и он исчезает. Она чувствует, что это означает его смерть - что он утонул. Она чувствует, что будто бы тоже должна утонуть - но затем она делает усилие и избегает опасности и остается в живых.
Ассоциации показывают, что в сновидении она решает, что не должна умирать с ее сыном, а должна выжить. По-видимому, даже во сне она чувствует, что хорошо остаться живо и плохо умереть. В этом сновидении бессознательное понимание ее потери белее доступно, чем два дня назад. Сожаление и вина проявляются ближе. Очевидное чувство триумфа исчезло, но ясно, что оно лишь уменьшилось. Оно все еще присутствует в ее удовлетворении тем, что она осталась живой - по контрасту со смертью ее сына. Чувства вины, которые уже ощущались, были частично связаны с этим элементом триумфа.
Напомню здесь высказывание Фрейда из его работы "Печаль и меланхолия": "Реальность накладывает свой вердикт - что объект больше не существует - на каждое отдельное воспоминание и надежду, которыми либидо было присоединено к потерянному объекту, и Эго, поставленное перед выбором, разделить ли его судьбу, убеждается суммой нарциссический удовлетворений остаться живым и разорвать свою привязанность к несуществующему объекту." С моей точки зрения, это "нарциссическое удовлетворение" содержит в мягкой форме элемент триумфа, который Фрейд, по-видимому, считал не входящим в нормальную печаль.
Во время второй недели ее печали миссис А. нашла некоторое удовольствие в рассматривании красиво расположенных домов в пригороде, и в желании иметь такой дом. Но это удовольствие вскоре было прервано приступами отчаяния и горя. Теперь она сильно плакала, и находила облегчение в слезах. Утешение, которое она нашла в рассматривании домов, происходило от восстановления внутреннего мира в ее фантазии через этот интерес и также от получения удовольствия от знания, что дама других людей и хорошие объекты существуют. В конце концов это представляло собой восстановление ее хороших родителей, внешне и внутренне, объединение их, их счастье и созидательность. В своем уме она совершила репарацию своим родителям за убийство, в фантазии, их детей и за что она предчувствовала их гнев. Таким образом ее страз, что смерть ее сына была наказанием ее мстительными родителями, терял силу, и также уменьшалось чувство, что ее сын наказывает ее своей смертью. Уменьшение ненависти и страха в свою очередь позволило печали проявиться с полной силой. Увеличение недоверия и страхов усилило ее чувство преследования и управления ею внутренними объектами и усилило ее потребность управлять ими. Все это выразило себя в ожесточении ее внутренних отношений и чувств -т.е., в усилении маниакальных защит. (Это было показано в ее первом сновидении.) Если они вновь уменьшатся благодаря усилению веры субъекта в хорошие качества - его собственные и чужие - и страхи уменьшатся, печалящийся будет способен подчиниться своим собственным чувствам, и выплакать свою печаль о реальной потере.
По-видимому, процессы проекции и выделения (ejecting), которые тесно связаны с освобождением чувств, тормозятся на определенных стадиях печали избыточным маниакальным контролем, и могут вновь действовать более свободно, когда этот контроль ослабляется. Через слезы, которые в бессознательном приравниваются к экскрементам, печалящийся не только выражает свои чувства и таким образом уменьшает напряжение, но также изгоняет свои "плохие" чувства и "плохие" объекты, и это добавляется к облегчению, достигаемому через слезы. Эта большая свобода во внутреннем мире подразумевает, что интернализированные объекты, будучи менее контролируемыми со стороны Эго, также допускают большую свободу: что эти объекты сами по себе допускают, в частности, большую свободу чувств. В ситуации печали чувства интернализированных объектов тоже полны печали. В его уме они разделяют его горе, также как это сделали бы реальные родители. Поэт говорит нам, что "природа скорбит вместе со скорбящим". Я полагаю, что "природа" в этом случае представляет собой внутреннюю хорошую мать. Это переживание взаимной печали и симпатии во внутренних отношениях, однако, вновь связано с внешними отношениями. Как я уже говорила, большая вера миссис А. в реальных людей и помощь, полученная от внешнего мира, служит ослаблению маниакального контроля над ее внутренним миром. Таким образом интроекция (равно как и проекция) может действовать еще более свободно, больше хороших качеств и любви могут быть взяты извне, и хорошие качества и любовь все более и более начинают ощущаться внутри. Миссис А., которая на более ранней стадии ее печали в некоторой степени чувствовала, что ее потеря была наказанием со стороны мстительных родителей, могла теперь в фантазии ощущать симпатию этих родителей (которые давно умерли), их желание поддержать ее и помочь ей. Она чувствовала, что они также страдают от тяжелой утраты и разделяют ее горе, как они сделали бы это, если бы были живы. В ее внутреннем мире жестокость и подозрительность уменьшились, и сожаление усилилось. Слезы, которые она проливала, в некоторой степени были слезами, которые проливали ее внутренние родители, и она также хотела утешить их, как они - в ее фантазии - утешали ее.
Если большая безопасность во внутреннем мире постепенно достигается, и чувствам и внутренним объектам, следовательно, вновь позволено вернуться к жизни, могут начаться восстановительные процессы и возвратиться надежда.
Как мы уже видели, это изменение происходит благодаря определенным движениям в двух группах чувств, которые формируют депрессивную позицию: преследование уменьшается и тоска по утраченному любимому объекту переживается в полную силу. Иными словами: ненависть отступает и любовь освобождается. Необъемлемой чертой чувства преследования является то, что оно питается ненавистью и в то же время само питает ненависть. Более того, чувство преследования и наблюдения со стороны внутренних "плохих" объектов, и следующая из этого необходимость постоянно наблюдать за ними, приводит к определенной зависимости, которая усиливает маниакальные защиты. Эти защиты, используемые преимущественно против чувства преследования (и не в такой степени против тоски по любимому объекту), по своей природе очень садистические и сильные. Когда преследование уменьшается, враждебная зависимость от объекта, вместе с ненавистью, также уменьшается, и маниакальные защиты ослабляются Тоска по утраченному любимому объекту также подразумевает зависимость от него, но такую зависимость, которая становится стимулом к репарации и предохранению объекта. Она созидательная, потому что в ней преобладает любовь, тогда как зависимость, основанная на преследовании и ненависти, бесплодна и деструктивна.
Таким образом, когда печаль переживается в полную силу и отчаяние в самом разгаре, любовь к объекту берет верх, и печалящийся чувствует более сильно, что жизнь внутри и вовне будет продолжаться не смотря ни на что, и что утраченный любимый объект может быть сохранен внутри. На этой стадии печали страдание может стать продуктивным. Мы знаем, что болезненные переживания разного рода иногда стимулируют сублимации, или даже выявляют новые способности в некоторых людях, которые могут начать рисовать, писать или заниматься другой продуктивной деятельностью под действием фрустраций и тяжелых испытаний. Другие становятся более продуктивными иным образом - более способными понимать людей и события, более терпимыми в своем отношении к другим - они становятся мудрее. Такие достижения, с моей точки зрения, происходят вследствие процессов, аналогичных тем шагам в печали, которые мы только что исследовали. То есть, любая боль, вызванная несчастливыми переживаниями, независимо от их природы, имеет нечто общее с печалью. Она реактивирует инфантильную депрессивную позицию, и столкновение с несчастьями любого рода и преодоление их подразумевает душевную работу, аналогичную печали.
Кажется, что каждое продвижение вперед в процессе печали приводит к углублению отношения индивидуума к его внутренним объектам, к счастью обретения их после того, как они были утеряны ("Рай утраченный и восстановленный"), к увеличению веры в них и любви к ним, потому что они оказались хорошими и помогающими несмотря ни на что. Это похоже на тот путь, которым маленький ребенок шаг за шагом строит свои отношения к внешним объектам, т.к. он обретает веру не только через приятные переживания, но также через преодоление фрустраций и неприятных переживаний, при котором он тем не менее сохраняет свои хорошие объекты (внешне и внутренне). Фазы в работе печали, когда маниакальные защиты ослабляются и начинается возобновление жизни внутри, с углублением внутренних отношений, сравнимы м теми шагами, которые в раннем развитии приводят к большей независимости от внешних, равно как и от внутренних объектов.
Вернемся к миссис А. Ее облегчение при разглядывании красивых домов объяснялось зарождением некоторой надежды, что она сможет воссоздать своего сына и своих родителей; жизнь началась вновь внутри нее и во внешнем мире. В это время она смогла вновь видеть сновидения и бессознательно начала смотреть в лицо своей утрате. Теперь она чувствовала более сильное желание видеть вновь друзей, но пока только по одному и на короткое время, эти чувства большего комфорта, однако, вновь сменились страданием. (В печали, как и в инфантильном развитии, внутренняя безопасность достигается не прямым движением, а волнами). Через несколько недель печали, например, миссис А. пошла на прогулку с другом по знакомым улицам, в попытке восстановить старые связи. Она внезапно поняла, что количество людей на улице кажется ошеломляющим, дома странными, солнечный свет искусственным и нереальными. Она попыталась найти убежище в тихом ресторане. Но там она почувствовала, будто потолок обрушивается, и люди на местах выглядят как в тумане. Ее собственный дом внезапно показался ей единственным безопасным местом в мире. В анализе стало ясно, что пугающее безразличие этих людей было отражением ее внутренних объектов, которые в ее уме превратились во множество "плохих" преследующих объектов. Внешний мир ощущался искусственным и нереальным, потому что не было реальной веры во внутренние хорошие качества.
Многие печалящиеся могут делать только медленные шаги в восстановлении связей с внешним миром, потому что они борются с хаосом внутри, по аналогичным причинам ребенок развивает свою веру в объектный мир первоначально в связи с несколькими любимыми людьми. Без сомнения, другие факторы, например, его интеллектуальная незрелость, также частично ответственны за это постепенное развитие у ребенка объектных отношений, но я утверждаю, что это объясняется также хаотическим состоянием его внутреннего мира.
Одно из различий между ранней депрессивной позицией и нормальной печалью состоит в том, что когда ребенок теряет грудь или бутылку, которые представляют собой для него "хороший", помогающий, защищающий объект внутри него, и испытывает печаль, он делает это несмотря на присутствие его матери. У взрослого человека, однако, печаль вызывается реальной потерей реального лица, хотя помощь приходит к нему в этой ошеломляющей потере от установленной в его ранней жизни его "хорошей" матери внутри него. Маленький ребенок, однако, сталкивается с самым разгаром борьбы со страхами потерять ее внутренне и внешне, поскольку он еще не достиг успеха в безопасном установлении ее внутри себя. В этой борьбе отношение ребенка к матери, ее реальное присутствие оказывают величайшую помощь. Аналогично, если печалящийся имеет людей, которых он любит и которые разделяют его печаль, и если он может принять их симпатию, восстановление гармонии в его внутреннем мире стимулируется, и его страхи и страдания ослабевают более быстро.
Описав некоторые процессы, которые я наблюдала в работе печали и в депрессивных состояниях, я хочу сейчас связать мой вклад с работой Фрейда и Абрахама.
Следуя открытиям Фрейда и своим собственным о природе архаических процессов в работе меланхолии, Абрахам обнаружил, что такие процессы также действуют в работе нормальней печали. Он сделал вывод, что в этой работе индивидуум достигает успеха в установлении утраченного любимого лица в своем Эго, тогда как меланхолик терпит неудачу в попытке это сделать. Абрахам также описал некоторые фундаментальные факторы, от которых зависит этот успех или неудача.
Мой опыт привел меня к выводу, что, хотя верно, что характерной чертой нормальной печали является установление утраченного любимого объекта внутри себя, он не делает это первое время, но, через работу печали, он переустанавливает этот объект, равно как и все его любимые внутренние объекты, которые он чувствует утраченными. Он, следовательно, восстанавливает то, чего он уже достиг в детстве.
В ходе своего раннего развития, как мы знаем, он устанавливает своих родителей внутри своего Эго. (Именно понимание процессов интроекции в меланхолии и в нормальной печали, как известно, привело Фрейда к осознанию существования Супер-Эго в нормальном развитии.) Но, что касается природы Супер-эго и истории его индивидуального развития, мои выводы отличаются от выводов Фрейда. Как я уже указывала, процессы интроекции и проекции с самого начала жизни приводят к созданию внутри нас любимых и ненавидимых объектов, которые мы чувствуем как "хорошие" и "плохие", и которые взаимосвязаны друг с другом и с собственной личностью (self): т.е., они составляют внутренний мир. Это собрание интернализированных объектов становится организованным, вместе с организацией Эго, и с высших слоях психики оно становится различимо как Супер-Эго. Таким образом, явление, которое было осознано Фрейдом, вообще говоря, как голоса и влияние реальных родителей, установленных в Эго, в соответствии с моими наблюдениями, есть комплексный объектный мир, который воспринимается индивидуумом, в глубоких слоях бессознательного, как существующий реально внутри него, и для которого я и ряд моих коллег поэтому используем термин "интернализированный", или внутренний мир. Этот внутренний мир состоит из бесчисленного множества объектов, принятых в Эго, соответствующих частично множеству различных аспектов, хороших и плохих, в которых родители (и другие люди) появляются перед бессознательным ребенка на различных стадиях его развития. Далее, они также представляют всех реальных людей, которые непрерывно становятся интернализированными во множестве ситуаций, создаваемых многообразными постоянно изменяющимися внешними переживаниями и фантазиями. В дополнение, все эти объекты во внутреннем мире находятся в бесконечных сложных отношениях друг с другом и с собственной личностью (self).
Если я теперь применю эту концепцию организации Супер-эго в сравнении с концепцией Супер-Эго Фрейда к процессу печали, природа моего вклада в понимание этого процесса станет ясна. В нормальной печали индивидуум реинтроецирует и переустанавливает, вместе с реально утраченным лицом, своих любимых родителей - которых он воспринимает как свои "хорошие" внутренние объекты. Его внутренний мир, который он строит с самых ранних дней, в его фантазии разрушается, когда происходит реальная утрата. Восстановление этого внутреннего мира характеризует успешную работу печали.
Понимание этого сложного внутреннего мира позволяет аналитику обнаружить и разрешить множество ситуаций ранней тревоги, которые были первоначально неизвестны, и, следовательно, имеют такое большое теоретическое и терапевтическое значение, что его нельзя даже полностью оценить. Я полагаю, что проблему печали также можно понять более полно, только принимая во внимание эти ситуации ранней тревоги.
Сейчас я проиллюстрирую в связи с печалью одну их этих ситуаций тревоги, которая, как я обнаружили, имеет решающее значение также в маниакально-депрессивных состояниях. Я имею в виду тревогу относительно интернализированных родителей в деструктивной сексуальной связи, они, равно как и собственная личность, ощущаются находящимися в постоянной опасности сильного разрушения. Ниже я приведу отрывки из нескольких сновидений пациента Д., сорокалетнего мужчины с сильными параноидными и депрессивными наклонностями. Я не буду входить в детали этого случая в целом: здесь я только покажу пути, которыми эти специфические страхи и фантазии пробудились в пациенте со смертью его матери. У нее уже некоторое время было очень плохое состояние здоровья, и в то время, о котором я говорю здесь, она была практически без сознания.
Однажды во время анализа Д. говорил о своей матери с ненавистью и горечью, обвинял ее в том, что она сделала несчастным ее отца. Он также ссылался на случаи суицида и сумасшествия, которые были в семье его матери. Его мать, говорил он, была "безумной" некоторое время. Дважды он применил термин "безумный" к самому себе и затем сказал: "Я знаю, вы собираетесь сделать меня безумным и запереть меня". Он говорил о животном, запертом в клетке. Я проинтерпретировала, что его сумасшедший родственник и его безумная мать теперь ощущались им внутри него самого, и что страх быть запертым в клетку частично подразумевал его более глубокий страх содержать этих безумных людей внутри него самого и таким образом самому стать безумным. Затем он рассказал мне сновидение предыдущей ночи:
Он видел быка, лежащего во дворе фермы. Он был не совсем мертвый, и выглядел очень жутким и опасным. Он стоял с одной стороны быка, а его мать в другой. Он убежал в дом, чувствуя, что он оставил свою мать в опасности и что он не должен был так поступать, но он смутно надеялся, что она убежит.
К его собственному удивлению, первой ассоциацией моего пациента были черные дрозды, которые не давали ему спать по утрам. Затем он заговорил о буйволах в Америке, стране, где он родился. Он всегда интересовался ими и восхищался, когда видел их. Потом он сказал, что можно отстреливать их и использовать в пищу, но что они вымирают и их следует охранять. Затем он упомянул историю о человеке, который был вынужден лежать на земле несколько часов, кода бык стоял над ним, и он боялся пошевелиться в страхе быть раздавленным. Также была ассоциация о реальном быке на ферме друга, он недавно видел этого быка, и сказал, что он выглядит ужасно. Эта ферма имела для него ассоциации, через которые она представляла собой для него его собственный дом. Он провел большую часть своего детства на большой ферме своего отца. Кроме этого, были ассоциации о цветах, распространенных в сельской местности и укоренившихся в городских садах. Д. видел владельца этой фермы вновь в тот вечер и настойчиво советовал ему держать быка под контролем. (Д. узнал, что бык недавно разрушил некоторые постройки на ферме.) Позже этим вечером он получил известие о смерти своей матери.
Во время следующего часа Д. сначала не упоминал о смерти матери, но выражал свою ненависть ко мне - мое лечение убьет его. Я тогда напомнила ему сновидение о быке, проинтерпретировав, что в его уме его мать смешалась с атакующим быком - отцом - который сам был полумертвым - и стала жуткой и опасной. Я сама и лечение в этот момент представляли собой эту комбинированную родительскую фигуру. Я подчеркнула, что недавнее увеличение ненависти к матери было защитой против его горя и отчаяния от приближающейся смерти. Я обратила внимание на его агрессивные фантазии, которыми он в своем уме превратил отца в опасного быка, который разрушит его мать, затем на его чувство ответственности и вины за это надвигающееся несчастье. Я также указала на замечание пациента о буйволах, употребляемых в пищу, и объяснила, что он инкорпорировал комбинированную родительскую фигуру и поэтому боялся, что будет разрушен быком внутри. Предыдущий материал показал его страх контроля внутренними опасными существами и их нападения на него, страх, который приводил, среди прочего, к тому, что он временами становился совсем неподвижным. Его рассказ о человека, которому угрожала опасность быть раздавленным быком, который был неподвижным и контролировался быком, я проинтерпретировала как представление опасности, которая, как он чувствовал, угрожает ему изнутри.
Затем я показала пациенту сексуальный подтекст нападения быка на мать, связав это с его раздражением птицами, которые разбудили его этим утром (что было его первой ассоциацией к сновидению о быке.) Я напомнила ему, что в его ассоциациях птицы часто представляли собой людей, и что шум, создаваемый птицами - шум, к которому он вполне привык - представлял для него опасную сексуальную связь его родителей, и был столь нестерпимым в это конкретное утро из-за сновидения о быке, и из-за его острой тревоги об умирающей матери. Таким образом смерть его матери означала для него ее разрушение быком внутри него, т.к. - работа печали уже началась - он уже интернализировал ее в этой наиболее опасной ситуации.
Я также выделила некоторые черты сновидения, полные надежды. Его мать должна спастись сама от быка. Черных дроздов и других птиц он в действительности любил. Я показала ему также стремления к репарации и восстановлению, присутствующие в материале. Его отец (буйвол) должен быть сохранен, т.е. защищен от его - пациента - собственной жадности. Я напомнила ему, среди других вещей, о семенах, которые он хотел привезти из деревни, которую он любил, в город, и которые представляли собой новых детей, создаваемых им и его отцом как репарация его матери - эти живые дети были также средством сохранить ее живой.
Только после этой интерпретации он в действительности стал способен рассказать мне, что его мать умерла прошлой ночью. Затем он выразил, что было необычным для него, полное понимание процессов интернализации, которые я проинтерпретировала ему. Он сказал, что после того, как он получил известие о смерти матери, он почувствовал себя больным, хотя он думал в то время, что не было физических причин для этого. Как ему показалось, это подтверждало мою интерпретацию, что он интернализировал всю воображаемую ситуацию его борющихся и умирающих родителей.
Во время этого часа он проявлял большую ненависть, тревогу и напряжения, но вряд ли какое-либо сожаление, ближе к концу, однако, после моей интерпретации, его чувства смягчились, появилась некоторая печаль и он ощутил некоторое облегчение.
Ночью после похорон матери Д. приснилось, что Х. (отцовская фигура) и другое лицо (которое представляло меня) старались помочь ему, но в действительности он должен был сражаться с нами за свою жизнь, как он сказал: "Смерть пришла за мной". В этот час он вновь говорил с горечью о своем анализе, как дезинтегрирующем его. Я проинтерпретировала, что он чувствует, что помогающие внешние родители в то же время нападающие, дезинтегрирующие родители, которые собираются атаковать и разрушить его - полумертвый бык и умирающая мать внутри него - и что я сама и анализ стали представлять опасных людей и события внутри него. То, что его отец был также интернализирован им как умирающий или мертвый, подтвердилось, когда он сказал, что на похоронах матери он засомневался на мгновение, не умер ли его отец. (В реальности отец был все еще жив.) К концу этого часа, после уменьшения ненависти и тревоги, он опять стал более кооперативным. Он вспомнил, что накануне, когда он выглянул из окна отцовского дома и чувствовал одиночество, ему не понравилась сойка, которую он увидел в кустарнике. Он подумал, что это отвратительная деструктивная птица, возможно, мешает гнездам других птиц с яйцами в них. Затем он высказал ассоциацию, что он видел, некоторое время назад, охапки диких цветов, брошенных не землю -возможно, их сорвали и бросили дети. Я вновь проинтерпретировала его ненависть и горечь как часть защиты против сожаления, одиночества и вины. Деструктивная птица, деструктивные дети - как часто и раньше - представляли его самого, кто, с своем воображении, разрушил дом и счастье родителей и убил свою мать, разрушив ее детей внутри нее. В этой связи его чувства вины относились к его прямой атаке в фантазиях на тело его матери, тогда как в сновидении о быке вина исходила от непрямых атак на него, когда он превратил своего отца в опасного быка, который таким образом должен был выполнить его -пациента- собственные садистические желания.
На третью ночь после похорон матери Д. имел другое сновидение.
Он видел автобус, который ехал на него неуправляемым образом - очевидно, без водителя. Он двигался к ангару. Он не мог видеть, что случилось с ангаром, но знал определенно, что ангар "запылал". Тогда двое людей, вышедших из-за него, открыли ворота ангара и заглянули туда. Д. "не видел, зачем они делали это", но, казалось, они думают, что это должно помочь.
Кроме проявления страха быть кастрированным отцом в гомосексуальном акте, которого он в то же время желал, это сновидение показало ту же внутреннюю ситуацию, что и сновидение с быком - смерть его матери внутри него и его собственная смерть. Ангар представлял собой тело его матери, его самого и также его мать внутри него. Опасная сексуальная связь, представленная автобусом, разрушающим ангар, произошла в его уме с его матерью и с ним самим, но, помимо этого, и там, где преимущественно сосредоточена тревога, с его матерью внутри него.
Его неспособность видеть, что случилось, в сновидении указывает, что в его уме катастрофа произошла внутренне. Он также знал, что ангар "запылал", не видя этого. Автобус "ехал на него", что, помимо сексуальной связи и кастрации отцом, также означало "случившееся внутри него".
Два человека, открывающих дверь сзади (он указал на мое кресло) были он сам и я, глядящие внутрь его и в его ум (психоанализ). Два человека также представляли собой меня как "плохую" комбинированную родительскую фигуру, меня, содержащую опасного отца - отсюда его сомнения о том, может ли заглядывание в ангар (анализ) помочь ему.
Неуправляемый автобус представлял собой также его в опасной сексуальной связи с матерью, и выражал его страх и вину с связи с плохими качествами своих собственных гениталий. Перед смертью своей матери, в то время, когда ее смертельная болезнь уже началась, он случайно направил свою машину на столб - без серьезных последствий. По-видимому, это была бессознательная попытка самоубийства с целью разрушения внутренних "плохих" родителей. Этот случай также представлял его родителей в опасной сексуальной связи внутри него, и был таким образом отыгрыванием вовне, равно как и экстернализацией внутреннего несчастья.
Фантазия о родителях, соединенных в "плохом" половом акте - или, вернее, масса эмоций различного рода, желаний, стразов и вины, которые сопутствуют ей - очень сильно нарушили его отношение к обоим родителям и играли важную роль не только в его заболевании, но и во всем его развитии. Благодаря анализу этих эмоций, относящихся к реальным родителям в половом акте, и, в частности, благодаря анализу этих интернализированных ситуаций, пациент стал способен переживать реальную печаль по своей матери. Всю свою жизнь, однако, он избегал депрессии и сожаления о ее потере, которые происходили от его инфантильных депрессивных чувств, и отрицал свою очень сильную любовь к ней. В его уме он усиливал свою ненависть и чувства преследования, потому что не мог вынести страх потери своей любимой матери. Когда его тревоги о его собственной деструктивности уменьшились и вера в свою силу восстановить и сохранить ее стала усиливаться, чувство преследования уменьшилось и любовь к ней стала выходить на первый план. Но вместе с этим он стал все сильнее переживать горе и страстное желание ее, которые он вытеснял и отрицал с самых ранних дней жизни. Когда он проходил через печаль с сожалением и отчаянием, его глубоко пылающая любовь к его матери проявлялась все более и более, изменилось его отношение к обоим родителям. Однажды он назвал их в связи с приятным детским воспоминанием, "мои дорогие старые родители" - что было новым в его поведении.
Я описала здесь и в моей предыдущей статье более глубокие причины неспособности индивидуума преодолеть успешно инфантильную депрессивную позицию. Неудача в попытке сделать это может привести к депрессивному заболеванию, мании или паранойе. Я выделила один или два других метода, которыми Эго стремится избежать страданий, связанных с депрессивной позицией, а именно, либо бегство к внутренним хорошим объектам (которое может привести к тяжелым психозам) или бегство к внешним хорошим объектам (с вероятным возникновением невроза). Существует, однако, множество путей, основанных на обсессивных, маниакальных и параноидных защитах, варьирующихся от индивидуума к индивидууму в их относительных пропорциях, которые, как свидетельствует мой опыт, все служат одинаковой цели, т.е., позволить индивидууму избежать страданий, связанных с депрессивной позицией. (Все эти методы, как я уже указывала, играют роль также и в нормальном развитии). Это можно ясно видеть в анализе людей, которые неспособны переживать печаль. Чувствуя себя неспособными сохранить и безопасно переустановить свои любимые объекты внутри себя, они должны вечно отворачиваться от них и, таким образом, отрицать свою любовь к ним. Это может привести к тому, что их эмоции в целом становятся более заторможенными; в других случаях главным образом подавляются чувства любви и увеличивается ненависть. В то же время Эго использует различные способы обращения с параноидными страхами, которые становятся сильнее с усилением ненависти). Например, внутренние "плохие" объекты подчиняются (manically), а также усиленно проецируются во внешний мир. Некоторые люди, которые терпят неудачу в переживании печали, могут избежать вспышки маниакально-депрессивного заболевания или паранойи только сильно ограничивая свою эмоциональную жизнь, что обедняет их личность в целом.
Степень душевного равновесия, которая может поддерживаться у людей такого типа, часто зависит от способов взаимодействия этих различных методов и от их способности сохранить в живых в других направлениях некоторое количество любви, которую они отрицают в отношении своих утраченных объектов. Отношения с людьми, которые в их уме не вязаны столь близко с утраченным объектом, и интересы к событиям и деятельности, могут абсорбировать часть этой любви, которая принадлежит утраченному объекту. Хотя эти отношения и сублимации будут иметь некоторые маниакальные и параноидные качества, они могут, тем не менее, давать некоторое утешение и облегчение от вины, т.к. через них утраченный любимый объект, от которого отказались и таким образом вновь разрушили, в некоторой степени восстанавливается и сохраняется в бессознательном.
Если у наших пациентов анализ уменьшает тревогу в связи с деструктивными и преследующими внутренними родителями, отсюда следует, что ненависть и таким образом, в свою очередь, тревоги уменьшаются, и пациенты становятся способными пересмотреть свое отношение к родителям - не зависимо от того, умерли они или живы - и реабилитировать их в некоторой степени, даже если они имеют основания для реальных обид. Эта большая терпимость дает их возможность установить в их уме "хорошие" родительские фигуры более безопасно, бое о бок с "плохими" внутренними объектами, или, вернее, уменьшить страх этих "плохих" объектов верой в "хорошие". Это означает разрешение им переживать эмоции - сожаление, вину и горе, равно как любовь и веру - чтобы пройти через печаль, но преодолеть ее, и в конечном счете преодолеть инфантильную депрессивную позицию, что им не удалось сделать в детстве.
Подведем итоги. В нормальной печали, как и в патологической печали и в маниакально-депрессивных состояниях, реактивируется инфантильная депрессивная позиция. Сложные чувства, фантазии и тревоги, объединяемые этим понятием, имеют природу, которая подтвердила мое утверждение, что ребенок в своем раннем развитии проходит через временное маниакально-депрессивное состояние и состояние печали, которые модифицируются инфантильным неврозом. С преодолением инфантильного невроза инфантильная депрессивная позиция также преодолевается.
Фундаментальное различие между нормальной печалью, с одной стороны, и патологической печалью и маниакально-депрессивными состояниями с другой, заключается в следующем. Маниакально-депрессивный человек и человек, потерпевший неудачу в работе печали, хотя их защиты могут сильно отличаться, имеет общее в том, что они в раннем детстве были не способны установить свои внутренние "хорошие" объекты и почувствовать безопасность в своем внутреннем мире. В действительности они никогда не преодолевали инфантильную депрессивную позицию. В нормальной печали, однако, ранняя депрессивная позиция, которая оживает в результате потери любимого объекта, вновь модифицируется и преодолевается методами, сходными с теми, которые использовало Эго в детстве. Индивидуум переустанавливает свой действительно утраченный любимый объект; но он также в это время переустанавливает внутри себя свой первый любимый объект - в конечном счете "хороших" родителей - которых, когда происходит реальная утрата, он также чувствует опасность утратить. Именно благодаря восстановлению внутри себя "хороших" родителей, как и недавно утраченного лица, и благодаря восстановлению своего внутреннего мира, который был дезинтегрирован и находился в опасности, человек преодолевает свою печаль, достигает безопасности и приобретает истинную гармонию и мир.
М.Клейн
О КРИМИНАЛЬНОСТИ
Господин председатель, леди и джентльмены, когда ваш секретарь за день или два до этого попросил меня выступить на сегодняшней дискуссии, я ответила, что сделаю это с удовольствием, но не смогу достаточно полно дать обзор всему наработанному по данной теме как в докладе или статье. Я указываю на это, т.к. на самом деле собираюсь лишь кратко изложить несколько выводов, которые я сформулировала в другой связи [1].
В докладе [2], с которым я выступала на этой секции в 1927 году, я попыталась показать, что криминальные тенденции существуют также и у нормальных детей, и кратко упомянула несколько предположений относительно факторов, лежащих в основе асоциального и криминального поведения. Я обнаружила, что дети будут проявлять асоциальные и криминальные тенденции и действовать согласно им (конечно, по-своему, по-детски) снова и снова, чем больше они боялись жестокого возмездия со стороны своих родителей в виде наказания за свои агрессивные фантазии, направленные против этих родителей. Дети, которые бессознательно думали о разрезании на части, обезглавливании, пожирании и т.д., будут вынуждены чувствовать себя испорченными и готовы понести наказание, т.к. реальное наказание, хотя и строгое, было бы утешением в сравнении с кровавыми нападениями, которых дети постоянно ожидали со стороны фантастической мести родителей. В работе, на которую я ссылалась, я сделала вывод, что это не слабость или отсутствие супер-эго (как обычно предполагают) и, другими словами, не отсутствие совести, но подавление требований супер-эго, ответственное за характерное поведение асоциальных и криминальных личностей.
Дальнейшая работа в области детского анализа подтвердила эти предположения и дала более глубокое понимание механизмов, задействованных в подобных случаях. Сначала маленький ребенок скрывает агрессивные импульсы и фантазии против своих родителей, затем ребенок проецирует их на родителей, из этого развивается фантастическое и искаженное представление о людях вокруг него. Но в то же время действует механизм интроекции, так что эти нереальные имаго становятся интернализированными, и это ведет к тому, что ребенок чувствует себя управляемым фантастическими опасными и жестокими родителями - супер-эго внутри его.
В ранней садистической фазе, которую проходит каждый нормальный индивид, ребенок защищается от своих страхов перед объектами собственного насилия, как интроецированных, так и внешних, удваивая атаки на них в своем воображении; его цель в подобном освобождении от этих объектов - частично заглушить непереносимые угрозы своего супер-эго. Порочный цикл запускается, тревога ребенка побуждает его разрушать свои объекты, это ведет к росту его собственной тревоги, а это опять-таки заставляет его действовать против данных объектов; этот порочный цикл составляет психологический механизм, который оказывается в основе асоциальных и криминальных тенденций в индивидууме.
Когда при нормальном развитии садизм и тревога уменьшаются, ребенок находит лучшие и более социальные средства и пути преодолеть свою тревогу. Лучшая адаптация к реальности позволяет ребенку получить большую поддержку против фантастических имаго через его отношение к реальным родителям. На самых ранних стадиях развития его агрессивные фантазии против родителей, братьев и сестер вызывали тревогу, как бы эти объекты не повернулись против него, эти тенденции сейчас становятся основой для чувства вины и желания стать хорошим, каким он был в своем представлении. Подобные перемены происходят в результате анализа.
Анализы игры показывают, что если агрессивные инстинкты ребенка и его тревога очень сильны, то он упорно продолжает рвать, резать, ломать, разливать и сжигать различные предметы: бумагу, спички, коробки, безделушки, которые представляют собой его родителей, братьев, сестер, а также тело и груди его матери, и мы видим также, что эти агрессивные действия чередуются с сильной тревогой. Но когда при анализе тревога постепенно преодолевается, и таким образом снижается садизм, на первое место выходят чувство вины и конструктивные тенденции, например, если сначала маленький мальчик ничего не делал, а только крошил кусочки дерева, сейчас он будет стараться сделать из этих кусочков карандаш. Он возьмет кусочки графита из карандашей, которые он разломал, вложит в трещину деревяшки, а затем обмотает кусочек материи вокруг необработанного дерева, чтобы это выглядело красивее. Из общего содержания материала, который он представил, и из его ассоциаций, стало очевидным, что этот самодельный карандаш символизирует пенис его отца, сломанный в фантазии, и его собственный, повреждения которого он боялся как меры возмездия.
Чем больше возрастает тенденция и способность к восстановлению, и чем больше становится его вера и доверие к окружающим, тем мягче становится его супер-эго, и наоборот. Но в тех случаях, когда, как результат сильного садизма и подавленной тревоги (я могу только кратко упомянуть о некоторых наиболее важных факторах) логический круг между ненавистью, тревогой и деструктивными тенденциями не может быть разорван, индивид остается в стрессовой ситуации ранней тревоги и сохранит защитные механизмы, принадлежащие той ранней стадии. Если далее страх супер-эго, как по внешним, так и по интерпсихическим причинам, перейдет определенные границы, индивид может быть вынужден наносить вред людям, и эта вынужденность может сформировать основу для развития как криминального типа поведения, так и психоза.
Таким образом, мы видим, что из одного психологического источника могут развиться паранойя и криминальность. В последнем случае определенные обстоятельства приводят к общей тенденции преступника подавлять бессознательные фантазии и осуществлять их в реальности. Фантазии о преследовании одинаковы для обоих состояний; это потому, что преступник чувствует себя преследуемым за уничтожения других. Естественно, в таком случае, когда ребенок не только в фантазии, но и в реальности в некоторой степени преследуется злыми родителями и неблагоприятной обстановкой, фантазии усиливаются. Существует общая тенденция к переоценке важности неудовлетворительной обстановки, в этом смысле внутренние психологические трудности, которые частично происходят от окружающей среды, недостаточно оценены. Т.е. это зависит, прежде всего, от степени интрапсихической тревоги, во всяком случае на это не будет влиять просто улучшение окружения ребенка.
Одна из главнейших проблем преступников, которая всегда делала их непонятными для общества, - это отсутствие у них естественных человеческих добрых чувств; но это отсутствие только видимое. Когда в анализе человек достигает глубочайших конфликтов, от которых происходят ненависть и тревога, он также обнаруживает и любовь. Любовь в преступнике не отсутствует, но она так спрятана и затаена, что ничего, кроме анализа, не может ее высветить; преследуемый позднее ненавистью объект первоначально был для маленького ребенка объектом всей его любви и либидо; преступник сейчас находится в позиции ненависти и преследования своего собственного объекта любви, т.к. это нестерпимая ситуация, все воспоминания и сознание любой любви к любому объекту должны быть подавлены. Если в мире нет никого, кроме врагов, а именно так чувствует преступник, то его ненависть и разрушительность в его глазах, в большей степени оправданы - это установка, которая ослабляет его бессознательное чувство вины. Ненависть часто используется как наиболее эффективное средство скрыть любовь; но не нужно забывать, что для человека, находящегося в продолжительном состоянии стресса от преследования, безопасность его собственного эго - первое и единственное, что значимо.
Итак, подведу итог: в случаях, когда функция супер-эго возбуждают главным образом тревогу, это вызовет действие насильственных защитных механизмов в эго, которые по природе своей неэтичны и асоциальны; но как только садизм в ребенке снижается и характер и функции его супер-эго изменяются так, что вызывают меньше тревоги и больше чувства вины. Эти защитные механизмы, формирующие основу моральных и этических установок, активизируются, и ребенок становится уважительным к своим объектам и податливым социальным чувствам.
Известно, как сложно строить отношения со взрослым преступником и исправить его, хотя у нас нет причин для излишнего пессимизма; но опыт показывает, что можно найти подход и исправить как преступника, так и психотичного ребенка. Поэтому лучшим средством против делинквентности мог бы быть анализ детей, которые показывают признаки анормальности в том или ином направлении.
Примечания
Данный текст "On Criminality" представляет собой выступление Мелании Клейн на симпозиуме по преступности во время встречи на медицинской секции Британского психологического общества 24 октября 1934 года.
В данной работе автор показывает естественные глубинно-психологические механизмы, сопутствующие нормальному развитию ребенка, которые при определенных условиях могут реализоваться в криминальные или патологические тенденции. Несомненный интерес представляет созданная М.Клейн психодинамическая модель, описывающая взаимосвязь агрессивности и тревоги.
Перевод выполнен Еленой Лапидус по изданию: Klein M. Contributions to Psycho-Analysis (1921-1945). - L.: Hogarth Press, The Institute of Psycho-Analysis, 1948, P.278-281. Научная редакция С.Ф.Сироткина.
На русском языке публикуется впервые.
[1] "Early Development of Conscience in the Child" [1933].
[2] "Criminal Tendencies in Normal Children".
М.Клейн
Роль школы в либидинальном развитии ребенка
Это хорошо известный в психоанализе факт[1*], что страх экзаменов, а также сны об экзаменах - это перенесение тревоги с чего-то сексуального на что-то интеллектуальное. Задгер [2*] показал в своей статье «Uber Prufungsangst und Prufungstraume», что страх, связанный с экзаменами, как во сне, так и в реальности, это страх кастрации.
Связь между экзаменационными страхами и торможением в школе очевидна. Я определяю в качестве торможения различные формы и степени неприязни к учению от явного отвращения до того, что проявляется как «лень», которая ни самим ребенком, ни его окружающими может быть не распознана как неприязнь к школе.
В жизни ребенка школа означает, что он столкнулся с новой реальностью, кото-рая часто воспринимается, как очень суровая. Способ, которым он адаптируется к этим новым требованиям, как правило, типичен для его установки к жизненным задачам вообще.
Крайне важная роль школы выражается в том, что школа и обучение, поначалу либидинально детерминированы для каждого, так как школа своими требованиями принуждает ребенка сублимировать его либидинальные инстинктуальные энергии. Сублимация генитальной активности, среди всего прочего, играет решающую роль в изучении различных предметов, которое, соответственно, будет заторможено в следст-вие кастрационного страха.
Начиная обучение в школе, ребенок покидает окружающую среду, которая задала основу его фиксаций и комплексообразований, и сталкивается с новыми объектами и видами деятельности и должен сейчас на них проверить мобильность своего либидо. Однако, кроме всего, это необходимость оставить более или менее пассивную фемининную позицию, которая до сих пор была ему доступна, для того чтобы начать деятельность, ставящую ребенка лицом к лицу с новыми и зачастую непреодолимыми для него задачами.
Сейчас я подробно рассмотрю несколько примеров анализа либидинального значения дороги в школу, самой школы, учителя и различной деятельности в школе.
Тринадцатилетний Феликс вообще не любил школу. Если учитывать его хорошие интеллектуальные способности, явное отсутствие какого-либо интереса было поразительным. Во время анализа он рассказал сон, который приснился, когда ему было одиннадцать лет, незадолго после смерти директора его школы. «Он был на дороге в школу и встретил учительницу фортепиано. Здание школы было в огне, и ветви деревьев по обочинам дороги обгорели, но стволы остались. Он с учительницей музыки прошел через горящее здание школы и вышел невредимым, и т.д.». Полная интерпретация его сна была дана гораздо позже, когда значение школы как матери, а учительницы и директора школы как отца, выяснились из анализа. Вот несколько примеров из этого анализа. Он жаловался, что за все эти годы он так и не научился преодолевать трудность, которая была у него с самого начала, вставать в школе, когда его вызывали. У него это ассоциировалось с тем, что девочки встают по-другому, и демонстрировал разницу с тем, как встают мальчики, движением рук, которое обозначало генитальную область и ясно показывало форму эрегированного пениса. Желание вести себя по отношению к учителю также, как девочки, выражало его фемининное отношение к отцу; торможение, связанное со вставанием, как выяснилось, детерминировано страхом кастрации, который повлиял на все его последующее отношение к школе. Мысль, однажды возникшая у него в школе, что учитель, который стоял перед учениками, прислонившись спиной к парте, мог бы упасть, перевернуть парту, сломать ее и пораниться, продемонстировала значение учителя как отца, а парты как матери [3*] и вывела на его садистическую концепцию коитуса.
Он рассказал, как мальчики шепотом подсказывали и помогали друг другу, делая упражнения по греческому языку, несмотря на надзор учителя. Его последующие замечания привели к фантазии о том, как ему удается занять лучшее место в классе [4*]. Он представлял, как он поймает тех, кто его превосходит, убьет их, и с удивлением обнаружил, что они уже были не его товарищами, как раньше, а врагами. И тогда, после их смещения, он достиг первого места и таким образом приблизился к учителю, и тогда перед ним не было никого, кроме учителя, у которого было лучшее место, чем у мальчика, - но с ним он не мог ничего поделать [5*]
В семилетнем Фрице [6*], чья нелюбовь к школе распространялась и на дорогу в школу, эта неприязнь проявила себя во время анализа, как тревога [7*]. Когда в курсе анализа удовольствие сменило тревогу, он рассказал следующую фантазию: дети через окно забираются в класс к учительнице. Но среди них был мальчик, который был таким толстым, что не мог пролезть в окно и должен был писать и учиться на улице, возле школы. Фриц назвал этого мальчика «Dumpling» и описывал его, как очень смешного. Например, тот не представлял насколько толстым и смешным он был, когда прыгал вокруг, и вызывал такое веселье у своих родителей, братьев и сестер своими ужимками, что братья и сестры выпали со смехом из окна, а родители подпрыгивали на подоконнике от хохота. В конце концов, они уронили, стоявшую на подоконнике вазу, которая треснула, но не разбилась. Смешной, прыгающий «Dumpling» (также зовущийся «Kasperle») оказался символом пениса [8*], проникающего в материнское тело.
Учительница также для него является кастрирующей матерью с пениом, и со своим больным горлом он ассоциировал то, что она пришла, стала душить его поводьями и запрягла, как лошадь.
При анализе девятилетней Греты я услышала о глубоком впечатлении, которое она переживала, когда видела и слышала фургон, заезжавший в школьный двор. В другой раз она рассказала о фургоне с конфетами, ни одну из которых она не рискнула купить, потому что тут же подошла учительница. Она описывала эти конфеты, как какую-то вату, как что-то крайне интересующее ее, но что она не осмеливалась раскрыть. Оба эти фургона были, как оказалось, экранной памятью ее детского наблюдения за коитусом, а неопределенная сахарная вата - семенем.
Грета пела первым голосом в школьном хоре, учительница подходила довольно близко к ней и смотрела прямо в рот. Тогда Грета испытывала непреодолимое желание поцеловать и крепко обнять учительницу. В этом анализе запинки девочки, как выяснилось, могут быть детерминированы либидинальным катексисом говорения, так же как и пения. Повышение и понижение голоса, и движение языка представляют коитус [9*].
Шестилетний Эрнст должен был скоро пойти в школу. В течение часового анализа он играл в каменщика. Во время ассоциирующей фантазии о строительстве дома [10*] [associated house-building phantasy] он прервался и начал говорить о своей будущей профессии: он хотел быть «учеником», а затем поступить в техническую школу. На мое замечание, что это вряд ли будет его окончательной профессией, он сердито ответил, что не хочет придумывать профессию сам, потому что мама может с ним не согласиться и рассердиться. Немного позже, продолжая ассоциирующей фантазии о строительстве дома, он неожиданно спросил: «А это на самом деле начальная или средняя школа (техническая школа)?» (Hofschule or Hochschule).
Эти ассоциации показали, что для него быть учеником значило узнать о коитусе, а получить профессию, значило совершить коитус [11*] . Поэтому в своем строительстве дома (так близко ассоциирующимися у него со школой и «yard» школой) он был всего лишь каменщиком, который просто выполнял распоряжения архитектора и помогал другим каменщикам.
В другом случае он взгромоздил подушки с моего дивана одну на другую и, сидя на них, играл в священника на кафедре, который, однако, в то же время был учителем, окруженным воображаемыми учениками, которые должны были что-то узнать и угадать из его жестов. Во время этого представления он вытягивал оба указательных пальца, затем потирал руки (он утверждал, что это была стирка белья и потирание, чтобы согреться) и постоянно подпрыгивал и опускался на коленях на подушках. Подушки, которые все это время были частью его игр, при анализе предстали как (материнский) пенис, а различные жесты священника символизировали коитус. Священник, который показывает ученикам эти жесты, но не дает объяснения, представляет собой хорошего отца, который рассказывает сыновьям о коитусе или позволяет им присутствовать при нем, как зрителям [12*] .
Я предлагаю примеры из нескольких анализов, чтобы показать, что школьное задание символизирует коитус или мастурбацию. Маленький Фриц перед тем, как пойти в школу, проявлял удовольствие в учении и жажду знаний и научился читать. Однако вскоре у него появилось отвращение к школе и сильная неприязнь ко всем заданиям. Он постоянно фантазировал о «сложных заданиях», которые ему давались в тюрьме. В одном из упомянутых заданий он должен был самостоятельно построить полностью дом за восемь дней [13*]. Однако о школьных заданиях он тоже говорил, как о «сложных заданиях», и однажды сказал, что задание было таким же трудным, как постройка дома. В одной фантазии я тоже была посажена в тюрьму и должна была продемонстрировать трудное задание и построить дом за несколько дней, и исписать книгу за несколько часов.
Феликс испытывал острое торможение по отношению ко всем школьным заданиям. Он, хотя и чувствовал жестокие угрызения совести, оставлял до утра задания невыполненными. Позже он упрекал себя, что не сделал их раньше, но, несмотря на это, снова откладывал их до последнего момента, читая в это время газету. Затем он моментально выполнял задания, хватаясь то за одно, то за другое, ничего не доводя до конца, шел в школу, где спешно списывал с неприятным чувством опасности. Это чувство он описывал так: «Сначала кто-то очень напуган, потом он начинает, и это как-то проходит, а после у него неприятные чувства». О школьных упражнениях он рассказал, что чтобы поскорее от них отделаться, он начинал писать очень быстро и писал все быстрее и быстрее, а затем все медленнее и медленнее и, в конце концов, не мог остановиться. Эти «быстро - быстрее - медленнее и бесконечно» он также упоминал, рассказывая о своих попытках мастурбации, которые начались в это время, как последствие анализа [14*] . Параллельно с возможностью мастурбировать, также улучшились его уроки, а мы повторно получили возможность отделить его установку к мастурбации от его поведения по отношению к школьным урокам и упражнениям [15*]. Феликсу также в основном удавалось списывать уроки с кого-либо, поэтому когда это ему удавалось, он в некоторой степени приобретал союзника против отца и недооценивал значение, а отсюда и вину, своего достижения.
Для Фрица «отлично», поставленное учительницей на его работе, было ценной собственностью. После случая политического убийства он проявлял по началу тревогу. Он говорил, что убийцы могут неожиданно напасть на него, также как они убили уже политика. Они хотели украсть у последнего его медали, а у него они отнимут его похвалу. Медали, как и похвала, а также его рассказ, символизируют для него пенис, потенцию, которые кастрирующая мать (представляющаяся ему в лице учительницы) вернула ему.
Для Фрица, когда он писал, строчки представлялись дорогами, по которым на мотоциклах - на карандаше - ехали буквы. Например, «i» и «e» едут вместе на мотоцикле, обычно вел мотоцикл «i», и они любили друг друга с нежностью, неизвестной в реальном мире. Так как они всегда ездят вместе, они стали так похожи, что с трудом различались; в начале и в конце - он говорил о строчных буквах латинского алфавита - «i» и «e» одинаковые, только в середине «i» - палочка, а у «e» дырочка. Про готические «i» и «e» он говорил, что они тоже едут на мотоцикле, и что единственное различие в том, что у «e» - маленький ящичек вместо отверстия, как у латинской «e». «I» - умелые, выдающиеся, умные, у них много остроконечного оружия, они живут в пещерах, между которыми, однако, есть горы, сады, гавани. Они представляют собой пенис, а их тропинка коитус. С другой стороны «I» выступают как глупые, неуклюжие, ленивые и грязные. Они живут под землей в пещерах. В городе «L» грязь и бумага скапливаются на улице, в маленьких «грязных» домиках они смешивают воду с красителем, купленном в стране «I», и пьют и продают это как вино. Они не могут, как следует, ходить и копать, потому что держат лопату вниз головой и т.д. Становится очевидным, что «I» символизируют испражнения. Многочисленные фантазии также были связаны с другими буквами [16*].
Так, вместо двойного «s» он всегда писал одну, пока фантазия не помогла найти объяснение и решение этому торможению. Одной «s» был он сам, другой его отец. Они ехали вместе на моторной лодке, при этом ручка была лодкой, а тетрадь озером. «S», которой был он сам, села в лодку, принадлежащую другой «s» и быстро уплыла по озеру. Поэтому он не писал две «s» вместе. Его частое употребление обычной «s» вместо долгой должно быть объяснено тем, что потерянная «s» была им, как «если бы вычесть одного человека». Эта ошибка детерминировалась кастрационными желаниеми в отношении его отца и исчезла после ее интерпретации.
Вскоре после начала учебы, которую он с радостью ожидал, шестилетний Эрнст проявил заметную нелюбовь к учебе. Он рассказал мне о букве «i», которую они сейчас проходили, и которая представляла для него трудность. Я также узнала, что учитель ударил мальчика постарше, который должен был показать на доске, как пишется буква «i», потому что тот сделал это недостаточно хорошо. В другом случае он пожаловался, что «уроки слишком тяжелы», потому что он должен был писать палочки вверх и вниз на письме, что на арифметике он рисовал маленькие скамеечки и что он должен был писать палочки, как того требовал учитель, все это время наблюдавший за ним. После этого рассказа он проявил заметную агрессивность; он схватил подушки с дивана и швырнул их в другой конец комнаты. Затем он перелистнул страницу в книге и показал мне «ложу «I»». Ложа (в театре) была чем-то «где кто-то был один внутри» - большая «I» - одна внутри, вокруг нее маленькие черные буквы, напоминавшие ему испражнения. Большая «I» - это большой «popochen» (пенис), который хочет быть один внутри мамы, и которого у него нет, и который, тем ни менее, он должен отнять у папы. Затем он представил, что отрезает папин popochen ножом, что папа сам отпиливает его пилой, но в результате все-таки у него оказался папин popochen. Затем он отрезал папину голову, после этого последний ничего не мог ему сделать, т.к. не мог видеть, но все-таки глаза на голове видели его. Затем он неожиданно с деловым видом попытался почитать и проявил при этом большое удовольствие - сопротивление было преодолено. Он сложил подушки и объяснил, что они тоже сделали "вверх и вниз", путешествуя с дивана до другого угла комнаты и обратно. Чтобы иметь возможность совершить коитус, он достал пенис (подушки) из мамы.
Семнадцатилетняя Лиза в своих ассоциациях рассказала, что не любила букву «i». Это был бестолковый прыгающий маленький мальчишка, который всегда смеялся и которой не был ни на что пригоден, и она разозлилась на него по непонятной ей причине. Она выделяла букву «a» как серьезную и важную, та впечатляла ее, и ассоциации привели к ясному имаго отца, чье имя также начиналось с буквы «a». Затем, однако, она подумала, что «a», пожалуй, слишком серьезная и важная и ей следовало бы взять кое-что у прыгающей «i». «A» была кастрированным, но все равно неуступчивым отцом, «i» - пенисом.
Для Фрица точка у «i», как и вообще точка, а вернее черточка, были толчком пениса [17*]. Как-то он сказал мне, что на точку нужно сильно нажать, при этом он поднял и напряг таз и повторил это, когда писал палочку. Девятилетняя Грета ассоциировала с закруглением буквы «u», где, говорила она, мочился мальчик. У нее было особое предпочтение рисовать красивые завитки, которые в этом случае являлись частями мужских гениталий - по этой же причине Лиза везде избегала завитков. Грета обожала свою подругу, которая могла держать ручку как взрослые, вытянутую между вторым и третьим пальцами, а также могла рисовать изгиб «u» в обратном направлении.
В случае с Эрнстом, так же как и с Фрицем, я могла наблюдать, что торможение письма и чтения, которые являются основой дальнейшей школьной деятельности, происходит из-за буквы «i», которая со своими простыми "вверх и вниз" является основой всего письма [18*].
В этих примерах очевидно сексуально-символическое значение ручки, и становятся более ясными фантазии Фрица, для которого буквы ехали на мотоцикле (перо). Можно проследить, как сексуально-символическое значение ручки сливается с процессом письма, когда последний разгружается. Таким же образом может быть определена либидинальная значимость чтения из символического катексиса книги и глаза. Здесь также присутствуют другие определяющие факторы, разрешенные компонентами инстинкта, такие как «подглядывание» при чтении и эксгибиционистские, агрессивные садистические тенденции при письме; в глубине сексуально-символического значения ручки, возможно, лежит первоначально значение оружия и руки. Согласно этому, из двух видов деятельности чтение более пассивно, письмо более активно, а что касается торможения того или другого, также значимы различные фиксации на прегенитальных ступенях организации.
Для Фрица цифра «1» это джентльмен, который живет в жаркой стране и поэтому голый - только в дождливую погоду одетый в плащ. Он умеет ездить и водить очень умело, у него пять кинжалов, он очень смелый и т.д., а его сходство с «главный Pipi» (пенис)[19*] легко угадывается. Цифры для Фрица - это люди, которые живут в очень жаркой стране. Они соответствуют расам, хотя буквы белые. Для Эрнста «вверх и вниз» у «1» то же самое, что и у «i». Лиза рассказала мне, что делала «только маленький штрих» вместо наклонной палочки у «1», действие опять же определяемое кастрационным комплексом. Таким образом, пенис символически представляется цифрой «1», и это формирует основу счета и арифметики. На примерах анализа детей я неоднократно наблюдала, что значение числа «10» определяется количеством пальцев на руках, однако бессознательно пальцы ассоциируются с пенисом, так что число «10» черпало свою эмоциональную окраску из этого источника. Отсюда также были развиты фантазии о 10-тикратном коитусе или 10 толчках пениса, которые были необходимы, чтобы зачать ребенка. Неоднократно демонстрируемое значение числа «5» [20*] было аналогичным. Абрахам указал, что символическое значение цифры «3» из Эдипова комплекса - определяемое именно родственными связями между отцом, матерью и ребенком - более значительно, чем частое использование «3» для обозначения мужских гениталий [21*]. Я приведу только один пример.
Лиза считала число «3» непереносимым, потому что «третий всегда лишний» и «двое могут бегать друг с другом» - целью был флажок - а третьему там делать нечего. Лиза, которая имела вкус к математике, но была очень заторможена, когда касалось упомянутого, сказала мне, что она отлично понимает идею прибавления; она смогла уловить, «что «1» присоединяется к другой, когда они одинаковые», но как их можно складывать, когда они разные? Эта идея обусловлена ее кастрационным комплексом, и касается различия между мужскими и женскими гениталиями. Идея «сложения» определяется для нее родительским коитусом. С другой стороны, она прекрасно понимала, что в умножении использовались разные вещи, и тогда также результат был другим. «Результатом» был ребенок. Когда дело касалось ее, она могла признать только мужские гениталии, а женские оставляла для сестер.
На сеанс анализа Эрнст принес коробку цветных стеклянных шариков, разложил их по цветам и начал производить с ними сложение [22*]. Он хотел узнать, насколько ««1» меньше «2»», и сначала попробовал на шариках, а потом на пальцах. Он объяснял мне, разгибая один палец, при этом второй был частично разогнут, что если убрать один палец, тогда конечно останется «0», но при этом все-таки «останется еще один» (полусогнутый палец), «который можно убрать». Затем, разгибая пальцы, он показал мне, что 2 и 1 равно три, и сказал: «Один - это мой popochen, остальное - мамин и папин popochen, которые тоже дадут мне. Сейчас мама забирает два popochen у детей, а я забираю их обратно, - теперь у меня пять!»
Во время сеанса анализа Эрнст нарисовал на листе бумаги «двойные линии» и сказал, что, как говорит его учитель, лучше писать между двойными линиями. Он так думал, потому что две линии четко ассоциировались с двумя popochen, которыми он завладел подобным образом. Затем двойные линии он разделил вертикальными черточками на «двойные клеточки» и сказал: «но при сложении очень неудобно иметь двойные клеточки, потому что они становятся меньше и тогда сложнее вписывать в них цифры». Он показал мне, что имел в виду и написал «1+1=2» в маленьких клеточках. Первая клеточка, в которой он написал «1», была больше остальных. Потом он сказал: «У следующего будет клеточка поменьше». «Это мамин popochen, - добавил он, - а это (показывая на первую «1») папин popochen, а между ними «и» (+) - это я!». Далее он мне объяснил, что горизонтальная черточка у + (которая была очень маленькой) вообще к нему не относилась, он и его popochen были вертикальной черточкой. Сложение для него тоже являлось родительским коитусом.
В другом случае он начал сеанс с вопроса сможет ли он сосчитать, «сколько будет «10+10» или «10-10»». (Страх кастрации, относящийся к числу «1» переносится на число «10»). Он убеждал себя, что в его распоряжении «10 пенисов» (пальцев). В связи с его вопросом, он постарался написать на листе бумаги самое большое возможное число, которое я должна была решить. Далее он объяснил, что ряд цифр, чередующихся с нулями - (100010001000) - был «gegentorische» (gegen = против, tor=ворота) вид арифметики. Он объяснил это следующим образом: Когда-то был город (о нем он уже фантазировал), в котором было много ворот, потому что все окна и все отверстия назывались воротами. В этом городе было много железнодорожных линий??. Он затем показал мне, что когда он встал в углу комнаты, ряд постепенно уменьшающихся кругов, протянувшихся от противоположной стены, привел к нему. Эти круги он называл «воротами», ряд цифр «1» и «0», которые он писал на бумаге, происходили от них. Он объяснил мне, что можно две «1» поставить друг напротив друга. В результат, представляющий печатную букву «М», он вписал другой кружочек и объяснил «это другие ворота». «1», чередующиеся с нулями, символизировали пенис («напротив ворот»). «0» была вагина - было несколько кругов, т.к. в теле также несколько отверстий (много ворот).
Когда он объяснил мне «gegentorische» арифметику, он взял кольцо для ключа, которое оказалось под рукой, просунул через него шпильку для волос и сказал, что «наконец-то шпилька внутри», но проделывая это «кольцо должно быть разделенным пополам и расщепленным», что снова наводит на мысль о садистическом представлении о коитусе. Более того, он объяснил, что кольцо, которое напоминало «0», на самом деле было прямым, но потом согнутым по кругу. Здесь также очевидно влияние его идеи о материнском пенисе в вагине, которую он разорвал или повредил во время коитуса [23*]. Во время анализа проявилась определенная агрессивность как в связи с этим, а также и в связи с предыдущими арифметическими фантазиями. Он, как обычно, скинул подушки с моего дивана, прыгал на них, затем на диване - как часто при его анализах, это представляло собой кастрацию матери с последующим коитусом с ней. Сразу же после этого он начал рисовать.
Фриц испытывал заметное торможение при выполнении примеров на деление, все объяснения были безрезультатны, т.к. он хорошо понимал их, но считал не правильно. Однажды он сказал мне, что при делении он должен опустить нужную цифру, и он карабкался вверх, хватал ее рукой и сталкивал вниз. На мой вопрос, что она ему на это говорит, он ответил, что для некоторых это, конечно, неприятно - как если бы его мама стояла на камне высотой 13 ярдов, и кто-то пришел и схватил ее за руку так, что оторвал бы ее и разделил маму. Однако, незадолго до этого он фантазировал о женщине из цирка, которая была разрезана на куски, а потом несмотря на это, ожила, и спрашивал меня, неужели это возможно. Затем он рассказал (также в связи с предыдущей описанной в деталях фантазией), что каждый ребенок хочет иметь кое-что от мамы, которая должна быть разрезана на четыре куска; он подробно описал, как бы она кричала, и как рот ее был набит бумагой, чтобы она не кричала, и как искажалось ее лицо, и т.д. Ребенок взял очень острый нож, и он описал, как она была разрезана: сначала по всей ширине груди, живота, затем вдоль так, что «pipi» (пенис), лицо и голова были разрезаны как раз посередине, после чего из головы был удален «разум» [24*]. После этого голова была разрезана косо, а «pipi» по ширине. Между тем, он постоянно бил себя по руке и сказал, что бьет свою сестру от радости и, конечно, от любви. Он продолжал, что после этого каждый ребенок брал кусок матери, который ему нравился, а затем разрезанная мать также съедалась. Также выяснилось, что он путал остаток с частным, и писал их всегда не там, потому что в его уме это были кровоточащие куски плоти, с которыми он бессознательно имел дело. Эти объяснения полностью ликвидировали его торможения при делении [25*].
Вспоминая школу, Лиза пожаловалась на то, как бессмысленно было со стороны учительницы давать таким маленьким детям примеры с такими большими числами. Для нее всегда было трудным делить довольно большие числа на меньшие, но тоже большие, и это было особенно трудно, если делить приходилось с остатком. С этим она ассоциировала лошадь, ужасное животное с покалеченным висящим языком, обрезанными ушами и т.д., которое хотело перескочить через ограду, мысль, вызывавшая у нее наиболее жестокое сопротивление. Дальнейшие мысли вели к ее детским воспоминаниям, старой части ее родного города, где она что-то покупала в магазине. Она придумала, что купила там апельсин и свечу, и неожиданно подумала, что чувство отвращения и ужаса от лошади уступило место приятному и спокойному чувству. Она сама опознала свечу и апельсин как мужской, а отвратительно изуродованную лошадь как женский орган. Деление больших чисел на меньшие был коитусом, который она должна была осуществить с матерью безрезультатным (импотентным) способом.
Деление в этом случае оказывается разделение, фактически коитусом на садистически-каннибалистической стадии организации.
Что касается уравнений, я узнала, что Лиза никогда их не понимала, кроме уравнений с одним неизвестным [26*]. Для нее было вполне понятно, что сто пфеннингов значили столько же, сколько одна марка, в этом случае одно неизвестное легко находилось. С «двумя неизвестными» у нее ассоциировались два стакана с водой, стоящие на столе, с которого она брала один и швыряла на землю - потом лошадь среди облаков и тумана. «Второе неизвестное» представляло собой огромный второй пенис, от которого она в своих детских представлениях о родительском коитусе хотела избавиться, т.к. она хотела иметь и отцовский и материнский, и тем ни менее убрать один из них. Опять же второе неизвестное также означало сперму, которая была девочке неизвестна, тогда как о первом неизвестном, т.е. об испражнениях = пенис, она знала [27*].
Следовательно, счет и арифметика на самом деле имеют генитальный символический катексис; как компонент инстинктуальных видов деятельности мы рассматриваем анальные, садистические и каннибалистические тенденции, которые достигают сублимации подобным образом и скоординированы под приматом гениталий. Для этой сублимации особую важность имеет страх кастрации. Тенденция преодолевать его - маскулинный протест - это формирование одного из источников, к которому восходит счет и арифметика. Затем он также становится - степень его важности как фактора - источником торможения.
Для определения либидинального значения грамматики я сошлюсь на несколько примеров, которые я приводила в главе «Анализ ребенка». В примере с анализом предложения Грета говорила об актуальном членении предложения и разрезании жаренного кролика [28*]. Жаренный кролик, которого ей так нравилось есть, но к которому она почувствовала отвращение, когда из него вытек сок, символизирует материнскую грудь и гениталии.
Из анализа Лизы я узнала, что изучая историю, человек должен перенестись в то, что «люди делали в прежние времена». Для нее это было изучением отношений родителей друг к другу и к ребенку, в чем, конечно, детские фантазии о битвах, кровопролитиях и т.д., согласно садистическому представлению о коитусе, также играли важную роль.
В главе «Анализ ребенка» я сделала подробные разработки в либидинальном определении географии. В ней я также показала, в связи с подавляемым интересом к материнскому лону - основа нарушения чувства ориентации - интерес к естественным наукам также часто тормозится.
Например, в случае с Феликсом я обнаружила, что главная причина его торможения в рисовании было следующее: он не мог представить, как делается набросок, рисуется план, вообще не представлял, как основание дома располагается в земле, рисование для него было созданием изображаемого объекта, а отсутствие способности к рисованию - импотенцией. Я уже отмечала значение рисунка как ребенка или пениса. При анализе детей неоднократно может быть продемонстрировано, что за рисованием, раскрашиванием, фотографией лежит гораздо более глубокая Ucs деятельность: в бессознательном это зачатие и порождение изображаемого объекта. На анальной ступени организации это означает сублимированное производство фекальных масс, на генитальной ступени организации - производство ребенка, а в действительности порождение чего-либо посредством неадекватного моторного усилия. Хотя это относилось к более высокой ступени развития, ребенок все таки усматривает в рисовании «магический жест» [29*] , которым он может осуществить всемогущество своей мысли. Рисование, однако, включает в себя также деструктивные подавляемые [depreciatory] тенденции [30*]. Я приведу пример: Эрнст рисовал [31*] круги, обводя табакерку (которая в его играх неоднократно оказывалась символом материнских гениталий) так, что круги частично перекрывали друг друга, и в конце концов он так закрасил рисунок, что посредине остался овал, внутри которого он опять нарисовал кружочек. Таким образом, он нарисовал «мамин poposchen меньше» (овал вместо круга) - когда он имел больше.
Феликс часто мне жаловался, что физика для него была непонятна. В качестве примера он упомянул, что не мог понять, как распространяется звук. Он только мог понять, как гвоздь входит в стену. В другой раз он говорил о воздухонепроницаемом пространстве и сказал, что если кто-то входит в воздухонепроницаемую комнату, то немного воздуха все равно должно туда попасть. Это опять же может быть определено как представление о коитусе, а воздух представляет собой сперму.
Я попыталась показать, что основные виды деятельности, существующие в школе, это каналы для потока либидо, и что посредством этого составляющие инстинктов достигают сублимации под властью гениталий. Либидинальный катексис, однако, переносится с более элементарных предметов - чтения, письма, арифметики - на более широкие интересы, на них основанные, таким образом, основы позднейших торможений, в том числе, и также дополнительно, должны находиться в частных очевидных проявлениях, которые связаны с самыми ранними занятиями. Торможения в этих занятиях, однако, строится на игровых торможениях, так что в конце концов мы можем наблюдать все поздние торможения, имеющие значения для жизни и развития, идущие из ранних торможений в игре. В главе "Анализ ребенка" я показала, что начиная с того момента, когда пред-условия способности к сублимации задаются либидинальными фиксациями, на самых первичных сублимациях, - которые, я полагаю, должны быть речью и удовольствием от движения, - постоянно продолжающееся эго-деятельности и интересы достигают либидинального катексиса приобретением сексуального символического значения так, что постоянно существуют новые сублимации на различных ступенях. Механизм торможения, который я детально описывала в выше упомянутой работе, допускает благодаря общему сексуально символическому значению, развитие торможения от одной эго-деятельности к другой. С момента исчезновения самых ранних торможений, что означает избегание их в дальнейшем, нужно придавать большее значение торможениям ребенка дошкольного возраста, даже если они не очень заметны.
В упомянутой работе я попыталась показать, что кастрационный страх является общей основой для этих ранних и всех последующих торможений. Кастрационный страх сталкивается с эго-деятельностью и интересами, потому что, кроме либидинальных детерминантов, имеет в основе генитальную символику, т.е. обозначает коитус.
Хорошо известно, как важен чреватый своими последствиями кастрационный комплекс для формирования неврозов. В своей работе "К введению нарциссизма" Фрейд устанавливает значение кастрационного комплекса для формирования характера, и неоднократно возвращается к этому в работе «К истории детского невроза» [32*].
Мы должны отнести установление всех торможений, которые влияют на обучение и дальнейшее развитие, ко времени первого расцвета детской сексуальности, который под давлением эдипова комплекса дает сильнейший толчок к возникновению кастрационного страха, т.е. к раннему периоду между тремя и четырьмя годами. Последующее подавление активных мужских компонентов - как в мальчиках, так и в девочках - вот, что обеспечивает основу для торможений в обучении.
Вклад женского компонента в сублимацию - это всегда будут восприимчивость и понимание, которые являются важной частью всех видов деятельности, однако ведущая исполнительная часть, которая определяет характер любого вида деятельности, берет начало в сублимации мужской потенции. Женское отношение к отцу, которое связано с поклонением и признанием отцовского пениса и его достижений, становится посредством сублимации основой понимания творческих достижений вообще. При анализах мальчиков и девочек я неоднократно имела возможность убедиться, каким важным могло быть подавление женского отношения через кастрационный комплекс. Как существенная часть любой деятельности, это подавление сильно влияет на торможение в любом виде деятельности. Также при анализе пациентов обоих полов можно было наблюдать, что после того, как кастрационный комплекс начинал ими осознаваться, а женская установка проявлялась свободнее, резко начинали возрастать творческие и другие интересы. Например, при анализе Феликса, когда после преодоления части его кастрационного страха, женская установка к отцу стала очевидной, открылся музыкальный талант, проявившийся в восторге и признании дирижера и композитора. Только с ростом деятельности развилось более жесткое критическое свойство сравнивать со своими собственными способностями, а затем и попытки имитировать достижения других.
Наблюдение, что успеваемость девочек в школе выше, чем у мальчиков, часто подтверждается, но, с другой стороны, в дальнейшем их достижения уже совсем не те, что у мужчин. Далее я вкратце укажу несколько факторов, которые, по-моему, определяют это явление. Часть торможений - а это более важно для дальнейшего развития - идущая от подавления генитальной активности, прямо влияет на эго-активность и интерес как таковой. Другая же часть торможений является результатом отношений с учителем.
Таким образом, мальчик вдвойне отягощен в своем отношении к школе и учению. Все эти сублимации, происходящие от генитальных желаний, направленные на мать, вызывают сознание вины по отношению к учителю. Уроки, попытки учиться, которые в бессознательном обозначают коитус, заставляют мальчика относиться к учителю как к мстителю. Таким образом, сознательное желание [33*] удовлетворить учителя своими стараниями сталкивается с бессознательным страхом сделать это, что ведет к неразрешимому конфликту, который определяет неотъемлемую часть торможения. Этот конфликт становится менее интенсивным, когда старания мальчика выходят из-под контроля учителя, и мальчик может действовать в жизни более свободно. Тем не менее, возможность более широких видов деятельности, в большей степени присутствует только там, где кастрационный страх повлиял не на сами виды деятельности и интересы, сколько на отношение к учителю. Таким образом, можно видеть неприлежных учеников, достигающих значительных высот в дальнейшей жизни. Тем не менее, для остальных, чьи интересы в себе были заторможены, их неудачи в школе остались прототипом для их более поздних достижений.
В девочках торможение обязано своим происхождением кастрационному комплексу и влияет на всю деятельность и имеет особую важность. Отношение к учителю мужского пола, которое может быть так обременительно для мальчика, действует на девочку, если ее способности не слишком подавлены, как побуждение. В позиции девочки к учительнице тревожное отношение, происходящее от эдипова комплекса, является, в основном, уже не настолько сильным, как у мальчика. То, что ее достижения в жизни обычно отстают от мужских достижений, объясняется тем, что в основном она использует меньше мужской активности в сублимации.
Эти сходства и различия, так же как и рассмотрение некоторых других факторов, требуют более подробного обсуждения. Однако, здесь мне придется удовлетвориться коротким и недостаточным описанием, которое выражает мое представление чем-то слишком схематичным. В этих рамках невозможно представить даже части многочисленных теоретических и педагогических следствий, полученных на указанном здесь материале. Я только кратко коснусь самого важного.
В том, что уже было сказано, мы рассматриваем роль школы в целом как пассивную; это и есть критерий для сексуального развития, которое уже более или менее успешно достигнуто. В чем же тогда проявляется активная роль школы? Может ли она дать что-нибудь необходимое для либидинального и общего развития? Это очевидно, что понимающий учитель, который учитывает все комплексы ребенка, уменьшит его торможение и достигнет больше хороших результатов, чем непонимающий или даже жестокий учитель, который с самого начала будет олицетворять для ребенка кастрирующего отца. С другой стороны, в нескольких анализах я обнаружила, что даже в лучших школьных условиях встречаются очень сильные торможения в обучении, пока за необдуманным поведением учителя всегда следуют торможения.
Я кратко подведу итог моим представлениям о роли учителя в развитии ребенка. Учитель может многого достигнуть, благодаря сочувственному пониманию, т.к. таким образом он может ослабить ту часть торможений, которая заставляет воспринимать личность учителя как «мстителя». В то же время, умный и добрый учитель представляет гомосексуальный компонент для мальчика и мужской компонент для девочки, объект проявления их генитальной активности в сублимированной форме, в которой, как я предполагаю, мы можем распознать различные виды учебной деятельности. Таким образом, если следовать этим указаниям, вероятность вреда, который может быть результатом педагогически неправильного или даже грубого поведения учителя, можно избежать. Тем ни менее там, где подавление генитальной активности повлияло на сами занятия и интересы, отношения учителя, возможно, могут ослабить (или усилить) внутренний конфликт ребенка, но не повлияют на что-либо существенное, что включает его достижения. Но даже возможность хорошего учителя, ослабляющего конфликт, очень незначительна, т.к. ограничения устанавливаются комплексообразованиями ребенка, а, именно, отношением ребенка к отцу, что заранее определяет отношение к школе и учителю.
Тем ни менее, это объясняет, почему там, где затрагиваются более сильные торможения, результаты даже многолетнего педагогического труда не имеют связи с затраченными усилиями, в то время как в анализе эти торможения устраняются в сравнительно короткое время и замещаются полным удовольствием от учения. Таким образом, самым лучшим было бы обернуть этот процесс; прежде всего, ранний анализ мог бы устранить торможения, присутствующие в большей или меньшей степени в каждом ребенке, и работу в школе следует начинать на этой основе. Когда школе не придется больше растрачивать свои силы в удручающих атаках на детские комплексы, она будет способна достигнуть плодотворной работы, значимой для развития ребенка.
© Е. Лапидус. Перевод, 1998.
© С.Ф.Сироткин. Научная редакция, 1998
Примечания
Перевод выполнен Еленой Лапидус по изданию: Klein M. Contributions to Psycho-Analysis (1921-1945). - L.: Hogarth Press, The Institute of Psycho-Analysis, 1948, P.68-86. Научная редакция С.Ф.Сироткина.
На русском языке публикуется впервые.
[1*] см. W.Stekel, Conditions of Nervous Anxiety and their Treatment (London & New York, 1923); S.Freud, The Interpretations of Dreams (London, 1913).
[2*]. I.Z.P.A., 1920, VI.
[3*] Материнская символика кафедры, а также парты, грифельной доски и всего, на чем можно писать, также как пенисное значение ручки, грифеля, мела и всего, чем можно писать, стали для меня настолько очевидными в этом и других анализах и постоянно подтверждались, что я считаю их типичными. Сексуальное символическое значение этих предметов было продемонстрировано при анализе других независимых друг от друга случаев. Задгер в своей статье «Uber Prufungsangst und Prufungstraume» пока-зал сексуально символическое значение парты, грифельной доски и мела в случае начинающейся paranoid dementia. Jokl в «Zur Psychogenese des Schreibkrampfes» (I.Z.P.A., 1922, vol. viii) также показал символическое сексуальное значение ручки в случае судороги при письме.
[4*] В его школе дети были рассажены в зависимости от того, как они учились. Его «ответу», которому, по его мнению, мать придаст меньшее значение, чем его месту в классе, значило для него, как и для Фрица (см. ниже), потенцию, пенис, ребенка; для него место в классе - место в его матери, возможность коитуса с ней.
[5*] Учитель в данном случае является объектом гомосексуального влечения. Но мотив, который всегда важен в генезисе гомосескуальности стал очевидным, именно, потому, что гомосексуальное влечение было усилено подавляемым желанием добиться коитуса с матерью, несмотря на отца, и, в данном случае, - достичь первого места в классе. Точно также, желание говорить с кафедры после вытеснения учителя или отца в пассивную роль слушателя, влечение к матери так же активно, так как кафедра, как и парта, имеют для него значение матери.
[6*] см. часть 1 "The Development of a Child".
[7*] В этой статье я более подробно описала, как в фантазиях Фрица о материнском лоне, зачатии и рождении скрывалось наиболее интенсивное, сильно подавляемое желание попасть в лоно матери посредством коитуса. Ференци выдвинул предположение в своей работе «Таласса», The Psycho-Analytic Quarterly Inkorporated (New York, 1938), что в бессознательном возвращение к материнскому телу кажется возможным только благодаря коитусу, а также выдвинул гипотезу, которая устанавливает происхождение этих периодически проявляющихся фантазий от филогенетического эволюционного процесса.
[8*] см. Jones, "The Theory of Simbolism", Papers on Psycho-Analysis.
[9*] см. "Infant Analysis".
[10*] Строительство дома представляло собой коитус и порождение ребенка.
[11*] Это бессознательное значение профессии типично. Это постоянно демонстрируется в анализах и несомненно влияет на трудности в выборе профессии.
[12*] Мальчик несколько лет делил спальню с родителями, и эта и другие фантазии могут происходит из его ранних детских наблюдений за коитусом.
[13*]См. значение строительства дома для Эрнста и Феликса.
[14*] Вследствие медицинского неоперационного действия с его пенисом, которое он перенес в трехлетнем возрасте, он впоследствии мастурбировал только с сильными угрызениями совести. Когда это вмешательство повторилось в десятилетнем возрасте, он полностью оставил мастурбацию, но страдал от тревоги перед прикосновением.
[15*] Он неоднократно упускал заключительную фразу школьного упражнения, в другом случае он забыл что-то в середине упражнения. Когда в том наметилось улучшение, он сжал целый урок к наименее возможному объему, и т.д.
[16*] см. "Infant Analysis".
[17*] Для маленькой Греты также точка и запятая определялись подобным образом. См. «Infant Analysis».
[18*] На встрече в Берлинском П.А. обществе господин Rohr подробно рассказал о китайском шрифте и его интерпретации на основе психоанализа. В последующей дискуссии я указала, что более ранняя пиктография, которая лежит в основе нашего шрифта, тоже до сих пор активна в фантазиях каждого ребенка, так что различные палочки, точки и т.д. нашего современного шрифта были бы только упрощением, достигнутым в результате сгущения, смещения и др. механизмов, известных нам по нашим снам и неврозам, древних картин, чьи следы могут проявиться в индивиде.
[19*] см. "Infant Analysis".
[20*] Я бы отметила, что для римской системы цифр числа «I», «V», «X» являются основными, остальные от «I» до «X» являются просто их производными. «V» и «X», однако, также составлены из прямых черточек цифры «I».
[21*] см. Abraham K. Der "Dreiweg" in der Odipus-Sage // Imago, 1923, IX, H.1, S.122-126.
[22*] Это ясно показывает анальную основу арифметики. Кастрационный страх, относящийся к пенису, был подготовлен выделениями фекальных масс, которые на самом деле переживались, как «примитивная кастрация». См. Фрейд, «О превращениях влечений, в особенности анальной эротики». Собрание трудов, т. II.
[23*] см. Boehm, "Beitrag zur Psychologie der Homosexualitat", I.Z.P.A., 1922, VIII.
[24*] «Разум» - это пенис.
[25*]На следующий день в школе, к удивлению его учительницы, это обернулось тем, что он смог сделать все вычисления правильно. (Ребенок не осознал связи между толкованием и исчезновением его торможения).
[26*] Эти ассоциации были связаны со сном. Она должна была разрешить проблему: «2х=48; чему равен х?»
[27*] См. также толкование "неизвестного" в работе Задгера «Uber Prufungsangst und Prufungstraume».
[28*] В той работе я также приводила доказательства тому, что оральные, анальные и каннибалистические тенденции достигают сублимации в речи.
[29*] см. Ferenczi S. Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes (1913) // Ferenczi S. Bausteine zur Psychoanalyse. Band 1. Theorie. - Leipzig-Wien-Zurich: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1927, S.62 - 83.
[30*]В основе карикатуры не только осмеяние, но и актуальная неблагоприятная метаморфоза представленного объекта.
[31*] Как я утверждала это рисование было связано с заметной агрессивностью, возникающей как избавление от кастрационного страха, который лежал в основе трудностей с арифметикой.
[32*] Собрание сочинений, Т.III. В своей работе «Кастрационный комплекс и формирование характера» Александер показал влияние кастрационного комплекса на формирование характера на примере анализа взрослого. В неопубликованной работе «Die infantile Angst und ihre Bedeutung fur die Entwicklung der Personlichkeit», которую я привожу в связи с работой д-ра Александера, я попыталась продемонстрировать это на примере анализа детей, и указала значение кастрационного страха на торможения в спорте, играх, учебе, а также торможения личности в целом.
[33*] В бессознательном это желание соответствует стремлению превзойти отца, отдалить его от матери, или гомосексуальному желанию завоевать отца своими стараниями, победить его, действуя как пассивный объект любви.
МОСКОВСКАЯ СЕКЦИЯ КЛЯЙНИАНСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА. ПЕРЕВОДЫ
в начало · гостевая книга · переводы · полезные ссылки · новости · e-mail
МЕЛАНИ КЛЯЙН
Психоаналитическая игровая техника:
ее история и значение
(1955)
То, что предлагаемая вашему вниманию статья в основном посвящена игровой техника, объясняется соображением, что моя работа с детьми и взрослыми и мой вклад в психоаналитическую теорию в целом в конечном счете основаны на игровой технике, созданной в результате работы с маленькими детьми. Это не означает, что вся моя дальнейшая работа была прямым приложением игровой техники, но достигнутое мной понимание раннего развития, бессознательных процессов и природы интерпретаций, которые могут дать доступ к бессознательному, оказало далеко идущее влияние на мою работу с более старшими детьми и взрослыми пациентами.
Я собираюсь, таким образом, кратко описать шаги, которыми развивалась моя работа из психоаналитической игровой техники, но не буду пытаться дать полный обзор моих открытий. В 1919 году, когда я начала работу над первым случаем, психоаналитическая работа с детьми уже велась, в частности, доктором Hug-Hellmuth (1921). Однако, она не проводила психоанализ детей до шести лет и, хотя она и использовала рисование и случайные игры в качестве материала, она не развила это в специальную технику.
В то время, когда я начала работу, установился принцип, согласно которому интерпретации следует делать очень бережно. За небольшими исключениями психоаналитики не исследовали более глубокие слои бессознательного - у детей такое исследование считалось потенциально опасным. Этот осторожны подход нашел свое отражение в том, что и тогда, и многие годы с тех пор, психоанализ считался применимым только к детям начиная с латентного периода.
Моим первым пациентом был пятилетний мальчик. Я называла его "Фриц" в моих самых ранних статьях. Вначале я думала, что будет достаточным повлиять на поведение матери. Я говорила, что ей следует поощрять ребенка обсуждать с ней более свободно многие невысказанные вопросы, которые, очевидно, были у него на уме и препятствовали его интеллектуальному развитию. Это дало хороший эффект, но удовлетворительного облегчения невротических симптомов не произошло, и вскоре было решено, что я буду анализировать его. Начав анализ, я отошла от некоторых установившихся правил, поскольку я интерпретировала то, что считала наиболее срочным в материале, представленном мне ребенком, и сконцентрировал свой интерес на его тревогах и защитах против них. При этом я столкнулась с серьезными проблемами. Тревоги во время анализа этого первого случая были очень сильные, и, хотя я черпала силы в вера, что я веду работу в правильном направлении, когда наблюдала облегчение тревоги вновь и вновь под действием моих интерпретаций, временами интенсивность свежей тревоги, которая обнаруживалась , приводила меня в смятение. В одном их таких случаев я обратилась за советом к доктору Карлу Абрахаму. Он ответил, что, т.к. мои интерпретации до сих пор часто давали облегчение, и анализ, очевидно, имел прогресс, он не видит оснований для изменения подхода. Я почувствовала себя ободренной его поддержкой, и так произошло, что в последующие несколько дней тревога ребенка, которая достигла критической стадии, значительно уменьшилась, приведя к дальнейшему улучшению. Убежденность, которой я достигла в этом анализе, сильно повлияла на весь ход моей аналитической работы.
Лечение проводилось в доме ребенка с его собственными игрушками. Этот анализ был началом психоаналитической игровой техники, поскольку с самого начала ребенок выражал свои фантазии и тревоги главным образом в игре, и я постоянно интерпретировала ему их значение, в результате чего в игре возникал дополнительный материал. Т.е., я с этим пациентом, по существу, уже использовала метод интерпретирования, который стал характерной чертой моей техники. Этот подход аналогичен фундаментальному принципу психоанализа - принципу свободных ассоциаций. Интерпретируя не только слова ребенка, но также его действия с игрушками, я применила этот базовый принцип к мышлению ребенка, чьи игры и разнообразная деятельность - фактически, его поведение в целом. - являются средством выражения того, что взрослые выражают преимущественно словами. Я также руководствовалась двумя другими принципами психоанализа, установленными Фрейдом, которые я с самого начала рассматривала как фундаментальные: что исследование бессознательного есть основная задача психоаналитической процедуры, и что анализ переноса есть средство достижения этой цели.
Между 1920 и 1923 годами я приобрела дальнейший опыт анализа детей, но определенным шагом в развитии игровой техники стало лечение девочки в возрасте двух лет и девяти месяцев, которую я анализировала в 1923 году. Я проводили детали этого случая под именем "Рита" в моей книге "Детский психоанализ". Рита страдала от ночных кошмаров и фобии животных, была очень амбивалентна по отношению к матери, в тоже время цеплялась за нее в такой степени, что ее с трудом можно было оставить одну. Она имела выраженный обсессивный невроз и временами впадала в депрессию. Ее игра была очень заторможенной и ее неспособность переносить фрустрации сделали ее воспитание исключительно сложным. У меня были сильные сомнения о том, как лучше взяться за этот случай, т.к. анализ столь маленького ребенка был совершенно новым делом. Первая сессия, казалось, подтвердила мои опасения. Рита, когда ее оставили со мной в ее детской, сразу же проявила признаки негативного переноса: она была тревожна и молчалива, и очень скоро попросила выйти в сад. Я согласилась и вышла вместе с ней - я могу добавить, под бдительным взором ее матери и тети, которые восприняли это как знак провала. Они были очень удивлены, когда увидели, что Рита настроена довольно дружелюбно ко мне, когда мы вернулись в детскую через десять или пятнадцать минут. Объяснение этого изменения состоит в следующем. Когда мы были в саду, я проинтерпретировала ее негативный перенос (что опять было против обычной практики). Из нескольких ее высказываний, и из факта, что она стала менее испуганной, когда мы вышли из детской, я сделала вывод, что она особенно боялась чего-то, что я могу сделать с ней, когда мы были одни в комнате. Я проинтерпретировала это, и, ссылаясь на ее ночные кошмары, связала ее подозрительность ко мне как враждебной незнакомке с ее страхом, что плохая женщина нападет на нее, когда она будет одна ночью. Когда через насколько минут после этой интерпретации я предложила вернуться в детскую, она с готовностью согласилась. Как я уже упоминала, у Риты были заметные задержки в игре, и вначале она почти ничего не делала, кроме как навязчиво одевали и раздевала ее куклу. Но вскоре я пришла к пониманию тревог, лежащих в основе ее навязчивости, и проинтерпретировала их. Этот случай усилил мою растущую убежденность, что необходимым предварительным условием психоанализа ребенка является понимание и интерпретация фантазий, чувств, тревог и переживаний, выражаемых в игре, или, если игровая активность заторможена, причин этих задержек.
Как и в случае Фрица, я вела этот анализ в доме ребенка и с ее собственными игрушками, но в ходе этого лечения я пришла к выводу, что психоанализ не следует проводить в доме ребенка. Я обнаружила, что, хотя она сильно нуждалась в помощи, и ее родители решили, что мне следует попытаться проанализировать ее, отношение ее матери ко мне было очень амбивалентно, и атмосфера в целом была враждебной по отношению к лечению. Еще более важным я нашла то, что ситуация переноса - главная опора психоаналитической процедуры - может установиться и поддерживаться, только если пациент будет способен почувствовать, что консультационная комната или комната для игр, а на самом деле весь анализ, есть нечто отдельное от его обычной домашней жизни. Только при этих условиях мы сможем преодолеть его сопротивления против переживания и выражения мыслей, чувств и желаний, которые несовместимы с общепринятыми, и, в случае детей, ощущаются противоположными тому, чему их учили.
Я сделала дальнейшие важные наблюдения при анализе девочки семи лет, также в 1923 году. ЕЕ невротические трудности, по-видимому, не были серьезными, но ее родители некоторое время беспокоились относительно ее интеллектуального развития. Хотя она была совершенно разумной, она не дружила со сверстниками, не любила школу и иногда прогуливала уроки. Ее отношение к матери, которое сначала было любящим и доверчивым, изменилось, как только она пошла в школу: она стала скрытной и молчаливой. Я провела с ней несколько сессий, не достигнув хорошего контакта. Было ясно, что она неохотно рассказывала об этом, равно как и из других замечаний, я имела возможность сделать несколько интерпретаций, которые дали некоторый материал. Но у меня было впечатление, что я не смогу далеко продвинуться таким образом. Во время следующей сессии, когда она опять была невосприимчивой и замкнутой, я оставила ее, сказав, сто вернусь через несколько минут. Я пошла в свою собственную детскую комнату, собрала несколько машинок, кубики и игрушечный поезд, положила все это в коробку и вернулась к пациентке. Девочка, которая не хотела рисовать или делать еще что-нибудь, заинтересовалась маленькими куклами и сразу начала играть. Из этой игры я сделала вывод, что две из игрушечных фигурок представляют собой ее и маленького мальчика, товарища по школе, о котором я уже слышала раньше. По-видимому, существовал какой-то секрет, связанный с поведением этих фигурок, и что остальные игрушечные люди, которые наблюдали за ними и докучали им, за это были помещены поодаль. Деятельность этих двух игрушечных человечков приводила к катастрофе, к падению или столкновению с машинками. Это сопровождалось знаками возрастающей тревоги. В этот момент я проинтерпретировала, со ссылкой на детали ее игры, что, возможно, между ней и ее товарищем произошли какие-то сексуальные действия, и что она испугалась, что это обнаружат, и поэтому стала относиться недоверчиво к другим людям. Я подчеркнула, что во время игры она стала тревожной и, казалось, была готова прекратить игру. Я напомнила ей, что она не любила школу , и что это может быть связано с ее страхом, что учитель может обнаружить ее отношения с ее школьным товарищем и накажет ее. Кроме того, она боялась и поэтому не доверяла своей матери, и сейчас, похоже, испытывает те же чувства ко мне. Эффект от этой интерпретации был потрясающим: ее тревога и недоверие сначала усилились, но очень скоро отступили и им на смену пришло заметное облегчение. Изменилось ее выражение лица, и, хотя она ни соглашалась, ни отрицала то, что я сказала, она проявила свое согласие тем, что стала продуцировать новый материал, и более свободным поведением в игре и разговоре; ее отношение ко мне также стало намного более дружелюбным и менее подозрительным. Конечно, негативный перенос, чередуясь с положительным переносом, возникал вновь и вновь, но, начиная с этой сессии, в анализе появился заметный прогресс. Одновременно произошли благоприятные изменения, как мне сообщили, в ее отношении к ее семье - частности, к ее матери. Ее нелюбовь к школе уменьшилась и она стала больше интересоваться уроками, но ее задержки в учебе, связанные с глубокими тревогами, разрешились только в ходе длительного лечения.
II
Я рассказала, как использование игрушек, которые я держала специально для маленьких пациентов в коробке, в которой я их сначала принесла, оказалось существенным для ее анализа. Этот опыт, как и другие, помог мне решить, какие игрушки лучше использовать для психоаналитической игровой техники. Я нашла существенным использование маленьких игрушек, потому что их число и разнообразие позволяют ребенку выражать широкий спектр фантазий и переживаний. Для этой цели важно, чтобы эти игрушки были немеханические, и человеческие фигурки, различаясь только по цвету и размеру, не обозначали бы специального занятия. Их простота позволяет ребенку использовать их в различных ситуациях, в соответствии с материалом, возникающим в его игре. Факт, что он может таким образом представить одновременно множество переживаний и фантазий или актуальных ситуаций, также делает возможным для нас достижение более ясной картины работы его мышления.
Вместе с простотой игрушек обстановка в игровой комнате должна быть тоже простой. Она не должна содержать ничего кроме того, что требуется для психоанализа. Игрушки каждого ребенка хранятся отдельно, и таким образом он знает, сто его игрушки и его игры и ними, которые эквивалентны ассоциациям взрослых, известны только аналитику и ему. Коробка, в которой я вначале принесла игрушки маленькой девочке, описанной выше, стала прототипом индивидуального хранилища, которое является частью интимных отношений между аналитиком и пациентом, характерных для психоаналитическое ситуации переноса.
Я не утверждаю, что психоаналитическая игровая техника зависит полностью от моего особого выбора игрового материала. В любом случае, дети часто спонтанно приносят свои собственные вещи и игра с ними входит, конечно, как материал, в аналитическую работу. Но я полагаю, что игрушки, предоставляемые аналитиком, должны быть в целом такого типа, как я сказала, т.е. простыми, маленькими и немеханическими.
Игрушки, однако, не единственный реквизит игрового анализа. Дети проводят много времени, занимаясь с чашкой для мытья рук, рядом с которой имеет несколько маленьких чашечек, стаканчики и ложечки. Они часто рисуют, пишут, вырезают, чинят игрушки, и так далее. Иногда они играют в игры, в которых они приписывают роли аналитику и себе, например, играя в магазин, доктора и пациента, школу, маму и ребенка. В этих играх ребенок часто берет себе роль взрослого, не только выражая свое желание поменяться ролями, но и чтобы продемонстрировать то, как он чувствует, как ведут себя по отношению к нему родители или другие взрослые - или как должны себя вести. Иногда он дает выход его агрессивности и чувству обиды, становясь, в роли родителя, садистическим к ребенку, представленному аналитиком. Принцип интерпретации остается тем же, независимо от того, представлены фантазии с помощью игрушек или драматизации, т.к., какой бы материал не использовался, существенно, чтобы применялись аналитические принципы, лежащие в основе техники.
Агрессивность выражается различными путями в детских играх, прямо либо косвенно. Часто ломаются игрушки, или, если ребенок агрессивен, он набрасывается с ножом или ножницами на стол или кусочки дерева; вода или краска разбрызгиваются, и комната начинает походить на поле боя. Важно позволять ребенку выражать его агрессивность, но еще более важно понимать, почему именно в этот момент в ситуации переноса возникли деструктивные импульсы и проследить их последствия в уме ребенка. Очень часто вскоре может возникать чувство вины вслед за тем, как ребенок, например, сломает игрушку. Эта вина относится не только к реальному причиненному вреду, но и к тому, что игрушка представляет собой в бессознательном ребенка, например, маленького брата или сестру, или родителей, поэтому интерпретации должны иметь дело также и м этими более глубокими уровнями. Иногда из поведения ребенка по отношению к аналитику мы можем сделать вывод, что не только вина, но и тревога преследования могут быть результатом его деструктивных импульсов и что он боится возмездия.
Как правила, я способна объяснить ребенка, что я не буду допускать физического нападения на меня. Такие отношение не только защищает психоаналитика, но важно для анализа в целом, поскольку такие нападения, если не придерживаться границ, способны возбудить у ребенка избыточную вину и тревогу преследования, и поэтому добавят трудностей в лечение. Меня иногда спрашивают, каким методом я предотвращаю физические нападения, и я думаю, ответ будет заключаться в том, что я стараюсь не подавлять агрессивные фантазии ребенка, фактически, он имеет возможность выражать их другими путями, включая словесные атаки в мой адрес. Чем больше я способна вовремя проинтерпретировать мотивы агрессивности ребенка, тем более вероятно, что ситуация не выйдет из-под контроля. Однако, с некоторыми детьми-психотиками иногда бывает очень трудно защитить себя от их агрессивности.
III
Я обнаружила, что отношения ребенка к игрушке, которую он сломал, очень показательно. Он часто откладывает эту игрушку, представляющую, например, брата или сестру, или родителей, и игнорирует ее некоторое время. Это означает нелюбовь к поврежденному объекту из-за страха преследования, страха, что атакованная персона (представленная игрушкой) станет опасной и требующей возмездия. Чувство преследования может быть столь сильным, что оно перекрывает чувство вины и депрессию, которые также часто возникают после нанесения вреда. Или вина и депрессия могут быть столь сильны, что они сами приводят к усилению чувства преследования. Однако, однажды ребенок станет искать сломанную игрушку и в своем ящичке. Это означает, что после того, как мы смогли проанализировать некоторые важные защиты, таким образом уменьшив чувство преследования и сделав возможным появление чувства вины, возникла потребность совершить репарации. Когда это случается, мы можем также заметить, что происходят изменения в отношении ребенка к конкретному лицу, которое представляла игрушка, или изменения в его отношениях в целом. Это изменение подтверждает наше впечатление, что тревога преследования уменьшилась и что вместе с чувством вины и желанием совершать репарации, чувство любви, которое сдерживалось избыточной тревогой, выступает на первый план. У других детей, или у этого же ребенка на более поздней стадии анализа, вина и желание совершать репарации может следовать сразу же за актом агрессии, и нежность к брату или сестре, которым, возможно, в фантазии причинен вред, становится явной. Важность этих изменений для формирования характера и объектных отношений, также как и для душевного равновесия, трудно переоценить.
Существенной частью интерпретативной работы является то, что она должна идти в ногу с колебаниями между любовью и ненавистью, между счастьем и удовлетворением с одной стороны и тревогой преследования и депрессией с другой. Это означает, что аналитик не должен проявлять неодобрение того, что ребенок сломал игрушку, он не должен, однако, поощрять ребенка выражать его агрессивность или внушать ему, что игрушку надо починить. Другими словами, ему следует позволять ребенку выражать его эмоции и фантазии так, как они возникают. Также всегда было частью моей техники отсутствие воспитательного или морального влияния, я всегда придерживалась только психоаналитической процедуры, которая, если изложить ее кратко, состоит в понимании мышления пациента и сообщении ему, что там происходит.
Множество эмоциональных ситуаций, которые можно выразить с помощью игры, безгранично: например, разочарование и отверженность, ревность одновременно к отцу и матери, или к братьям и сестрам, агрессивность в сочетании с такой ревностью, удовольствие от наличия друга по играм и союзника против родителей; чувства любви и ненависти к новорожденному или ожидаемому ребенку, равно как и вытекающие отсюда тревогу, вину и стремление совершать репарации. Мы также находим в играх детей повторение актуальных переживаний и деталей повседневной жизни, часто переплетенных с его фантазиями. Показательно, что иногда очень важные актуальные события в его жидни не отражаются в его игре или в его ассоциациях, и что все внимание временами обращено на кажущиеся незначительными события. Но эти назначительные события очень важны для него, потому что они возбуждают его эмоции и фантазии.
IV
У многих детей имеются задержки в игре. Такие задержки обычно не полностью препятствуют игре, но могут приводить к быстрому прерыванию игры. Приведу пример маленького мальчика, которого мне привели только на одно интервью (планировался его анализ в будущем, но в то время его родители вместе с ним уезжали за границу). У меня на столе было несколько игрушек, он сел и начал игру, в которой вскоре произошел несчастный случай, столкновение и падение игрушечных людей, которых он старался поставить вновь. Во всем этом он проявлял много тревоги, но, поскольку никакого лечения пока не имелось в виду, я воздержалась от интерпретаций. После того, как он несколько минут тихо проспал в своем кресле, он сказал: "Хватит играть", - и вышел. Я знала по своему опыту, что если бы это было началом лечения и я бы проинтерпретировала тревогу, проявленную в его действиях с игрушками, и соответствующий негативный перенос ко мне, я уменьшила бы тревогу настолько, чтобы он смог продолжить игру.
Следующий пример поможет мне показать некоторые причины задержек в игре. Мальчик трех лет и девяти месяцев, которого я описала под именем "Питер" в книге "Детский психоанализ", был очень невротичный. Упомяну некоторые из его трудностей: он был не способен играть, не мог переносить малейшие фрустрации, был робкий, жалобный и больше походил на девочку, хотя временами был агрессивный и властный, очень амбивалентный к своей семье и сильно фиксирован на своей матери. Она сказала мне, что Питер сильно изменился в худшую сторону после летнего отпуска, когда он в возрасте 18-ти месяцев спал в одной комнате с родителями и имел возможность наблюдать их половые сношения. В это лето он стал трудно управляемым, плохо спал по ночам и вновь ночью стал пачкать свою кровать, что он уже не делал несколько месяцев. До этого времени он играл достаточно свободно, но с этого времени он прекратил играть и стал очень деструктивным по отношению к своим игрушкам, но ничего не делал с ними другого, кроме как ломал их. Через некоторое время после этого родился его брат, и это усилило все его трудности.
В первой сессии Питер начал играть, вскоре он столкнул две лошадки вместе, и повторял это действие с другими игрушками. Он также упомянул, что у него есть маленький брат. Я проинтерпретировала ему, что лошадки и другие вещи, которые вталкивались вместе, представляли собой люде, интерпретация, которую он сначала отверг, а затем принял. Он вновь столкнул лошадок вместе, сказав, что они собираются спать, прикрыл их кубиками и добавил: "Сейчас они совсем умерли, я их похоронил" Он поставил машинки друг за другом в ряд, что, как стало ясно позднее из анализа, символизировало пенис его отца, и заставил их двигаться вперед, затем внезапно остановил движение и разбросал их по комнате, приговаривая: "Мы всегда немедленно уничтожаем наши рождественские подарки, мы нечего не хотим". Уничтожение его игрушек таким образом в его бессознательном представляло уничтожение гениталий его отца. В течение этого первого часа он действительно сломал несколько игрушек.
Во время второй сессии Питер повторил некоторый материал первого часа, в частности, столкновения вместе машин, лошадок и т.п., вновь говорил о своем младшем брате, после чего я проинтерпретировала, что он показывает мне, как его мама и папа сталкивают их гениталии (конечно, используя его собственные слова для гениталий), и что их действия привели к рождению его брата. Эта интерпретация дала много нового материала и пролила свет на его очень амбивалентное отношение к его маленькому брату и к отцу. Он положил игрушечного мужчину на кубик, который он назвал постелью, сбросил его и сказал, что он умер и разорен. Затем он вновь разыграл эту сцену с двумя игрушечными мужчинами, выбрав фигурки, которые он сломал до этого. Я проинтерпретировала, что первый игрушечный мужчина представлял его отца, которого он хотел сбросить с постели матери и убить, и что один из двух игрушечных мужчин вновь представлял его отца, а другой представлял его самого, с кем отец должен был сделать то же самое. Причина, по которой он выбрал две сломанные фигурки, заключалась в том, что он чувствовал, что и его отцу, и ему будет причинен вред, если он нападет на отца.
Этот материал иллюстрирует ряд моментов, из которых я упомяну только один или два. Так как то, что Питер был свидетелем полового сношения его родителей, оказало на него заметное влияние, и привело к таким сильным эмоциям, как ревность, агрессивность и тревога, это было первым, что он выразил в своей игре. Без сомнения, у него в дальнейшем не сохранилось какое-либо сознательного воспоминания от этом переживании, оно выло вытеснено, и для него было возможно только его символическое выражение. Я имею основания полагать, что если бы я не проинтерпретировала, что игрушки, которые сталкивались, были людьми, он, возможно, не смог бы продуцировать материал, который появился во время второго часа. Более того, если бы я во второй час не смогла показать ему причины его задержки в игре, интерпретируя повреждения, причиненные игрушкам, он, вероятно, - как он это делал в обычной жизни, - прекратил бы игру после столкновения игрушек.
Есть дети, которые в начале лечения не могут играть даже так, как Питер, или как маленький мальчик, которого привели только не одно интервью. Однако, очень редко явление, чтобы ребенок полностью игнорировал игрушки, разложенные на столе. Даже если он отворачивается от них, он обычно дает аналитику возможность понять мотивы его нежелания играть. Детский аналитик также может получить материал для интерпретации другими путями. Любая деятельность, например, вырезание из бумаги или разрезание ее на куски, каждая деталь поведения, такая как изменение позы или выражения лица, могут дать ключ к тому, что происходит в голове ребенка, возможно, в связи с тем, что аналитик слышал о его трудностях от родителей.
Я достаточно много говорила о значении интерпретаций в игровой технике и проиллюстрировала рядом примеров их содержания. Это привело меня к вопросу, который мне очень часто задают: "Неужели маленькие дети могут понять такие интерпретации?" Мой опыт и опыт моих коллег говорит о том, что если интерпретации относятся к самым ярким моментам в материале, они полностью понимаются. Конечно, детский аналитик должен делать эти интерпретации по возможности более краткими и ясными, следует также использовать при этом выражения самого ребенка. Но, если он переводит в простые слова существенные моменты представленного материала, он соприкасается с эмоциями и тревогами, которые наиболее действенны в данный момент, обычно следом за этим происходит сознательное и интеллектуальное понимание ребенком. Одно из многих интересных и удивляющих переживаний начинающего детского аналитика состоит в том, что он обнаруживает даже у очень маленьких детей способность к инсайту, которая чаще даже больше, чес у взрослых. В некоторой степени это объясняется тем фактом, что связь между сознательным и бессознательным теснее у маленьких детей, чем у взрослых, и что инфантильные вытеснения менее мощные. Я также полагаю, что интеллектуальные способности белей часто недооцениваются и, фактически, они понимают больше, чем о них думают.
Сейчас я проиллюстрирую свои высказывания о реакции маленьких детей на интерпретации. Питер, из анализа которого я привела уже некоторые детали, сперва протестовал против моей интерпретации, что игрушечный мужчина, которого он сбросил с "постели" и который "умер и разорен", представлял его отца. (Интерпретация желания смерти любимому человеку обычно вызывает сильное сопротивление и у детей, и у взрослых). Во время третьего часа Питер вновь принес похожий материал, но теперь принял мои интерпретации и сказал задумчиво: "И если бы я был папой, и кто-то хотел сбросить меня с постели, убить и разорить меня, что бы я подумал об этом?" Это показывает, что он не только переработал, понял и принял мою интерпретацию, но и что он осознал гораздо больше. Он понял, что его собственные агрессивные чувства к отцу усиливали его страх перед отцом, и что он также проецировал свои собственные импульсы на отца.
Одним из важнейших моментов игровой техники всегда был анализ переноса. Как мы знаем, в переносе на аналитика пациент повторяет ранние эмоции и конфликты. Мой опыт свидетельствует о том, что мы можем оказать фундаментальную помощь пациенту, прослеживая его фантазии и тревоги в наших интерпретациях переноса к тому моменту, когда они возникли, - а именно, к младенческому возрасту и к отношению к его первым объектам. Вновь переживая ранние эмоции и фантазии и понимая их в отношении к его первичным объектам, он может, как и случалось, пересмотреть эти отношения в их основе, и таким образом эффективно уменьшить его тревоги.
V
Оглядываясь назад не первые годы моей работы, я хочу выделить несколько фактов. В начале этой статьи я упоминала, что при анализе моего самого первого детского случая я обнаружила, что мой интерес сконцентрировался не его тревогах и защитах против них. Мой особый интерес к тревоге вел меня все глубже и глубже в бессознательное и в жизнь фантазий ребенка. Этот специфический интерес противоречил психоаналитической точке зрения, что интерпретации не должны идти слишком глубоко и не следует давать их слишком часто. Я настаивала не своем подходе, несмотря на то, что это влекло за собой радикальные изменения в технике. Этот подход привел меня на новую территорию, т.к. он дал понимание ранних инфантильных фантазий, тревог и защит, которые в то время все еще оставались мало изученными. Это стало ясно для меня, когда я приступила к теоретическому формулированию моих клинических наблюдений.
Одним из феноменов, поразивших меня в анализе Риты, была жестокость ее Супер-эго. Я уже рассказывала в книге "Детский психоанализ", как Рита любила играть роль строгой и наказывающей матери, которая обращалась с ребенком (представленным куклой или мной) очень безжалостно. Более того, ее амбивалентность в отношении к ее матери, чрезмерная потребность в наказании, ее чувство вины и ее ночные кошмары привели меня к пониманию того, что у этого ребенка в возрасте друх лет и девяти месяцев - и достаточно легко можно проследить и до существенно более раннего возраста - действовало жестокое и неумолимое Супер-эго. Я нашла подтверждение этого открытия при анализе других маленьких детей и пришла к выводу, что Супер-эго возникает на более ранних стадиях, чем это предполагал Фрейд. Другими словами, мне стало ясно, что Супер-эго, как он и представлял себе, является конечным продуктом развития, продолжающегося несколько лет. В результате дальнейших наблюдений я поняла, что Супер-эго есть нечто, что ребенок чувствует действующим внутри него определенным образом; что оно состоит из множества фигур, созданных на основе его опыта и фантазий, и что оно возникает на стадиях, когда он интернализирует (интроецирует) своих родителей.
Эти наблюдения, в свою очередь, привели, при анализе маленьких девочек, к открытию ситуации ведущей феминной тревоги: мать ощущается как первичный преследователь, который, как внешний и интернализированный объект, атакует тело ребенка и забирает из него воображаемых детей. Эти тревоги возникают их фантазий девочек о нападении на тело матери, чтобы отнять у нее его содержимое, т.е. фекалии, пенис отца и детей, в результате чего возникает страх возмездия аналогичным образом. Я нашла, что такие тревоги преследования скомбинированы или чередуются с глубокими чувствами депрессии и вины, и эти наблюдения привели меня к открытия жизненно важной роли, которую тенденции совершать репарации играют в душевной жизни. В этом смысле репарация более широкое понятие, чем понятие Фрейда "восстановление сделанного в обсессивном неврозе" и "реактивное образование", т.к. оно включает в себя множество процессов, в результате которых Эго чувствует, что оно уничтожает вред, причиненный в фантазии, восстанавливает, предохраняет и оживляет объекты. Значение этой тенденции, тесно связанной с чувством вины, определяется также ее существенным вкладом в процессы сублимации и, таким образом, в душевное здоровье.
При изучении фантазий о нападении на тело матери я вскоре натолкнулась на анально- и уретрально-садистические импульсы. Я уже упоминала выше, что я обнаружила жестокость Супер-эго у Риты (1923) и что ее анализ в значительной мере помог мне понять пути, которыми деструктивные импульсы, направленные на мать, становятся причиной чувства вины и преследования. Один из случаев, в результате которого мне стала ясна анально- и уретрально-садистическая природа этих деструктивных импульсов, был случай Труди, девочки трех лет и трех месяцев, которую я анализировала в 1924 году. Когда она пришла ко мне на лечение, она страдала от различных симптомов, таких как ночные кошмары и недержание мочи и кала. В начале анализа она сказала мне притвориться, будто я в постели и сплю. Затем она сказала, что собирается напасть на меня и заглянуть мне в попу, чтобы посмотреть на фекалии (которые, как я поняла, также представляли собой детей) и что она собирается вынуть их оттуда. После таких нападений она пряталась в углу, изучая, играя, будто она в постели, накрывала себя подушками (которые должны были защищать ее тело и также представляли собой детей), в то же время она действительно обмочилась и явно показывала, что боится, что я на нее нападу. Ее тревога, связанная с опасной интернализированной матерью, подтвердила выводы, которые я первоначально сделала при анализе Риты. Оба эти анализа были кратковременны, в частности из-за того, что родители сочли, что были достигнуты достаточные улучшения.
Вскоре после этого я пришла к убеждению, что такие деструктивные импульсы и фантазии всегда можно проследить до орально-садистических. Фактически, Рита уже показала это достаточно ясно. Однажды она испачкала лист бумаги, разорвала его, бросила кусочки в стакан с водой, поднесла его к губам, будто бы собираясь пить, и сказала шепотом: "Умершая женщина". То, что она разорвала и утопила в воде кусочки бумаги, я поняла как выражение фантазий о нападении не мать и убийстве ее, что привело к страху возмездия. Я уже говорила, что именно с Труди я стала уверена в специфической анально- и уретрально-садистической природе таких атак. Но в других анализах, проведенных в 1924 и 1925 годах (Рут и Питер, оба случая приведены в книге "Детский психоанализ"), я также осознала фундаментальную роль, которую орально-садистические импульсы играют в деструктивных фантазиях и соответствующих тревогах, таким образом найдя в анализе маленьких детей полное подтверждений открытий Абрахама. Эти анализы, давшие мне дальнейшее поле для наблюдений, поскольку они продолжались дольше, чем анализ Риты и Труди, привели меня к более полному пониманию фундаментальной роли оральных желаний и тревог в душевном развитии, нормальном и патологическом.
Как я уже упоминала, я уже распознала у Риты и Труд интернализацию атакованной и, следовательно, пугающей матери - жестокое Супер-эго. Между 1934 и 1926 годами я анализировала девочку, которая действительно была очень больна. Из ее анализа я узнала много специфических деталей такой интернализации и о фантазиях и импульсах, лежащих в основе параноидной и маниакально-депрессивной тревог, т.к. я пришла к пониманию оральной и анальной природы ее процессов интроекции и ситуаций внутреннего преследования, которые они порождают. Я также стала лучше осознавать пути, которыми внутреннее преследование влияет, посредством проекции, на отношение к внешним объектам. Интенсивность ее зависти и ненависти безошибочно показывала их происхождение от орально-садистического отношения к груди ее матери и была связана с началом ее Эдипова комплекса. Случай Эрны существенно помог мне в подготовке обоснования для ряда выводов, которые я представила на 10-м Международном психоаналитическом конгрессе в 1925 году, в частности, точку зрения, что раннее Супер-эго, основанное в период самого разгара орально-садистических импульсов и фантазий, лежит в основе психозов - точка зрения, которую я двумя годами позже развила, подчеркнув значение орального садизма при шизофрении.
Одновременно с анализами, которые я только что описала, я смогла проделать интересные наблюдения, касающиеся ситуаций тревоги у мальчиков. Анализ мальчиков и взрослых мужчин полностью подтвердил точку зрения Фрейда, что у мужчин ведущим является страх кастрации, но я обнаружила, что вследствие ранней идентификации с матерью (феминная позиция, которая возвещает о начале Эдипова комплекса) тревога о нападении на тело изнутри имеет большое значение и у мужчин, и у женщин, и различными путями влияет на их кастрационные страхи.
Тревога, происходящая от фантазий о нападении на тело матери и отца, которого, как предполагается, она содержит, оказалась у обоих полов лежащей в основе клаустрофобии ( которая включает в себя страх быть заключенным в материнском теле или быть погребенным в нем). Связь этих тревог с кастрационным страхом можно увидеть, например, в фантазии о потере пениса или разрушении его внутри матери - фантазиях, которые могут привести к импотенции.
Я увидела, что страхи, связанные с нападением на материнское тело и страх нападения со стороны внешних и внутренних объектов имеет специфическое качество и интенсивность, говорящие об их психотической природе. При изучении отношения ребенка к интернализированным объектам становятся ясными различные ситуации внутреннего преследования и их психотическое содержание. Более того, обнаружение того, что страх возмездия имеет источником собственную агрессивность, привело меня к выводу, что первоначальные защиты Эго направлены против тревоги, возбуждаемой деструктивными импульсами и фантазиями. Снова и снова, когда эти психотические тревоги прослеживались до их источника, обнаруживалось, что они имеют происхождение в оральном садизме. Я обнаружила также, что орально-садистическое отношение к матери и интернализация поглощенной и, следовательно, поглощающей груди создает прототип всех внутренних преследователей; и более того, что интернализация повреждений и, следовательно, опасной груди с одной стороны, и удовлетворяющей и помогающей груди с другой, составляет ядро .супер-эго. Другой вывод заключался в том, что, хотя оральные тревоги возникают первыми, садистические фантазии и желания из всех источников действуют на очень ранней стадии развития и частично перекрывают оральные тревоги. [overlap]
Значение инфантильных тревог, которые я только что описала, также было продемонстрировано в анализе очень больных взрослых, некоторые их них были пограничными психотическими случаями.
Другой опыт помог сделать мне дальнейшие выводы, сравнение несомненно страдающей паранойей Эрны и фантазий и тревог, которые обнаружила у менее больных детей, которых можно было назвать только невротичными, убедила меня в том, что психотические (параноидные и депрессивные) тревоги лежат в основе инфантильного невроза. Я также проделала аналогичные наблюдения при анализе взрослых невротиков. Все эти различные линии исследования привели к гипотезе, что тревоги психотической природы в некоторой степени являются частью нормального инфантильного развития и выражаются и перерабатываются в ходе инфантильного невроза. Чтобы открыть эти инфантильные тревоги анализ должен, однако, доходить до глубоких слоев бессознательного, и это относится одновременно и ко взрослым, и к детям.
Во введении к этой статье я уже подчеркивала, что мое внимание с самого начала было сфокусировано на тревогах ребенка, и что именно интерпретация их содержания оказалась тем средством, с помощью которого я смогла уменьшить эти тревоги. Чтобы сделать это, требуется полностью использовать символический язык игры, который, как я обнаружила, составляет существенную часть детского способа выражения. Как мы уже видели, кубик, маленькая фигурка, машинка не только представляют собой вещи, интересующие ребенка сами по себе, но в его игре с ними они также всегда имеют множество символических значений, связанных с его фантазиями, желаниями и переживаниями. Этот архаический способ выражения есть также тот язык, с которым мы знакомы по сновидениям, и подходя к игре ребенка способом, аналогичным интерпретации сновидений Фрейда, я обнаружила, что могу получить доступ к бессознательному ребенка. Однако, мы должны каждый раз рассматривать использование ребенком символов в связи с его конкретными эмоциями и тревогами и в отношении ко всей ситуации, представленной в анализе, просто обобщенный перевод символов является бессмысленным.
Значение, которое я придавала символизму, привело меня - по прошествии некоторого времени - к теоретическим выводам о процессе формирования символов. Игровой анализ показал, что символизм позволяет ребенку переносить не только интерес, но также фантазии, тревоги и вину на объекты, отличные от людей. Таким образом, в игре ощущается большое облегчение, и это один из факторов, делающих ее столь важной для ребенка. Например, Питер, о котором я уже говорила ранее, подчеркнул мне, когда я проинтерпретировала разрушение им игрушечной фигурки как представляющее нападение на его брата, что он не стал бы это делать с его реальным братом, он делает это только с игрушечным братом. Моя интерпретация, конечно, сделала для него ясным, что в действительность это был его брат, на кого он хотел напасть; но этот пример показывает, что только символическими средствами он мог в анализе выразить свои деструктивные стремления.
Я также пришла к выводу, что у детей сильные задержки способности к формированию и использованию символов, и следовательно, развивать жизнь фантазий, служат знаком серьезных нарушений. Я считаю, что такие задержки, и являющиеся их результатом нарушения в отношении к внешнему миру и реальности, есть характерная черта шизофрении.
Я могу также сказать, что я нашла имеющим большое значение с клинической и теоретической точки зрения, что я анализировала и детей, и взрослых. Таким образом я имела возможность наблюдать, как детские фантазии и тревоги все еще действуют у взрослых, и оценить у маленького ребенка, каким может быть его будущее развитие. Сравнивая тяжело больных, невротиков и нормальных детей, я находя, что инфантильные тревоги психотической природы являются причиной заболевания у взрослых невротиков, я пришла к выводам, которые были описаны выше.
VI
Прослеживая в анализе взрослых и детей развитие импульсов, фантазий и тревог до их источника, т.е. до чувств к груди матери (даже если ребенка не кормили грудью), я нашла, что объектные отношения начинаются сразу при рождении и возникают с первым опытом кормления, более того, что все аспекты душевной жизни связаны с этими объектными отношениями. Также выяснилось, что восприятие ребенком внешнего мира, которое вскоре начинает включать в себя его амбивалентное отношение к его отцу и к другим членам семьи, постоянно подвергается влиянию создаваемого внутреннего мира, и в свою очередь влияет на него, - и что внешняя и внутренняя ситуации всегда взаимозависимы, т.к. интроекция и проекция действуют бок о бок с самого начала жизни.
Наблюдения, что в уме ребенка мать первоначально появляется как хорошая и плохая грудь, отщепленные друг от друга, и что в течение нескольких месяцев, с ростом интеграции Эго противоположные аспекты начинают синтезироваться, помогли мне понять значение процессов расщепления и отдельного восприятия хороших и плохих фигур, также как и влияние этих процессов на развитие Эго. Следующий из этого опыта вывод, что депрессивная тревога возникает как результат синтеза Эго хороших и плохих (любимых и ненавидимых) аспектов объекта, привел меня в свою очередь к концепции депрессивной позиции, которая достигает своей кульминации к середине первого года жизни. Ей предшествует параноидная позиция, которая охватывает первые три или четыре месяца жизни и характеризуется тревогой преследования и процессами расщепления. Позже, в 1946 году, когда переформулировала мои взгляды на первые три или четыре месяца жизни, я назвали эту стадию (пользуясь выражением Фэрбэрна) параноидно-шизоидной позицией, и, детально изучая ее значение, стремилась скоординировать полученные мной данные о расщеплении, проекции, преследовании и идеализации.
Моя работа с детьми и теоретические выводы, которые я делала при этом, в значительной степени влияли на мою технику работы со взрослыми. Всегда считалось важнейшим принципом психоанализа, что бессознательное, которое возникает в уме ребенка, следует исследовать у взрослого. Мой опыт работы с детьми позволил мне пройти намного глубже в этом направлении, чем это было до сих пор, что привело меня к технике, которая делает возможным доступ к этим более глубоким слоям. В частности, моя игровая техника помогла мне увидеть, кокой материал наиболее нуждается в интерпретации в данный момент и каким путем легче всего передать ее пациенту, часть тих знаний я смогла применить в анализе взрослых. Как уже подчеркивалось ранее, это не означает, что техника, используемая с детьми, идентична подходу ко взрослым. Хотя мы нашли путь к самым ранним стадиям, очень важно в анализе взрослых учитывать взрослое Эго, равно как с детьми мы имеем в виду инфантильное Эго, соответствующее стадии их развития.
Более полное понимание самых ранних стадий развития, поли фантазий, тревог и защит в эмоциональной жизни ребенка также пролило свет на точки фиксации психозов взрослых. В результате был открыт новый способ лечения психотических пациентов посредством психоанализа. Эта область, в особенности психоанализ шизофренических пациентов, требует дальнейшего исследования; но работа, проделанная в этом направлении рядом психоаналитиков кажется подтверждающей надежды на будущее.
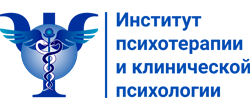

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству




 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
