Библиотека » Психоанализ, психоаналитическая и психодинамическая психотерапия » Калина Основы психоанализа
Автор книги: Калина
Книга: Калина Основы психоанализа
Калина - Калина Основы психоанализа читать книгу онлайн
Сканирование: Янко Слава
Номера страниц указаны вначале страниц
сущность терапевтического анализа
• перекос
• сопротивление и защита
• страх
• нарциссизм
• травма рождения
• оральная и анальная стадии
• комплекс Эдипа
• Самость
• регистры психологии
• фантазм в терапии
• сновидение как фантазм
• дискурсивные практики
Основы психоанализа
"Рефл-бук" "Ваклер" 2001
УДК 159.9
Серия основана в 1998 г.
Ответственный редактор С.Л. Удовик
Художник В. В. Чутур, в оформлении обложки использована картина С.Дали "Сон"
Печатается по решению Ученого совета Таврического Национального университета
Рецензенты:
— действительный член АПН Украины, доктор психологических наук, профессор С.Д. Максименко;
— член-корреспондент АПН Украины, доктор психологических наук, профессор Н.В. Чепелева.
© ISBN 966-543-048-3 (серия)
© ISBN 5-87983-100-0 («Рефл-бук»)
© ISBN 966-543-063-7 («Ваклер»)
© Н.Ф. Калина, 2000 © Издательство «Рефл-бук», оформление, 2000 © Издательство «Ваклер», серия,2000
Глава 1. Феноменология психотерапии и сущность терапевтического анализа 9
1.2. Понятие терапевтического анализа 18
1.3. Модели психотерапевтического взаимодействия 26
Глава 2. Теория и техники терапевтического анализа 34
2.1. Структурирование отношений 34
2.4. Сопротивление и защиты.. 57
Глава 3. Психоаналитические идеи и представления в терапевтическом анализе 77
3.1. Возможности психоаналитического подхода 77
3.2. Ранние фрейдовские представления о психическом функционировании 81
3.3. Влияние бессознательного на восприятие реальности 89
Глава 4. Терапия проблем, связанных с личностным развитием 110
4.1. Классификация проблем.. 110
4.2. Пренатальная стадия и травма рождения 114
4.4. Анальная проблематика в терапии 126
4.5. Эдипова стадия и эдипов комплекс 135
Глава 5. Межличностные отношения как предмет терапевтического анализа 155
5.1. Понятие объектных отношений 155
5.3. Д.В.Винникотт и М.Малер: мать и дитя 171
5.4. Развитие теории объектных отношений 179
5.5. Объектные отношения и Самость 182
5.6. Интерперсональные подходы 190
Глава 6. Структурно-аналитический подход в терапии 207
6.1. Лакан и постмодернисты.. 207
6.4. Воображаемое. Симулякр. Порнография 237
6.6. Конец анализа: Переход за грань желания или По ту сторону речи 249
Глава 7. Современные представления об анализе сновидений 257
7.2. Функции сновидения в терапевтическом анализе 260
7.3. Сновидение как фантазм.. 265
7.4. Активные техники работы со сновидениями в терапевтическом анализе 277
7.5. Обогащенное сновидение. 287
Глава 8. Анализ дискурса в психотерапии 297
8.1. Психотерапевтический дискурс и его "хозяин" — пансемиотический субъект 297
8.2. Дискурсивные практики психотерапии 304
8.3. Анализ психотерапевтического дискурса 322
Тип дискурсивной практики. 333
Схема анализа психотерапевтического дискурса. 333
THE FOUNDATION OF PSYCHOANALYSIS 347
Благодарности ............................. .7
Глава 1. Феноменология психотерапии и сущность терапевтического анализа .......... .9
1.1. Начала ................................. .9
1.2. Понятие терапевтического анализа ............ .18
1.3. Модели психотерапевтического взаимодействия ... .26
Глава 2. Теория и техники терапевтического анализа .34
2.1. Структурирование отношений ................ .34
2.2. Завершение терапии ....................... .39
2.3. Перенос ................................ .47
2.4. Сопротивление и защиты ................... .57
Глава 3. Психоаналитические идеи и представления в терапевтическом анализе ................. .77
3.1. Возможности психоаналитического подхода ...... .77
3.2. Ранние фрейдовские представления о психическом функционировании ............. .81
3.3. Влияние бессознательного на восприятие реальности 89
3.4. Страх .................................. .98
3.5. Нарциссизм ............................ .101
Глава 4. Терапия проблем, связанных с личностным развитием .....110
4.1. Классификация проблем ................... .110
4.2. Пренатальная стадия и травма рождения ........ 114
4.3. Оральная стадия ......................... .119
4.4. Анальная проблематика в терапии ............ .126
4.5. Эдипова стадия и эдипов комплекс ........... .135
4.6. Развитие Сверх-Я ........................ 144
Глава 5. Межличностные отношения как предмет терапевтического анализа ........ .155
5.1. Понятие объектных отношений .............. .155
5.2. Теория М.Кляйн ......................... .160
5.3. Д.В.Винникотт и М.Малер: мать и дитя ........ .171
5.4. Развитие теории объектных отношений ........ .179
5.5. Объектные отношения и Самость ............ .182
5.6. Интерперсональные подходы ................ .190
5.7. Любовь ............................... .196
Глава 6. Структурно-аналитический подход в терапии .... 207
6.1. Лакан и постмодернисты ................... .207
6.2. Регистры психики ........................ .210
6.3. Другой и желание ........................ .229
6.4. Воображаемое. Симулякр. Порнография ........ .237
6.5. Фантазм в терапии ....................... .241
6.6. Конец анализа: Переход за грань желания или По ту сторону речи ....................... .249
Глава 7. Современные представления об анализе сновидений ................... .257
7.1. "Долина Царей" ......................... .257
7.2. Функции сновидения в терапевтическом анализе . .260
7.3. Сновидение как фантазм ................... .265
7.4. Активные техники работы со сновидениями в терапевтическом анализе .................. .277
7.5. Обогащенное сновидение .................. .287
Глава 8. Анализ дискурса в психотерапии ....... .297
8.1. Психотерапевтический дискурс и его ''хозяин" — пансемиотический субъект .................. .297
8.2. Дискурсивные практики психотерапии ......... .304
8.3. Анализ психотерапевтического дискурса ........ .322
Примечания ............................. .335
Литература .............................. .340
Сведения об авторе ....................... .346
Content ................................ .349
В работе над этой книгой мне помогали разные люди. Наибольший вклад внесли, конечно, клиенты — без них, без размышлений над сложными перипетиями человеческой жизни монографии просто бы не было. Мои студенты периодически интересуются, люблю ли я людей. В ответ я обычно цитирую популярный у психотерапевтов анекдот о человеке, которого спросили: — Вы помидоры любите? — Так нет, а есть люблю, — ответил он. Клиенты — это наше все. Я благодарна им всем без исключения, но особенно тем, чье поведение создавало дополнительные сложности в работе — усиленная стимуляция, как известно, придает деятельности агональный характер, а это наилучший режим для творчества.
На всех этапах работы в экстремализации авторского письма соучаствовал и мой уважаемый издатель С.Л.Удовик. Его требования довести рукопись до определенного объема успешно способствовали раскрепощению авторской мысли, а мое вялое (вялотекущее) сопротивление породило те "красоты стиля", о которых всегда сожалеешь, когда книга уже вышла в свет. Надеюсь, что его терпение по-прежнему неисчерпаемо, и наше сотрудничество будет продолжаться.
Я благодарна моей семье — мужу и дочери. Будучи оба психологами, они не только создавали мне все условия для творчества, но и никогда не стояли над душой и не заглядывали в рукопись, пока она не была готова. Любой пишущий согласится, что это редкий и драгоценный дар.
И снова о клиентах. Особой благодарности заслуживает свойственная некоторым из них неувядающая забота о конфиденциальности. Я старалась как могла, обозначая их в книге инициалами соответственно алфавиту, а когда русские буквы закончились, перешла на латинский. Обсуждая эту проблему с одним из наиболее рьяных адептов собственной анонимности (очень милый молодой че-
[8]
ловек, работа с ним была истинным наслаждением), я вспомнила слова, предпосланные признанным классиком скандального политического детектива своему очередному роману: "Любое совпадение сюжета и деталей с обстоятельствами жизни реальных личностей вряд ли случайно. Господь сумеет позаботиться о невинных".
Глава 1. Феноменология психотерапии и сущность терапевтического анализа
Впервые я услышала о психотерапии десять лет назад и сразу же влюбилась в нее навеки. У меня была талантливая учительница*. К тому времени (1990 г.) на русский язык было переведено 8-10 книг на эту тему, и половину из них она привезла с собой, в подарок. Она прочла в нашем университете десяток лекций об основах психотерапевтического воздействия, школах и направлениях западной психотерапии, метафорической коммуникации и т.п. Потом она время от времени снабжала меня информацией и самиздатовскими книжками (Гринсон, Перлз, Фейдимен и Фрейгер1, "Структура магии"). Хватило бы, наверное, просто Рудестама2. Журнал Ф.Е.Василюка3 и первые видеофильмы В.В.Столина4 я открывала уже сама. Дело было сделано, и сделано хорошо — психотерапия в Крыму привилась куда прочнее исследований эффективной волевой регуляции поведения и деятельности**.
Научиться терапии оказалось легко, трудности начались после. Чтение книг и активная работа в режиме практики, преподавания и супервизии вдохновляли и обнадеживали. Межрегиональные "тусовки" проходили вдалеке. Наверное, это обстоятельство и было вкладом
* Как и положено в психоаналитической традиции, сейчас мы с ней не общаемся. Разрыв отношений произошел лет через пять, что составляет среднестатистическую величину для событий такого рода.
** Основная тематика научных исследований на кафедре психологии СГУ до начала 90-х годов.
[10]
высших сил — немного позже чтение отчетов их участников позволило правильно расставить акценты. Ну, а схватки за oпpeдeлeниe лидера и "порядка клевания", равно как и первые опыты чтения рекламы профессиональных психотерапевтических услуг, публикуемой в специальных изданиях и средствах массовой информации, надолго отвратили меня от попыток созидания собственной харизмы и уничижения конкурирующих харизматиков от психотерапии. Надо было работать и преподавать.
По мере того, как формировались психотерапевтические знания, умения и опыт, возрастало желание понять, чем отечественные формы теории и практики отличались от западных образцов, служивших примером, объектом подражания и вдохновляющим эталоном качества. Профессиональное становление принесло с собой несколько вопросов, ответы на которые послужили источником целого ряда самостоятельных идей. Возникнув первоначально в форме крамольных мыслей и сомнений по поводу того, что писали о себе ретивые лидеры калифорнийских школ, эти вопросы позволили задуматься о главном: какой будет (уже есть, должна быть) отечественная психотерапия и что представляют собой ее "врожденные" и "благоприобретенные" факторы?
В конечном счете, после нескольких лет психотерапевтической работы, чтения книг, проведения обучающих семинаров и других форм деятельности в этой сфере возникла настоятельная необходимость ответить себе и другим на ряд вопросов, конкретизирующих вышеизложенный, а именно:
— Как я понимаю природу и сущность психотерапии? В чем состоит психотерапевтическая помощь? Что думают об этом, в отличие от меня, мои клиенты? Чего они хотят, на что надеются и чего боятся?
— Что происходит на самом деле на психотерапевтическом сеансе? Как будет выглядеть его описание, данное клиентом, терапевтом, учеником терапевта, его супервизором, кем-либо вроде самого З.Фрейда, конкурентом-недоброжелателем?
[11]
— Как нужно учить психотерапии? Почему одни могут научиться, а другие — нет? Кого и почему учить нельзя? И что, наконец, делать с психологами-пятикурсниками, которые обязаны (по учебному плану) сдать экзамен по теоретическим основам психотерапии и зачет по практическим навыкам консультирования?
— Как реагировать на жалобы человека, ставшего жертвой "дикого" рынка психотерапевтических услуг? Как ему помочь?
— Что такое методологическая рефлексия в отечественной психотерапии? И что представляет собой эта последняя — унылое эпигонство или уникальный феномен?
— Каковы критерии эффективности психотерапевтического воздействия?
Эти (и многие другие) вопросы складывались постепенно, по мере того, как росло практическое мастерство и объем теоретических знаний. Заставляла задумываться именно теория, вернее, противоречивое единство двух ее разновидностей. Во-первых, довольно-таки хаотическое нагромождение взглядов, мнений, убеждений и принципов той группы психотерапевтов (преимущественно американских), которых я буду условно называть сторонниками гуманистической ориентации. Хотя словосочетание "гуманистическая психотерапия" своей семантикой создает известное напряжение — трудно представить себе не- (или анти-) гуманистическую психотерапию. Во-вторых, стройные, тщательно продуманные, логически выверенные теории и концепции психоаналитической (глубинной) терапии.
Уж очень два эти направления различались между собой. У Ф.Перлза, К.Роджерса, Р.Мэя, К.Витакера, Д.Бьюдженталя — вдохновенные монологи о сущности психотерапевтических отношений, неповторимости каждой экзистенциальной встречи терапевта и клиента, диалоге, основанном на равенстве, принятии и партнерстве. У З.Фрейда, А.Брилла, Р.Р.Гринсона, О.Кернберга, Н.Мак-Вильямс, Д.Айке, ЖЛапланша и Ж.-Б.Понталиса — сухие и точные, подробные изложения хорошо систематизированных теорий, каждое из положений которых многократ-
[12]
но проверялось, обсуждалось и анализировалось. Работы психоаналитиков своей фундаментальностью напоминали классиков деятельностного подхода — их нужно было читать, конспектировать, обдумывать, а уровни понимания сменяли друг друга примерно также же, как при чтении книг К.А.Абульхановой-Славской или Б.ФЛомова. У М.Эриксона — прямо-таки мессианские замашки, маниакальное самовосхваление, удачно дополняемое евангелиями от Дж.Хейли или Д.Зейга; у К.Г.Юнга — хорошо разработанная теория, постоянная рефлексия, а в конце жизни — далекие от позы святого мудреца итоги "Воспоминаний, сновидений, размышлений".
Самой смешной и печальной была, пожалуй, история с нейро-лингвистическим программированием (НЛП). Даже и теперь с трудом понимаю (успешно вытеснила), почему хвастливые декларации апологетов этого подхода не насторожили меня с самого начала. Как можно было поверить такому, например, пассажу:
''НЛП — это искусство и наука о личном мастерстве. Искусство, потому что каждый вносит свою уникальную индивидуальность и стиль в то, что он делает, и это невозможно отразить в словах и технологиях. Наука, потому что существует метод и процесс обнаружения паттернов, используемых выдающимися личностями в любой области для достижения выдающихся результатов. Этот процесс называется моделированием, и обнаруженные с его помощью паттерны, умения и техники находят все более широкое применение в консультировании, образовании и бизнесе для повышения эффективности коммуникации, индивидуального развития и ускоренного обучения... НЛП показывает вам, как понять и смоделировать ваш собственный успех. Это способ обнаружения и раскрытия вашей индивидуальной гениальности, способ выявления того лучшего, что есть в вас и в других людях. НЛП — это практическое искусство, позволяющее добиться тех результатов, к которым мы искренне стремимся в этом мире. Это — исследование того, что составляет различие между выдающимся и обычным. Оно также оставляет после себя целый веер чрезвычайно эффективных техник в области образования, консультирования, бизнеса и терапии" [48, с. 17-18].
[13]
Это классический образец НЛП-стиля — многочисленные обещания, заносчивая уверенность в собственной непогрешимости. Притязания на высокую эффективность — и тут же грубая лесть по поводу "вашей индивидуальной гениальности", способ обнаружения и раскрытия которой почему-то "невозможно отразить в словах и технологиях". Понятно, что восторженные описания необычайной легкости, быстроты и блеска, с которым терапевты упомянутой школы справляются с любыми, даже самыми трудными и сложными проблемами, не оставят равнодушными людей, мечтающих о славе (и деньгах!) харизматического психотерапевта. Адепты НЛП не зря подчеркивают универсальность, новизну и междисциплинарный характер своих техник, их исключительные возможности и всеобъемлющее совершенство в рекламных объявлениях о семинарах и тренингах.
Скорее всего, я клюнула на это направление из-за названия. "Нейро-лингвистическое" звучало так солидно. Но уже тогда (в 1994-1995 г.) было очевидно, что столь сильно и грубо подаваемое направление не работает. Почему? Очень крамольный вопрос. Сначала я рассуждала в рамках тезиса "нет плохих учителей, есть плохие ученики". И выучила лингвистику, после чего стало понятно, что ссылки на Н.Хомского у Д.Гриндера и Г.Бендлера спекулятивны, а Ф.де Соссюра, Э.Бенвениста или даже родного Э.Сепира основоположники НЛП не читали. А уж Л.Витгенштейна и не смогли бы, в этом можно поручиться. Лингвистический уровень анализа в НЛП оказался минимальным, а предложенные в первом томе "Структуры магии" языковые техники явно не подходили для речевого общения на русском языке, синтаксис, прагматика и дейксис которого сильно отличаются от английского.
Напрасно я пыталась найти в других работах этого направления примеры психотерапевтического использования лингвистических идей и техник. Большинство книжек состояли из стереотипно повторяющихся описаний разного рода "якорений" и "рефреймингов" и бесконечно однообразных стенограмм сеансов, пафос которых неизменно сводился к финальному "О-о-о, теперь я, кажет-
[14]
ся, о-го-го!" клиента на фоне восторженного молчания группы в сиянии апостольской улыбки терапевта.
Последствия своей некритичной доверчивости я изживала года два. Самым лучшим лекарством от НЛП оказались работы психоаналитиков, чьи объяснения помогли понять природу и сущность того, что можно назвать инфляцией личности психотерапевта. К.Г.Юнг описал это как процесс формирования мана-личности. Его специфика в сфере психотерапевтической практики состоит в следующем: начинающий психотерапевт после нескольких явно успешных случаев консультирования (особенно если тому были восторженные свидетели) постепенно убеждает себя в том, что искомая цель мудрого всемогущества — в двух шагах. Ошибки и неудачи быстро вытесняются, что облегчает проективную идентификацию с каким-нибудь хорошо описанным или блестяще подающим себя "мастером НЛП", В глубине души он уже маленький Перлз или неизвестный пока еще Милгон Эриксон.
Терапевт, подверженный инфляции, не склонен задумываться над психологическими механизмами оказываемого воздействия, результат последнего он приписывает исключительной силе и незаурядности собственной личности. Ответа "потому что я гениальный" в большинстве случаев оказывается вполне достаточно. Как пишет Юнг, "все эти атрибуты исходят, естественно, от наивной проекции бессознательного самопознания, которую не совсем поэтично можно выразить примерно так: "Я признаю, что во мне действует некий психический фактор, который самым невероятным образом уклоняется от моей сознательной воли... Я чувствую свое бессилие перед таким положением дел, а всего ужаснее, что я в него влюблен, и мне остается только восхищаться им" [98, с.299-300].
В свете юнговских объяснений многое стало понятным. В частности и то, почему бездоказательная похвальба своими успехами и безудержное самовосхваление (классический пример — откровения Ф.Перлза по поводу своей неотразимости) не вызывают неловкости у последователей калифорнийских школ. Почему некоторые отечественные психологи, профессионально сформиро-
[15]
вавшиеся в поле достаточно фундаментальной методолого-теоретической традиции научного знания, не устояли перед заманчивыми посулами американских терапевтов-коммивояжеров, а уж доверчивые студенты липли на все эти "мастер-классы" как мухи на мед. "Вряд ли можно запретить кому-нибудь хоть немного восхищаться собой за то, что этот кто-то заглянул дальше, чем другие, и у других есть эта потребность — отыскать где-нибудь героя, которого можно потрогать, совершенного мудреца, вождя и отца, фигуру, обладающую несомненным авторитетом" — пишет Юнг в работе "Отношения между Я и бессознательным" [98, с. 306].
Может быть, в стенах университета было легче увидеть, что большинство новых видов неаналитической психотерапии носят ярко выраженный антиинтеллектуальный характер. Безусловно, немалый вклад в разочарование подходами, призывающими к личностному росту посредством повышения аутентичности, доверия чувствам и мудрости природного "ин-се", внесли встречи с многочисленными доверчивыми жертвами этих направлений. Я знаю многих мужчин и женщин, годами якоривших ресурсные состояния на семинарах по НЛП и громко возглашавших "Я тебя принимаю, хоть и не понимаю (?!)" в гештальт-группах. Научившись выражать свои чувства, прорабатывать эмоциональные травмы движениями глаз (ДПДГ) и распознавать ведущие репрезентативные системы, они не избавились от проблем, их симптомы и фобии успешно прогрессировали.
Существенно позже я начала понимать, сколь опасными могут быть бездумно применяемые методы и приемы психологического воздействия. Взять, к примеру, многочисленные диссоциативные техники, столь популярные у сторонников калифорнийских школ. Задумывался ли кто-нибудь из них о том, что произойдет, если принуждать к диссоциации ("Посадите эту часть своей личности напротив себя и попробуйте с ней поговорить") клиента, У которого именно диссоциативные защиты и примитивная изоляция являются основными источниками личностных проблем? Попробуйте представить себе ощущения
[16]
внутренне дезорганизованного, беспомощного, испуганного человека, идентичность которого рассыпается на куски прямо на терапевтическом сеансе, а многочисленные свидетели стимулируют этот процесс и делают критические замечания.
Свою лепту в разочарование "американской психотерапевтической мечтой" внесли и многочисленные книжки — плохо переведенные, неряшливо изданные, безграмотные и убогие (ни правильных ссылок, ни точных цитат, ни даже верно транскрибированных имен и фамилий). Не могу отказать себе в удовольствии процитировать парочку пассажей из книги по НЛП, которая в этом смысле является эталоном5:
"Фобии сами могут обобщаться на другой опыт. Я работал с женщиной, которая была фобиком мостов, где вы можете смотреть через решетку на воду внизу. После делания изменения в опыте с мостом она сказала: "Нет, это звук шин на мосту, который запускал страх". После этого мы работали со звуком, который продуцировал тошноту. Изменение этого ответа на этот звук привело ее назад, к звукам корабельного двигателя в открытом море... она слышала звук мотора, блуждающего по морю. Когда это было изменено, этот весь паттерн был освобожден и не было больше ответа на мосты ";
"Большинство людей, когда они в замешательстве от чего-нибудь, собирают больше информации об этом объекте. Это загоняет их в замешательство даже больше. Трудность не в том, что они не имеют достаточно информации, а в тал, что они не имеют этой информации организованным способом, который полезный" (курсив мой — Н.К.).
И все это — на одной странице (с. 13), и так до бесконечности. Что тут скажешь? Одним словом, через несколько лет знакомства с калифорнийскими школами стало понятно, что у меня тоже "не было больше ответа на мосты". Они благополучно канули в прошлое.
Повседневная практика заставляла все больше обращаться к глубинной психологии. Во-первых, надо было читать лекции, то есть рассказывать о теоретических основах психотерапевтического воздействия. Психоаналитические положения составляют стройную систему, их
[17]
можно сравнивать, обобщать, расширять, находить противоречия или сходные основания. Среди них можно выбирать, даже капризничать (если угодно): "Какой-то этот Эрнст Джонс весь вторичный". А у последователей Перлза или Роджерса среди теоретиков кто вторичный? В аналитических школах — множество авторов, сочетающих строгую принадлежность к ортодоксальной теории с оригинальными собственными идеями, порой жертвующих этой принадлежностью во имя последних — и все-таки остающихся в рамках школы (М.Кляйн, М.Балинт, Д.У.Фэйрберн). Что у представителей калифорнийских школ? Что составило бы содержание университетской лекции под названием "Развитие теории и практики НЛП в последнем десятилетии XX века"?
Во-вторых, размышляя об итогах практической деятельности, я понимала, что по-настоящему работает только анализ. Если он сочетается с другими формами терапевтической работы, или вплетен в них отдельными элементами, то эти другие формы и способы действуют лучше. Неизбежные вопросы студентов: "А что, защиты, которые в психоанализе и те, что по Перлзу, одинаковые?" здорово приелись. Стала очевидной необходимость предложить им самим проверить, откуда что взялось. То есть дать специальную исследовательскую работу на данную тему.
Вывод ликующего дипломника гласил: впервые защиты (само понятие, их виды и механизмы) выделены, описаны и проанализированы в психоанализе, а гештальт-терапия акцентировала внимание лишь на нескольких из них (проекция, симбиоз и т.п.). Дальнейшая стратегия работы с последствиями защит в обеих школах сильно различается, однако трудно представить себе, что осознание, проработка и изживание защитного поведения могут быть настолько же успешными при кратковременной групповой работе, как и в длительном индивидуальном анализе. Диплом активно читали следующие поколения. Студенты на собственном опыте учились отделять эффективную терапию от эффектной.
Используя психоаналитическую теорию, методы и приемы аналитической работы в своей практике, я очень
[18]
скоро столкнулась с серьезным противоречием: можно ли сочетать групповую и краткосрочную форму терапии с ее аналитическим содержанием? Практика свидетельствовала, что можно, даже необходимо. При этом теоретические предписания психоанализа нарушались.
Знакомство с подходами, объединяемыми названием "психодинамическая психотерапия", избавило от некоторых сомнений, хотя и не от всех. Богатство и своеобразие современной психоаналитически ориентированной терапии, тонкие разграничения ее видов и форм, показанных при работе с различными категориями клиентов (пациентов), обширный перечень теоретических трудов, обобщающих опыт работы с самыми разными проблемами — все это помогало лучше сориентироваться в процессе выбора собственного пути. В конечном итоге я осознала, что могу попытаться описать свой метод работы как вполне устойчивый индивидуальный стиль психотерапевтической деятельности. Нашлось и подходящее название — терапевтический анализ.
1.2. Понятие терапевтического анализа
Что же такое терапевтический анализ? Это психотерапевтическая работа, которая опирается преимущественно на психоаналитические приемы и методы (анализ сновидений и ассоциаций, интерпретации защит и сопротивлений, трансферентных отношений, ошибочных действий и т.п.). Однако в ней не используются многие классические формы и условия: кушетка, нецеленаправленный монолог пациента, строгое расписание частоты сессий. Клиенты рассказывают о проблемах, которые их волнуют и заботят в настоящее время, а терапевт реагирует своими интерпретациями не как "бесстрастное зеркало", а как заинтересованный и компетентный слушатель и помощник. Он активно включен в беседу, задает вопросы, при необходимости — дает теоретические объяснения (например, рассказывает о различных формах защит или динамике развития объектных отношений) с учетом уровня
[19]
понимания клиента. Иногда рекомендует прочесть ту или иную литературу, не слишком специального характера — например, многие клиенты стали лучше понимать свои трудности и справляться с ними, прочитав содержательную, просто и ясно написанную книгу Фрица Римана "Основные формы страха"6.
Важной особенностью предлагаемого подхода является то, что его операциональная сторона — речь терапевта, использование метафор, интерпретация трансферентного сопротивления — в большей степени определяются структурным (лингвистическим) психоанализом Ж-Лакана, нежели классической фрейдовской доктриной. С моей точки зрения, между Лаканом и Фрейдом нет каких-либо существенных противоречий, и Лакан действительно верен тому лозунгу ("Назад, к Фрейду!"), под которым в 50-е годы осуществил свою знаменитую реформу психоанализа. Идеи Лакана позволяют не только лучше понимать глубинные основания психологических и личностных проблем, но и предлагают гораздо более эффективные формы психотерапевтического воздействия.
Возьмем в качестве примера самый простой вопрос — кто является вторым (кроме аналитика) субъектом психотерапевтического воздействия? Лакан хорошо понимал, насколько неоднозначной в терапии является позиция клиента, равно как и иллюзорный характер представлений о его личности, сформированных на основе наивных наблюдений:
''Для нас важно знать, где находится субъект аналитического отношения. И в этом вопросе наивная позиция: субъект? Да вот же он, перед вами!— словно пациент — это что-то однозначное, словно сам аналитик сводится к группе индивидуальных характеристик, — совершенно недопустима" [35, с. 193].
Он подчеркивал, что клиент — прежде всего говорящий субъект, а его позиция — место, откуда доносится речь, т.е. природа терапевтического взаимодействия — всецело лингвистическая. Найти и определить занимаемое клиентом "в поле речи и языка" место совсем непросто, и сама эта работа — залог возможности терапевтиче-
[20]
ского воздействия и его успеха. Клиент — это тот, кто говорит; вернее, говорящий и является субъектом терапии, и понять его природу — половина всей работы психоаналитика:
"Кто же он, этот субъект? Вот тот вопрос, которым мы занимаемся здесь во всех его формах, во всех антиномиях, которые он выявляет. Мы прослеживаем все точки, где он отражается, преломляется, вспыхивает, надеясь тем самым суметь почувствовать ту единственную, где он кроется и к которой прямо не подступиться, ибо к ней нельзя подступиться, не задев при этом самих корней языка" (там же).
Первую попытку ассимилировать ряд теоретических положений структурного психоанализа я предприняла немного раньше [23]. Лингвистическая модель психотерапии вызвала неоднозначную реакцию (кто-то ругал, кто-то хвалил, кто-то ничего не понял), но мне стало очевидно, что идеи Лакана и его последователей в нашей стране находят больше почитателей среди философов и лингвистов, чем среди психологов и психотерапевтов [см. 49, 51, 58 и др.]. Анализ психотерапевтического дискурса требует специальных лингвистических знаний; кроме того, его методы и приемы уже были описаны достаточно подробно. Так что я, посвятив ему отдельную главу в конце книги, решила не перегружать этим материалом содержание других разделов. Из-за чего большинство комментариев к приводимым фрагментам психотерапевтических бесед пришлось упростить. Но ведь нельзя объять необъятное.
В терапевтическом анализе основой для интерпретаций могут быть представления различных школ глубинной психологии — от классических фрейдовских идей до теории парциальных личностей постъюнгианца Дж.Хиллмана и шизоанализа Ж-Делеза и Ф.Гваттари. Опыт показывает, что выбор концепции, в которой осмысливаются жизнь и проблемы клиента, определяется спецификой его запроса и особенностями мышления и понимания. Различным клиентам подходят разные теории: рассказ одного направляет мышление терапевта в сторону теории
[21]
объектных отношений, проблемы другого больше похожи на следствия "игр", описанных Э.Берном, третий выглядит и ведет себя так, как будто сошел со страниц адлеровских работ. Иногда приходит человек, который уже пытался осмыслить свои трудности, скажем, в рамках юнгианских представлений — он хочет обсуждать проблемы собственной индивидуации, и к этому желанию следует отнестись с уважением. Если клиент интересуется психологией, то полезно анализировать его проблемы с точки зрения нескольких теорий, сравнивая и сопоставляя получаемые в ходе анализа трактовки.
Предлагаемый в рамках данного подхода теоретический плюрализм может показаться просто очередной попыткой эклектического "смешения языков". Мне бы не хотелось создавать такого впечатления. Я отнюдь не призываю к тому, чтобы в беседе с клиентом юнгианские, структурно-аналитические и опирающиеся на сэлф-теории интерпретации сменяли друг друга, сбивая его с толку и создавая ненужную путаницу. Начиная терапию, можно выбирать любое из подходящих направлений, но в течение всей работы следует оставаться в рамках сделанного выбора.
Разумеется, студенту-психологу, который не только проходит терапию, но и пробует одновременно развивать навыки профессиональной рефлексии психотерапевтической деятельности, можно и нужно предлагать "параллельные интерпретации", иначе разница между структурной и объектной теорией в психоанализе так и останется для него избыточным теоретическим изыском. А вот в работе с обычным, далеким от психологии клиентом, приводить несколько теоретических объяснений его поведения или намерений стоит лишь в случае сильного сопротивления. Опыт показывает, что наилучший способ преодолеть нарциссическую грандиозность клиента в терапевтическом анализе — это сначала потешить ее, предложив две-три (а то и четыре) подробные интерпретации этого феномена с позиций различных психоаналитических школ.
И еще один момент, принципиально важный для определения сущности предлагаемого направления. В тера-
[22]
певтическом анализе не используются другие, неаналитические теории и — особенно — техники и приемы работы. Никакой работы с субмодальностями, эриксоновского гипноза, рефрейминга и техники "взмах". В противном случае это уже даже не эклектика.
Опытным психотерапевтам столь категорическая позиция, я думаю, понятна. И все же ее стоит прокомментировать. Дело в том, что сформированная профессиональная идентичность терапевта практически всегда7 предполагает устойчивые индивидуальные предпочтения в системе дискурсивных практик психотерапии. Организатор нескольких конференций, на которых рассматривались итоги столетнего развития психотерапии, Дж.Зейг правильно отмечает, что непримиримые теоретические противоречия между сторонниками различных школ — самая яркая и стабильная ее характеристика на сегодняшний день:
"Каждая из многообразных школ твердо держится за свои теории методы. Взаимообогащение идеями наблюдается в редких случаях. Превыше всего ставится чистота позиций. Эклектизм считается признаком отсутствия "породы"... Знакомство с докладами убеждает: мало кто ссылается на работы представителей других школ, а тем более — признает их теоретическое влияние" [91, т. 1, с. 9].
И это естественно — таковы особенности любой идентичности, которая состоит в отождествлении себя с какой-либо одной группой (профессиональной, этнической религиозной) и одновременном обособлении от остальных, противопоставлении "мы" и "они".
Цитируемый автор считает такое положение дел непозволительной роскошью, демагогически упирая на то, что раз психотерапия вышла "на передовой рубеж борьбы за здоровье человека", то "для достижения цели позволительно использовать все методы и техники, прошедшие испытание временем" (там же). Использовать, наверное, можно, но зачем же смешивать? Не окажется ли гибрид психоанализа и НЛП этакой внутривенной клизмой или сочетанием слабительного со снотворным?
[23]
К счастью, сами психотерапевты весьма решительно противостоят такому смешению. Многочисленные попытки вынужденного диалога между представителями различных направлений, примером которого служит упомянутая выше конференция, руководимая Дж.Зейгом, как правило, заканчиваются ничем. Характерен в этом смысле диалог психоаналитика Дж.Мастерсона и семейного терапевта Дж.Хейли, приведенный в первом томе материалов конференции [91, т.1, с. 47-56]. Выдержанные в классическом стиле "А ты кто такой, в нягуре?" вопросы и возражения Хейли по докладу Мастерсона можно свести к нескольким пунктам, а именно:
— у меня нет ничего общего с психоаналитиками;
— я не собираюсь обсуждать данный доклад;
— психоанализ умер в 1957 г.***, "и похороны все еще продолжаются в больших городах";
— у психоаналитически мыслящих психиатров "имеется род фиксации на идеях", но этот вид терапии почему-то продолжает оплачиваться медицинской страховкой;
— пограничной личности не существует — и так далее.
Ответ Мастерсона тоже достаточно красноречив: "Господин Хейли, Вы уверены, что не были тем самым "черным рецензентом", который "зарубил" мои рукописи?... Я чувствую, что с Вашими взглядами что-то не так... Ваш способ игнорировать содержание моего доклада... обусловлен невозможностью выйти из узких рамок семейной терапии — единственной теории, в которой Вы хоть что-то понимаете" [91, т.1, с.53-55].
Столь обширная выдержка хорошо иллюстрирует перспективы слияния различных психотерапевтических школ. Вероятность этого вряд ли стоит обсуждать всерьез. Что же касается глубинно ориентированных подходов, то все они возникли в процессе дифференциации единого прежде психоаналитического знания и могут использоваться параллельно или в сочетании друг с другом.
Терапевтический анализ — это, в какой-то степени, попытка соединить феноменологические методы получе-
*** Почему именно в 1957? Тем более, что это год моего рождения...
[24]
ния знания из опыта с герменевтическими принципами психоанализа. В этой книге, предназначенной для обучения и адресованной прежде всего студентам, я попробую дать общее представление о сущности подхода, отложив на время его строгий методологический анализ. Необходимость последнего для меня очевидна, но это дело будущего. Ряд связанных с методологией и методами проблем обсуждается в следующем параграфе.
Как известно, психоаналитическая терапия в большинстве случаев проводится индивидуально. Известный психоаналитик Отто Кернберг однажды сказал, что не стал бы использовать групповую психотерапию даже под дулом пистолета. Однако известны примеры, когда этот принцип нарушался, особенно в процессе обучения психотерапевтов (например, знаменитые парижские семинары Ж.Лакана). Я думаю, что терапевтический анализ — вполне приемлемая форма психоаналитической работы с учебной группой, он открывает широкие возможности для дидактического анализа будущих терапевтов. В групповой терапии многое зависит от начальной мотивации участников, а обучение навыкам и приемам аналитической работы — хороший стимул к успеху.
В индивидуальной форме терапевтический анализ может продолжаться от 1-2 месяцев до полугода (в среднем при частоте встреч 1-2 раза в неделю). От терапевта требуется хорошая теоретическая подготовка и пристальное внимание к рассказу клиента на протяжении всего сеанса. "Свободно плавающего" внимания недостаточно, поскольку нужно направлять ход сеанса, если клиент отходит в своем рассказе от проблем, которые послужили поводом для обращения за помощью. Конечно, не стоит напоминать своими вопросами требовательного, контролирующего начальника (родителя), ведь даже при прочном и устойчивом терапевтическом альянсе клиенты, рассказывая о глубоко личных вещах, не уверены твердо в безоценочном принятии своих действий и поступков, бессознательные мотивы которых постепенно проясняются. На протяжении всего анализа они нуждаются в сохранении теплых, сердечных отношений.
[25]
Особую проблему терапевтического анализа представляют неизбежно возникающие трансферентные реакции. Описываемая форма терапии не предполагает стимулирования глубокого трансферентного невроза, однако сам феномен трансфера неизбежно присутствует. Аналитику следует быть очень внимательным и подробно комментировать малейшие проявления трансферентных чувств. Нужно снова и снова объяснять клиентам подлинную природу этих переживаний, неустанно подчеркивая, что отношения закончатся по окончании терапии, и от правильного понимания ими своих чувств зависит не только успех анализа, но и дальнейшее эмоциональное благополучие.
Наиболее эффективной теорией, позволяющей разрешать проблемы, связанные с переносом и окончанием анализа, практикуемого в групповой или краткосрочной форме, оказались лакановские представления о переходе за грань желания. В шестой главе я остановлюсь на этой теории более подробно, а здесь лишь замечу, что главный момент "перехода" (так Ж.Лакан называет окончание терапии) состоит в акцентировании когнитивной активности клиента в отношении особым образом выстроенной речи терапевта. Переход желания в знание — вот цель, достижение которой знаменует успех анализа.
В заключении этого параграфа, посвященного описанию насущной необходимости терапевтического анализа в многоликом феноменологическом пространстве современной отечественной психотерапии, я хочу процитировать слова Н.Мак-Вильямс, вынесенные на обложку ее книги "Психоаналитическая диагностика": "Подобно политике, психотерапия является искусством возможного. Самым большим преимуществом для терапевта при теоретическом осмыслении клиентов с точки зрения развития является возможность понять, чего было бы разумно ожидать в случае оптимальной терапии для каждого из них.. Как врач ожидает от сильного и крепкого человека более быстрого и полного выздоровления после болезни, как преподаватель полагает, что сообразительный студент усвоит больший материал, чем тугодум, так и терапевту стоит ожидать разного результата от людей с различным
[26]
уровнем развития характера. Реалистичные цели защищают пациента от деморализации, а терапевта — от перегорания". Именно в этом — в добросовестном глубинно-психологическом анализе проблем клиента и постановке реалистичных целей терапии — и заключается сущность терапевтического анализа.
1.3. Модели психотерапевтического взаимодействия
Поскольку терапевтический анализ как направление в психотерапии является сочетанием общих принципов психотерапевтической деятельности с аналитическими формами и способами ее осуществления, было бы полезно рассмотреть существующие модели психологической помощи на предмет возможности их использования в данной форме терапевтической практики. В этом параграфе я не ставлю цель рассмотреть все существующие модели и способы их классификации, а хочу прояснить, как конкретно описываемое направление соотносится с уже устоявшимися стандартами оказания психотерапевтической помощи, принятыми в различных профессиональных группах.
Выделение и сопоставление моделей психотерапевтической деятельности на основе их принадлежности группам профессионалов не случайно. На мой взгляд, такой подход обеспечит наиболее продуктивное понимание аксиологических (ценностных) и праксиологических (связанных с содержанием деятельности) аспектов той психосоциальной практики, которая называется психотерапией. В конце концов, именно психотерапевты лучше других знают, что конкретно они делают в общении с клиентами, и способны рефлексировать теоретические и методические основания своего труда. В противном случае психотерапевтическая деятельность утрачивает рациональные корни и вырождается до уровня своих исторически первичных форм — магии и знахарства.
Феноменология психотерапии чрезвычайно многообразна. Современные реалии бытия благоприятны для развития
[27]
этой формы социальной практики. Бурный рост объема психотерапевтической помощи в бывших социалистических странах является естественной реакцией противостояния сложившейся системе социальных взаимодействий в обществе, в котором, как пишет известный психотерапевт А-Ф.Бондаренко, обычная позиция личности — жертва.
Естественно, растет и число специалистов в области психотерапии. Традиционно профессиональными субъектами в этой области являются врачи (прежде всего психиатры), а также психологи и священники. И хотя между ними не существует больших расхождений в понимании целей и задач психологической помощи, модели психотерапевтической деятельности у этих трех профессиональных групп существенно отличаются.
Религиозно окрашенные формы психологической помощи в нашем обществе обособлены от других психотерапевтических направлений. Парадигма святоотеческой психотерапии предполагает специфический взгляд на причины возникновения личностных проблем и психических заболеваний, их природу и сущность, описываемые посредством таких понятий, как грех, вина, наказание, искупление, покаяние и т.д. Пастырская помощь, в свою очередь, опирается прежде всего на систему нравственных и религиозных идей, далекую как от психологических теорий, так и от психиатрических представлений о психическом здоровье, норме и патологии.
Традиция духовной помощи, сложившаяся в церкви, предусматривает наставления, связанные с таинством исповеди, пастырское окормление. Исповедь в православной или католической традиции является таинством, поскольку здесь происходит нравственное преображение личности, "второе крещение". Изложение грехов перед исповедником в православии называется "поновлением". В процессе исповеди между духовником и исповедующимся устанавливается известного рода гармония. Это бывает, когда духовник, подобно психотерапевту, живо входит в переживания кающегося, причем проявляет не только строгость судьи, но и попечительность, сострадательность любящего отца.
[28]
Пастырское окормление в православной традиции представлено "духовным отцовством". Это длительные, устойчивые и значимые отношения, которые могут быть описаны в категориях благословения (укрепление решимости) или совести. Суть православного пастырского "окормления" митрополит Антоний (Храповицкий) назвал даром сострадающей любви.
Однако резких, непримиримых противоречий между религиозными и внеконфессисональными моделями психологической помощи не существует. Можно считать, что именно из пастырства психотерапия заимствовала целый ряд своих этических принципов: идею служения, нравственное воздействие словом, сокровенность встречи, искренность и сопереживание страждущему, необходимые советы по моральной поддержке — все то, что называется духовным врачеванием.
Тем не менее, религиозно-пастырская модель психологической помощи практически не оказала влияния на теоретические основы большинства современных психотерапевтических школ и используемые в них психотехнические приемы. Этические принципы и базовые коммуникативные установки (эмпатия, безоценочность и т.п.) остаются главной точкой пересечения пастырской помощи и психотерапии. Что же касается основополагающих гносеологических и эпистемологических (связанных с познанием) сторон терапевтической деятельности, то даже в работах самых известных священников-психотерапевтов, таких, как Пауль Тиллих и Ролло Мэй, эти аспекты фактически свободны от религиозных идей и церковных правил.
Я думаю, что для терапевтического анализа с его четко выраженной ориентацией на глубинно-психологические теории и аналитические методы работы, возможности синтеза с религиозно окрашенными формами терапии минимальны. Для работы с определенными категориями клиентов скорее подойдут юнгианские способы осмысления человеческой духовности и ее архетипических основ. Хотя синкретизм юнговских идей и свойственное аналитической психологии беспристрастное понимание религиозных феноменов как специфических форм групповой
[29]
и индивидуальной психической реальности могут стать препятствием для ортодоксально мыслящих христиан, особенно православных.
Рассмотрим теперь модели психотерапевтической деятельности, свойственные психологам и психиатрам. Во-первых, есть существенные различия в понимании психотерапевтического взаимодействия между представителями различных отраслей психологии. Клинические, социальные и педагогические психологи, как правило, акцентируют внимание на разных аспектах психотерапевтической работы. Могут различаться преставления о целях и задачах терапии, или же внутри сходного круга задач выбираются неодинаковые приоритеты.
Психологическая модель психотерапевтической помощи обычно и описывается как собственно психотерапия. Различия в формах и методах обусловлены выбором соответствующего направления (психоанализ, гештальт, роджерианство), при этом существуют устойчивые предпочтения: клинические психологи ориентированы преимущественно на когнитивное направление, телесные техники и психоанализ; социальные — на индирективные подходы и трансактный анализ; патопсихологи естественно тяготеют к поведенческой терапии; у психологов, работающих с детьми, большой популярностью пользуются различные школы семейной терапии. Довольно большая часть клинических психологов предпочитает психиатрическую модель психотерапии с выраженной психоаналитической направленностью.
На мой взгляд, больше всего различаются между собой модели терапии у психологов и психиатров. Будучи сама психологом, я попробую эксплицировать и описать свойственные психиатрам* представления и установки в сфере
* Излагаемые далее представления почерпнуты главным образом из практики общения с членами Крымской республиканской Ассоциации психиатров, психотерапевтов и психологов. Беседы с этими уважаемыми коллегами и чтение их работ оказали неоценимую помощь в понимании того, что такое психотерапевтическая помощь и психотерапия в целом. Особую благодарность и признательность я хочу выразить Г.М.Коробовой, А.А.Коробову и В.П.Самохвалову.
[30]
психотерапии. Я хорошо понимаю, что это будет взгляд со стороны, точка зрения человека, имеющего весьма скромные знания о медицине и психиатрии, так что данное описание вряд ли совпадет с мнениями самих врачей. Тем не менее, учитывая наличие общности профессиональных интересов психиатров и психологов (психотерапевтическая помощь), это может оказаться полезным.
В литературе эта проблема (где именно между психологией и психиатрией располагается психотерапия) освещена достаточно подробно8. В качестве характерного примера можно процитировать названия статей, составляющих сборник по итогам общеевропейской дискуссии о проблеме научного статуса психотерапии [55]: "Психотерапия как наука, отличная от медицины" (Э.Вагнер); "Является ли психотерапия самостоятельной научной дисциплиной?" (Э.ван Дойрцен-Смит, Д.Смит); "Место психотерапии между психиатрией и психологией" (А.Фильц), "Психотерапия — наука о субъективном" (А.Притц, Х-Тойфельхарт), "Самостоятельность психотерапии в науке и практике" (Р.Бухман, М.Шлегель, Й.Фетгер).
С одной стороны, связь между психотерапией и медициной (в особенности психиатрией) настолько глубока и очевидна, что отнесение психотерапевтической практики "к ведомству" патопсихологии, клинической психологии и психиатрии вполне естественно. Тем не менее, в психиатрии есть устойчивое мнение о том, что последняя имеет с психотерапией мало общего. Эта точка зрения опирается на нежелание многих психиатров объяснять душевные болезни в терминах духа (как это делал, к примеру, Юнг) и лечить их с помощью речевого воздействия (talking cure). Одна из авторов вышеупомянутого сборника пишет:
"Развитие психотерапии в основном происходило за пределами академической психиатрии и зачастую пренебрежительно рассматривалось психиатрами как поворот назад, к философии природы. Психиатры, которые, подобно Юнгу и Блейлеру, практиковали и психотерапию, руководствовались побуждениями, полученными вне психиатрии. Мне неизвестен ни один психотерапевтический подход, который бы осно-
[31]
вывался на психиатрической теории — и это совсем не удивительно: психиатрия располагает каузальными или функциональными объяснениями для расстройств нервной системы, а также выведенными из них (или хотя бы связанными с ними) физикалистскими методами лечения" [55, с.45].
В то же время академические психологи, рассматривая психотерапию как один из аспектов медицины, полагали, что, в силу наличия интенционалистских моделей и личностно обусловленных детерминант психотерапевтического дискурса, она не вписывается в систему строгого психологического знания. В истории психологии известен факт игнорирования фрейдовской теории как субъективистского и вообще "метапсихологического" подхода.
Известный психиатр и психотерапевт-психоаналитик Александр Фильц выводит специфику психотерапии из особенностей ее предмета, каковым, по его мнению, является страдание (pathos). Его рассуждения сводятся к следующему:
• психология (называемая также "нормальная психология") есть наука о нормальной (здоровой) психической и душевной жизни;
• психиатрия, предмет которой несводим к "тотальной патологии" или "чистой не норме", занимается изучением болезненного в нормальном. Именно это называется в медицине нозологической формой или основной диагностической категорией;
• психотерапия описывает и концептуализирует отдельные факты болезненного и нормального на основе опыта лечения, непосредственно вытекающего из межчеловеческих отношений. Она имеет дело со страданием ("патос"), которое, в отличие от "нозоса", указывает на отношение страждущего к своему расстройству. Предмет психотерапии — страдание — это нормальное среди болезненного.
Исходя из этого, А.Фильц так описывает цели терапевтической помощи внутри самой психотерапевтической среды:
[32]
"Патос — это целостная экзистенция с расстройством и в расстройстве, в то время как нозос отображает лишь одно из возможных расстройств экзистенции. Страдать можно и от неболезненных обстоятельств, скажем, от ограничения свободы или "плохих" отношений.
Патос — это выживание нормального и преодоление расстройства вопреки болезни, со стороны здоровых частиц человека. Нозос же — это преодоление здорового больным со стороны болезненных процессов. И последнее — больное само по себе не страдает; это здоровое страдает от больного.
Отсюда следующая гипотеза: главным делом и сферой психотерапии является в какой-то степени обратная сторона предмета психиатрии. Последняя идет от здорового к болезненному, а психотерапия — наоборот. Поэтому предмет психотерапии кристаллизуется как нормальное (здоровое) среди болезненного" (55, с. 290, подчеркнуто мной — Н.К.).
Это определение представляется весьма продуктивным не только "на уровне здравого смысла", как считает его автор. Оно хорошо и точно "разводит" психиатрию и психотерапию не столько на уровне методов и целей (что, на мой взгляд, недостижимо), сколько на основе понимания основной интенции субъекта профессиональной деятельности, понимания им смысла последней.
На практике психиатрическая модель психотерапии отличается рядом характерных особенностей. В понимании и особенно описании проблем психиатры, как правило, совершенно игнорируют личность и отталкиваются только от поведения. Столь естественный для психолога вопрос о мотивах повисает в воздухе. Иногда в разговоре с очень квалифицированным специалистом возникает впечатление, что для понимания и объяснения поведения пациентов (которые все-таки люди!) достаточно только этологии (науки о поведении). А как же психика, сознание? — Ну хорошо, пусть это будет этология человека (хотя, по-моему, чаще используется выражение "поведение высших приматов").
Специфическая особенность психотерапевтического дискурса психиатров — стремление не использовать для понимания человеческих проблем слов и понятий, описывающих человеческую духовность. Так, в монографии
[33]
В.П.Самохвалова "Эволюционная психиатрия"9, имеющей подзаголовок "История души и эволюция безумия", само слово "душа" встречается лишь единожды — в названии книги.
И вместе с тем стремление исследовать природу высших форм личностной активности у психиатров-психотерапевтов очень велико. Правда, при этом очень часто ведущим объяснительным принципом может выступать простая аналогия (О.В.Хренников, 2000), а то и просто пассажи из повести Венедикта Ерофеева "Москва-Петушки" (О.А.Гильбурд, 1994, статья "Духовный смысл русского алкоголизма").
Для наглядности существующие различия в моделях можно обобщить следующим образом:
|
|
Идея (цель)
|
Объект воздействия
|
Формы действия
|
Результат
|
|
Религиозная
|
Служение, забота, "окормление"
|
Душа
|
Церковные таинства и и обряды
|
Спасение души
|
|
Психологическая
|
Помощь
|
Личность
|
Межличностное общение
|
Развитие и личностный рост
|
|
Психиатрическая
|
Лечение
|
Поведение и психика
|
Модифицирующее влияние
|
Нормальность
|
Впрочем, все это — не более чем взгляд постороннего. Возможно, наши (психологические) теории и дискурсивные практики выглядят для психиатров не менее странными. Важно другое. Междисциплинарная кооперация в сфере психотерапии имеет большое будущее, и существующие профессиональные модели психотерапевтической помощи способны взаимно дополнять и обогащать друг друга. Это, по всей видимости, должно стать одним из ведущих направлений развития теории и практики психотерапии.
Глава 2. Теория и техники терапевтического анализа
2.1. Структурирование отношений
Описание теории и практики терапевтического анализа уместно начать с обсуждения различий между собственно психоанализом и предлагаемым подходом. Поскольку терапевтический анализ — не что иное как видоизмененная (сокращенная и упрощенная) психоаналитическая процедура, которая применяется в условиях групповой работы или как форма краткосрочной терапии, то различия, хотя и весьма существенные, касаются прежде всего способов аналитической работы, а не ее содержания и теоретических основ. Кроме того, цели и задачи терапевтического анализа формулируются несколько иначе, чем в классическом (фрейдовском) варианте психоаналитического лечения, они менее глобальны и более конкретны. Поэтому начальный этап анализа — терапевтический альянс, договор аналитика и клиента — имеет свою специфику.
Понятие терапевтического альянса в психоанализе используется для обозначения рационального, нетрансферентного отношения пациента к процессу лечения и фигуре аналитика. Формы сотрудничества и взаимные обязательства оговариваются перед началом психоаналитического лечения, которое, как это знает пациент, будет длительным. Психоаналитик предупреждает о трудностях, которые могут встретиться в анализе и объясняет, как будет происходить его завершение. Пациент, начавший курс психоанализа, готов к обстоятельному и подробному обсуждению любых, даже самых интимных моментов своей жизни и знает, что аналитическая работа не должна прерываться в одностороннем порядке, по его желанию, прихоти или капризу. По крайней мере, он об этом предупрежден.
[35]
В наших условиях терапевтический договор заключается, как правило, вокруг одной актуальной проблемы (реже двух или трех, взаимосвязанных между собой). Клиента, например, тревожит его робость в социальных контактах или иррациональные страхи по поводу здоровья и благополучия близких. Или прагматический вопрос: как сделать, чтобы муж регулярно приносил домой зарплату? К глубинному анализу бессознательных аспектов своей жизни клиент не готов и не чувствует необходимости обсуждать собственные побуждения и мотивы. По большей части он стремится ограничить терапевтическое вмешательство. Женщина, которая жалуется на низкую успеваемость сына и хотела бы получить совет на эту тему, не предполагает, что анализ коснется нарушений внутрисемейной коммуникации и затронет болезненную, тщательно скрываемую проблему ее эмоциональной и сексуальной неудовлетворенности в супружеских отношениях. Студент, обсуждающий на занятиях по психотерапии ссору с приятелем, спохватывается уже после того, как амбивалентная природа их "мужской дружбы" проинтерпретирована сокурсниками в рамках классической фрейдовской теории влечений.
Понятно, что о степени глубины аналитического вмешательства клиента следует предупреждать заранее. Равно как и о том, что представляет собой аналитическая работа и на чем она основана. Как правило, после этого многие люди колеблются в нерешительности, но обычно побеждает желание разобраться в себе и получить помощь. Успешному формированию рабочего альянса способствует акцентирование внимания на конкретной психологической теории, которую предполагает использовать терапевт, общие разъяснения того, какую роль в формировании конкретного поведения личности играет бессознательное — как скрытые, плохо осознаваемые или не признаваемые желания и мотивы, так и более глубинные образования сложной символической природы. Уместно сказать клиенту о том, что после недвусмысленно выраженного запрета обсуждать те или иные аспекты его внутреннего опыта анализ будет прерван, и терапевтическая работа продолжится только с его разрешения.
[36]
Таким образом, перед нами противоречие: как можно сочетать глубинный анализ с поверхностной мотивацией запроса на терапию? Наиболее очевидный способ его преодолеть — объяснить клиенту, что разумнее пережить и испытать представляющиеся болезненными аспекты личностного функционирования, чем посредством вытеснения ограничивать пространство своих возможностей. Дж.Сандлер10 пишет о необходимости соблазнять клиента в психоаналитическое лечение [123]. Однако такое соблазнение усиливает перенос и зачастую способствует глубокой регрессии, что больше подходит для классической психоаналитической терапии, нежели для ее сокращенных вариантов.
И все же несколько точных, неожиданных интерпретаций, предложенных в самом начале работы, хорошо выполняют роль соблазна. Трудно удержаться от возможности поговорить о себе самом с человеком, который так сильно заинтересован и так хорошо понимает "тонкие движения души". Доброжелательное внимание к подробностям жизни клиента, профессиональное аналитическое выслушивание, интеллектуальная респектабельность интерпретативных техник — все это способствует установлению прочного терапевтического альянса.
Мой опыт практической работы показывает, что решение начать анализ зависит от того, насколько успешно и быстро вскрывается бессознательная основа подлинной экзистенциальной жалобы клиента. Терапевтический анализ, в отличие от неаналитических форм терапии, основное внимание уделяет не столько различию между тем, на что жалуется клиент и тем, что в действительности является для него проблемой (помехой или препятствием в процессе приносящего удовлетворение и радость личностного функционирования), сколько изучению глубинных бессознательных причин этой проблемы. Приведу несколько примеров.
Клиентка А. обратилась за помощью в связи с предполагаемой изменой мужа. Довольно быстро в процессе работы с ней стало понятно, что женщина втайне считает себя плохой и полагает, что муж поэтому вправе ей изменять.
[37]
Иными словами, она чувствует себя виноватой в неверности мужа, во-первых, и в том, что не может "исправиться", и винит мужа, упрекая его в измене, во-вторых. Однако выяснение бессознательных истоков ее всепоглощающего чувства вины заняло гораздо больше времени. В конце концов выяснилось, что бессознательная вина госпожи А. возникает в ситуациях, когда она теряет контроль над происходящим (в особенности это касалось межличностных отношений). Типично анальная проблематика (чувство вины в связи с потерей контроля и тайным удовольствием от этой ситуации) представлена в ощущении "замаранности, грязи", которое навязчиво сопровождает клиентку в эпизодах, связанных с выяснением отношений. Характерно, что ее профессия (в которой госпожа А. очень успешна), обеспечивающая самоуважение и высокий социальный статус, связана с рекламой и торговлей дорогой косметикой и парфюмерией — "средствами чистоты".
Клиентка Б., молодая девушка, испытывала множество различных страхов по поводу своего будущего. Она демонстрировала неуверенность в себе, неспособность принять мало-мальски серьезное жизненное решение, постоянно откладывала любые ситуации, связанные с необходимостью сделать выбор и нести ответственность за него. Уже самое начало анализа показало, что проблемы госпожи Б. не связаны с ее незрелостью, а обусловлены страхом зависимости. Перспектива зависеть от начальника, принимать помощь родителей и даже любимого человека (он был состоятельным и предлагал Б. материальную помощь) повергала ее в панику. Аналитическая работа лишь постепенно выявила глубинную тревогу — страх преследования со стороны людей, которых Б. сильно идеализировала. В ее жизненном опыте был случай, когда идеализируемый и любимый поначалу приятель превратился в жестокого и беспощадного мучителя. После этого госпожа Б. стала панически бояться близких отношений с людьми, которые были объектами ее идеализирующего восхищения, так как воспринимала близость с ними как предвестие тяжелой и унизительной зависимости.
[38]
Иногда природу глубинной бессознательной проблемы клиента и ее связь с со скрытыми опасениями и страхами можно распознать с помощью сновидений11, сопровождающих начало анализа. Весьма продуктивна в этом смысле точка зрения Д.Анзье, рассматривавшего сновидение как пелликулу, тонкую пленку — аналог поверхностного эго, оберегающую психику спящего от потрясений и травм, сопровождающих "дневные отпечатки". Пленка сновидения — это защитный экран, благодаря которому внешние раздражители и внутренние инстинктивные побуждения становятся явлениями одноуровневого порядка. "Одна из функций сновидения, — пишет Анзье, — состоит в том, чтобы попытаться восстановить поверхностное эго, и не только из-за опасности разрушений, которой оно подвергается во время сна, но в основном потому, что оно до некоторой степени изрешечено дырами от различных воздействий в часы бодрствования" [63, с.204]. Сновидения в период начала анализа "латают дыры", образованные бессознательным страхом перед тем, что может быть обнаружено в ходе терапевтической работы.
Клиент В., жаловавшийся на одиночество и непонимание, рассказал о навязчиво повторявшемся сюжете сновидения, в котором он бродил по улицам незнакомого города с большим мечом или топором (иногда это был автомат или другое смертоносное оружие) и убивал людей, преимущественно молодых девушек, которые нравились ему или любили его. Иногда во сне его самого убивала девушка, к которой он испытывал, по его собственному выражению, "щемящее чувство любви и ощущение обреченности". Иногда сновидение прерывалось в момент кульминации любовного чувства и надвигающейся трагедии. Он много размышлял над этими снами, искал литературные параллели ("Баллада Редингской тюрьмы"). Вскрытый в процессе анализа злокачественный нарциссизм (неспособность отдавать либидо объектам в силу того, что его при этом приходится отнимать от собственного Я) не был для аналитика неожиданным поворотом в терапии. Сновидение выразительно сообщало, что для господина В. любить — это убивать и/или быть убитым.
[39]
Сами клиенты неоднократно подчеркивали, что интерес к терапии становился стабильно высоким в тот момент, когда аналитические интерпретации производили эффект не столько эмоциональный, сколько когнитивный: возможность и желание узнать о себе нечто принципиально новое и неожиданное были сильнее, чем осторожность и неуверенность, сопряженные со страхом разрушения воображаемого нарциссического представления о собственной личности. В терапевтическом анализе проблема "Можно ли доверять аналитику, который уже столько знает обо мне и узнает куда больше?" должна быть переформулирована следующим образом: "Можно ли довериться когнитивным возможностям клиента и его способности понять и использовать себе во благо весь тот массив знаний, который будет произведен в ходе анализа?" Вопрос о доверии аналитику трансформируется в вопрос о доверии клиенту, его познавательным стремлениям и интересу к глубинным основам собственной личности. Иными словами, основное правило терапевтического альянса для пациента звучит примерно так: лучшая реакция на любое аналитическое воздействие — это попытаться понять, причем не только саму интерпретацию, но и основания для нее.
Этот принцип я обычно излагаю клиентам в самом начале работы и по мере необходимости возвращаюсь к нему снова и снова. В групповой работе всегда можно подключить момент соревнования, а клиента стоит поощрять время от времени говорить о своей проблеме "с позиции аналитика" или даже "супервизора". Интересно, что в роли супервизора своего собственного случая клиент очень эффективно отреагирует множественные последствия анализа, проходящего в присутствии третьих лиц. В учебных группах этот прием просто неоценим.
Поскольку терапевтический анализ заведомо ориентирован на гораздо более короткие сроки, нежели классические варианты глубинной психотерапии, то вопрос об окончании терапии — один из самых острых. Когда мож-
[40]
но считать ее завершенной? Как достичь по этому поводу единства взглядов аналитика и клиента? Насколько совершенной (во всех смысловых нюансах этого слова) должна быть терапевтическая работа, чтобы считаться законченной? Что делать, если клиент уходит в середине анализа? Или хочет продолжать работу, но у него нет на это денег? Как реагировать, если через какое-то время после успешной терапии клиент приходит снова?
Эти и им подобные вопросы в истории психоанализа затрагивались не раз. В 1936 г. окончание анализа было центральной проблемой на XIV Международном психоаналитическом конгрессе в Мариенбаде. В ее обсуждении участвовали такие видные специалисты, как Э.Гловер, Х.Дейч, Г.Нунберг, Г.Сакс, Дж.Стрейчи, О.Фенихель. Начиная с основополагающей работы Фрейда "Конечный и бесконечный анализ" (1937) и до настоящего времени продолжается дискуссия о том, каковы критерии завершения аналитической терапии. При всем разнообразии существующих мнений психоаналитики едины в том, что анализ никогда не ориентируется на возможность быстрого чудодейственного исцеления и не создает у пациента иллюзий такого рода.
Данное положение, с моей точки зрения, имеет статус атрибутивной характеристики для любого варианта психотерапевтической деятельности: если оно не выполняется, это не аналитическая терапия. Не случайно ведь гештальтисты, роджерианцы, адепты эриксоновского гипноза и разные прочие НЛП-сты всячески рекламируют себя в прямо противоположном качестве ("если только Вы найдете ее (точку сдвига восприятия — Н.К.), Вы будете свободны за секунды, это не потребует большего" — Дж.Энрайт; техника "взмах" в НЛП и так далее).
Терапевтический анализ относится к системе дискурсивных практик психоанализа, и данное требование для него обязательно. Как и все краткосрочные формы психодинамической психотерапии, он не работает быстро — он работает с меньшим объемом материала, ставит менее обширные задачи, занимается частными (фокальными) проблемами, и только. Аналитические техники и приемы
[41]
работы могут использоваться и в единичных встречах с клиентом — они все равно требуют времени и пригодны скорее для диагностических целей, а не для быстрого решения проблем.
Профессиональная идентичность типа "самый быстрый самолет" — верный признак психической инфляции терапевта. Ее формирование свидетельствует о неосознаваемом стремлении к власти и могуществу, а нереалистические ожидания клиентов будут всячески подпитывать оное. И психоаналитики, и юнгианцы в процессе профессиональной подготовки осуществляют профилактику указанной возможности. АТуггенбюль-Крейг [12] говорит о характерной для психотерапии и сходных сфер деятельности — врачебной и пастырской помощи, социальной работы — ситуации расщепления архетипа, в рамках которой отношения ее участников соответствуют взаимно противоположным тенденциям. Клиент чувствует себя беспомощным и слабым, терапевт — могущественным и эффективным; эти полярные категории искусственно раздуваются и препятствуют нормальной психотерапевтической работе.
Тонкое понимание сложной динамики представлений аналитика и пациента о целях терапии, ее содержании и длительности демонстрирует Дональд Вудс Винникотт. Он пишет:
"Мне нравится заниматься психоанализом, и я всегда жду завершения анализа. Анализ ради анализа для меня лишен смысла. Я провожу психоанализ потому, что это то, что нужно пациенту, и его нужно доводить до конца. Если пациенту психоанализ не нужен, я делаю что-нибудь другое. При проведении психоанализа спрашивают: как много можно сделать? В моей клинической практике девиз такой: что собой представляет то малое, что нужно сделать?" [11, с. 13].
И все же терапевтический анализ предполагает сравнительно короткий период взаимодействия с клиентом. Проблема критериев, с помощью которых можно распознать приближение завершающей стадии, осложняется еще и тем, что в классическом психоанализе цель была явно клинической, врачебной. Сейчас же большая часть
[42]
клиентов обращается не за лечением, а за помощью в разрешении личных и психологических проблем, а при этом очевидные признаки успеха терапии (исчезновение симптомов, облегчение боли, восстановление нормального функционирования органов) видоизменяются. Кроме того, в личностно (а не клинически) ориентированной психотерапии практически все критерии субъективны. А следовательно — непроверяемы* (с точки зрения научно обоснованных верификационных правил и процедур).
Фрейд считал, что решающими для успеха или неудачи аналитической терапии являются три фактора: глубина и тяжесть травматических воздействий, врожденные характеристики Ид (конституциональная сила влечений) и изменения в Я. Если применительно к травме терапевтическая стратегия остается неизменной (и вполне очевидна), то два последних обстоятельства требуют отдельного рассмотрения.
В работе "Конечный и бесконечный анализ"** конечная цель терапии определяется так:
"Можно ли посредством аналитической терапии полностью и окончательно устранить конфликт между влечениями и Я, то есть патогенные требования инстинкта? Во избежание недоразумений будет нелишним остановиться на том, что имеется в виду под "патогенными требованиями инстинктов". Разумеется, это не значит, что они исчезнут и никогда больше не заявят о себе. В целом это невозможно и даже было бы нежелательно. Нет, мы имеем в виду нечто иное, что можно обозначить как "приручение влечений": это означает, что последние приводятся в полную гармонию с Я и функционируют с учетом его требований" [52, с. II].
У современных аналитиков это формулировка вызовет разве что умиление. Конечно же, освобождать клиента от
* Уж сколько раз твердили миру об этом К-Поппср, Г.Ю.Айзснк и ижс с ними.
** На данный момент есть три русских перевода этой статьи — А.М.Боковикова, М.Д.Култаевой и А.Ф.Ускова. Цитаты даются по изданию "Психоанализ в развитии" [52], но формулировки отредактированы с учетом всех трех вариантов.
[43]
инстинктов не стоит. Мы, другие викторианцы12, стремимся лишь к согласованию собственных страстей и их согласию с требованиями рассудка. Разумеется, окончательную резолюцию накладывает Супер-эго, разноречивые или чересчур жесткие требования которого гораздо чаще становятся теперь причиной проблем, нежели функции Эго (конечно, о психозах тут речи нет).
Так что критерием завершения анализа стоит считать не только (и не столько) оптимальное функционирование сознательного Я клиента, но и системную характеристику его личности, которую можно называть по-разному — самоподдержкой (self-support), бессознательным самоуважением (implicit self-esteem), творческой автономией в сфере объектных отношений и так далее. Речь идет о способности клиента самостоятельно замечать проблемы, понимать их и справляться с ними.
Как известно, Фрейд очень скептически относился к возможности аналитической профилактики возможных будущих конфликтов. В "Конечном и бесконечном анализе" он пишет, что в целях профилактики неизбежно придется провоцировать новые проблемы, а аналитик не должен брать на себя ответственность за те действия, право совершать которые предоставлено судьбе. Рассуждая о возможных негативных последствиях такой установки, он замечает:
"К счастью, у нас нет надобности размышлять о правомерности таких вторжений в реальную жизнь; мы вовсе не обладаем необходимой для этого неограниченной властью, да и объект такого терапевтического эксперимента, разумеется, не захочет в этом участвовать... Аналитическая работа продвигается лучше всего, когда патогенные переживания принадлежат прошлому, чтобы Я могло от них дистанцироваться. В острых кризисных ситуациях анализ неприменим. Весь интерес Я захвачен болезненной реальностью, и оно противится анализу, который стремится увести за эту поверхность и вскрыть влияния прошлого. Поэтому создание нового конфликта лишь удлинит и затруднит аналитическую работу" [52, с. 20].
[44]
Современные психотерапевты вряд ли могут позволить себе следовать этому правилу, равно как и некоторым другим требованиям*** отца психоанализа. Жизнь теперь другая. И клиенты очень часто обращаются к аналитику именно в разгар острого кризиса, нуждаются в немедленной помощи и выражают надежду, что терапия будет иметь и профилактические аспекты.
Острый личностный кризис вовсе не делает анализ невозможным. Наоборот, поддерживающая аналитическая терапия (с преобладанием выслушивания и эмпатийного понимания и максимально щадящими интерпретациями) помогает преодолеть тяжелую жизненную ситуацию с наименьшими потерями. Психотерапевт, в большей мере участливый, нежели бесстрастный, будет стимулировать мотивацию участия в работе и облегчит формирование терапевтического альянса. Уменьшится вероятность того, что клиент прибегнет к крайним формам отреагирования конфликта (суицид, наркотический уход). По мере снижения остроты кризиса можно переходить от поддерживающей модели к собственно аналитической работе (вскрывающие, интерпретативные техники).
Теперь о возможности профилактики возникновения проблем. Конечно, Фрейд прав, говоря о том, что по-настоящему пациенты реагируют только на актуальные бессознательные противоречия. "Происходит примерно то же, — пишет он, — что при чтении психоаналитических сочинений. Читателя волнуют только те места, где он чувствует себя задетым, то есть те, что затрагивают действующие в нем в настоящее время конфликты" [52, с. 22]. Однако упомянутая выше самоподдержка и способность опираться в межличностных отношениях на собственную рефлексию не исключают, а предполагают способность к предвосхищению возможных осложнений. Речь идет прежде всего о профилактике невротических реакций (таких, как защитное проецирование, отыгрыва-
*** Сам Фрейд, как известно, тоже был весьма далек от предписанных им самим идеалов и, нарушая собственные принципы, говорил уче пикам: "равняйтесь не на меня, а на теорию".
[45]
ние, регрессия и пр.), а не их бессознательных основ. Последние, разумеется, по-прежнему в руках судьбы.
Большинство современных психотерапевтов сходятся на том, что уровень личностного функционирования клиента на момент конца анализа должен соответствовать общепринятым представлениям о психическом здоровье, а оценка этого уровня — не искажаться контр-переносом и быть свободной от влияния аналитической фантазии о совершенстве. Терапевтический перфекционизм (стремление к идеалу) уместен разве что в дидактическом анализе, да и то в разумных пределах.
Помимо чисто практических вопросов — чем определяется момент окончания анализа, можно ли сократить продолжительность лечения, каковы возможности профилактики невроза — психотерапевтов всегда занимали теоретические предпосылки, связанные с завершением терапии. Обсуждая технические проблемы терапии, в рамках структурной теории Дж.Арлоу и К.Бреннер [124, 125] предложили различать две отдельные, хотя и взаимосвязанные терапевтические цели — анализ вытесненного (влечений Ид) и анализ психологических защит. В свое время Фрейд сравнивал два эти направления с качанием маятника — сначала происходит частичный анализ вытеснений, потом анализ защитного поведения, затем аналитик снова возвращается к влечениям, и так далее.
Объединяющим началом при этом служит психоаналитическое понимание конфликта. По мере продвижения терапевтической работы острота конфликта между различными психическими инстанциями постепенно смягчается, а вытеснения и защиты, антагонистические поначалу, образуют компромиссные образования, способствующие разрешению противоречий. Признаком завершения терапии является рост интегративных тенденций, облегчение доступа к аффективной сфере клиента, восстановление им адекватной картины собственной жизни.
Опыт практической работы позволил сформулировать еще один критерий успешности анализа, знаменующий собой его завершение. Его можно назвать "исчезновением вторичной выгоды от проблемы". Речь идет о том, что
[46]
большинство клиентов в настоящее время предъявляют свои проблемы в форме жалоб, связанных с состоянием межличностных отношений, душевным комфортом, эффективностью социальных взаимодействий и т.п. Они, хотя и интерпретируют проблемы и трудности как нежелательные и чуждые (эго-дистонные), не склонны рассматривать их возникновение в контексте собственного психического функционирования. В процессе терапевтической работы они постепенно учатся отдавать себе отчет в том, откуда берется проблема, и какова их собственная роль в ее возникновении.
Связывая возникновение внутреннего дискомфорта или межличностного конфликта с собой как автором, а не только субъектом переживания, клиент перестает рассматривать свои психологические проблемы как необходимый аспект собственной индивидуальности. Он начинает задумываться о том, каким образом он сам причастен к своему неблагополучию, и как этого избежать. Такая позиция — необходимое условие для размышлений и самоанализа, который клиент может попробовать сделать (по окончании терапии) уже самостоятельно. Многие люди, склонные к самонаблюдению и рефлексии, что называется, "входят во вкус", начинают всерьез интересоваться глубинными аспектами своей личности, заниматься самообразованием в области психологии и т.д. В дальнейшем они не только хорошо справляются со своими собственными проблемами и трудностями, но и могут помочь в сложных жизненных ситуациях другим.
В терапевтическом анализе встречаются различные картины динамики взаимодействия терапевта с клиентом, в результате которого анализ движется к завершению. Иногда терапия прекращается после разрешения актуального конфликта и снятия обусловленного ним психического напряжения. Порой частые (ежедневные) встречи по поводу эмоциогенной жизненной ситуации постепенно сменяются традиционной формой аналитической ситуации (2-3 встречи в неделю, подробное исследование детского генезиса проблем). Бывает и так, что клиент (как правило, уже знакомый с психоаналитичес-
[47]
кой теорией и практикой психотерапии) приходит 1-2 раза в месяц, и работа с ним напоминает скорее супервизию, нежели собственно анализ. В любом случае окончание лечения оговаривается заранее, при заключении терапевтического контракта и, как правило, происходит по взаимному согласию с клиентом.
Но бывает и так, что клиент прерывает терапию задолго до того, как ее можно счесть законченной. Чаще всего, увы, по весьма банальной причине — нет денег. В этом случае вряд ли можно что-либо предпринять. Совсем другой случай — когда в основе ухода из терапии лежит непроработанная трансферентная динамика. Это, в некоторой степени, — поражение аналитика, косвенное свидетельство недостаточности его профессиональных навыков и умений.
Проблемы переноса и контр-переноса обсуждаются в следующем параграфе. Здесь же я хочу акцентировать внимание только на том, что разрешение невроза переноса — необходимое условие завершения анализа. По этому поводу между аналитиками различных школ нет противоречий. Однако сущность и специфика трансферентных отношений слишком сложна для того, чтобы выработать единое понимание и самого феномена, и связанных с ним технических моментов терапии.
Следующая важная в техническом и теоретическом отношении проблема — это перенос (трансфер). Как известно, переносом в психоанализе называют трансформацию отношений между пациентом и аналитиком, происходящую под влиянием бессознательных влечений и желаний первого. Эти отношения, призванные выполнять чисто служебную функцию, постепенно становятся важными и значимыми для клиента, он вовлекается в них с пылом и страстью, свойственным юношеской влюбленности. Прекрасное описание трансферентных и симметричных им контртрансферентных (направленных от ана-
[48]
литика к пациенту) отношений дает сам З.Фрейд в "Лекциях по введению в психоанализ":
"Итак, мы замечаем, что пациент, которому следовало бы искать выхода из своих болезненных конфликтов, проявляет особый интерес к личности врача. Все, что связано с этой личностью, кажется ему значительнее, чем его собственные дела, и отвлекает его от болезни. Общение с ним становится на какое-то время очень приятным; он особенно предупредителен, старается, где можно, проявить благодарность, обнаруживает утонченность и положительные качества своего существа, которые мы, может быть, и не стремились у него найти. Врач тоже составляет себе благоприятное мнение о пациенте и благодарит случай, давший ему возможность оказать помощь особо значимой личности. Если врачу представится случай побеседовать с родственниками пациента, то он с удовольствием слышит, что эта симпатия взаимна. Дома пациент без устали расхваливает врача, превознося в нем все более положительные качества" [75, с.281].
Перенос рассматривается как важнейший терапевтический фактор психоанализа и одновременно — как одна из наиболее серьезных трудностей в аналитической работе. Исцеляющая роль переноса состоит в том, что с его помощью оживляются былые бессознательные конфликты и вытесненные содержания, они становятся доступны сознанию, переживаются и изживаются в ходе терапии. Цель и смысл психоанализа, как их понимал основоположник подхода, именно в этом:
"Мы, должно быть, приносим пользу тем, что заменяем бессознательное сознательным, переводя бессознательное в сознание. Действительно, так оно и есть. Приближая бессознательное к сознательному, мы уничтожаем вытеснение, устраняем условия для образования симптомов, превращает патогенный конфликт в нормальный, который каким-то образом должен найти разрешение. Мы вызываем у больного не что иное, как одно это психическое изменение: насколько оно достигнуто, настолько оказана помощь. Там, где нельзя уничтожить вытеснение или аналогичный ему процесс, там нашей терапии делать нечего" [75, с.278].
[49]
В трансферентных отношениях воспроизводится генезис невротических проблем и трудностей клиента. Основная "триада" аналитического лечения представлена воспоминанием вытесненных переживаний, их повторением в отношениях с терапевтом и проработкой, в результате которой исчезают основания для повторного возникновения симптома. Иными словами, в процессе психоаналитической терапии формируется актуальный невроз (это и есть невроз переноса), разрешение которого знаменует окончание лечения.
Трудности, создаваемые переносом, не менее фундаментальны. Во-первых, кроме описанного выше позитивного переноса (гипертрофированной симпатии к аналитику), довольно часто возникает негативный перенос — антипатия и ненависть, подозрительность, недоверие и раздражительность. Все это осложняет работу аналитика, приводит к увеличению длительности терапии, может способствовать формированию негативной терапевтической реакции — ухудшению состояния и самочувствия клиента в ходе анализа, тем большему, чем больший объем бессознательного материала становится доступным сознанию.
Приведу пример. Госпожа Г. начала индивидуальную терапию после того, как посетила несколько обучающих семинаров по теоретическим основам глубинной психологии. Клиентка с самого начала имела высокую мотивацию, хорошо сотрудничала с аналитиком, охотно рассказывала о своих детских переживаниях, т.е. демонстрировала адекватную временную регрессию в рамках терапевтических отношений. Главной проблемой, которая обсуждалась на сеансах, была обеспокоенность госпожи Г. своим сексуальным поведением. Муж ее по роду своей деятельности периодически бывал в длительных (от полугода до десяти месяцев) служебных командировках. Во время его отсутствия г-жа Г. имела короткие связи с другими мужчинами, за которые очень винила себя, ужасаясь своей порочности. Первоначальная жалоба была окрашена чувством стыда ("Что, если узнают знакомые, соседи? Вдруг что-нибудь станет известно детям, старший сын уже взрослый, ему 14 лет, он отвернется от такой матери"). Впоследствии про-
[50]
явилось скрытое чувство вины по отношению к мужу, который любит и доверяет ей, хорошо обеспечивает семью, а также вытесненная агрессия и враждебность ("Он сам во всем виноват. Такое трудно вытерпеть любой нормальной женщине. Да и сам он, наверное, не отказывает себе в случайных удовольствиях на стороне").
Поначалу отношения с госпожой Г. выглядели позитивными и доброжелательными. Она активно участвовала в работе, была откровенна в выражении своих мыслей и чувств, хорошо воспринимала интерпретации, проявляла интерес к теоретическим основам психоанализа, пытаясь самостоятельно читать популярную литературу. Меня не насторожил даже неуклонный рост материала, представленного для анализа: в течение двух месяцев клиентка дополнительно предъявила проблему возможных инцестуозных отношений между ее детьми — по ее словам, старший мальчик хвастался приятелям, что якобы "трахает" свою сестренку (как и следовало ожидать, это оказалось чистым вымыслом). После этого клиентка рассказала классическую фантазию о соблазнении отца, о своей сексуальной связи с двоюродным братом, якобы спровоцированной женой брата, и высказала гипотезу, что отец младшей дочери — не муж, а случайный любовник, которому ("не знаю, зачем") эту мысль она преподнесла как действительный факт. Честно говоря, постепенно создалось впечатление лавины проблем, которая вот-вот погребет под собой усилия терапевта.
Обдумывая стратегию помощи, я решила сосредоточиться на главной проблеме, тем более что муж клиентки должен был в скором времени уехать в очередную командировку. Госпожа Г. успешно прорабатывала проблемы, связанные с идущим из детства ощущением ненужности и брошенности, "выученной беспомощностью" и т.п. Правда, она стала настаивать на том, чтобы вместо двух раз в неделю (как это было сначала) мы встречались один раз, мотивируя это тем, что у нее нет возможности так часто приезжать из соседнего города. Кроме того, ее речевое поведение на сеансе стало выстраиваться по следующей схеме: большую часть времени она тратила на малосущест-
[51]
венные подробности и далекие от обсуждаемых вопросов детали, а затем, буквально за пять-семь минут до конца встречи, рассказывала какой-нибудь важный факт или событие своей жизни, обсудить который или даже просто прореагировать на него времени уже не оставалось. При следующей встрече возвращаться к рассказанному ранее эпизоду клиентка не хотела, мотивируя это тем, что "уже проработала все это".
Интерпретацию терапевта о том, что такое поведение суть ярко выраженное сопротивление, госпожа Г. не приняла. Она продолжала настаивать на том, что анализ продвигается очень успешно и уже скоро она расскажет все самое важное о себе и своей жизни. Она хотела рассказывать и рассказывала очень много: о том, какие чувства вызвал отъезд мужа, о срыве в поведении сына-подростка (тот больше месяца не ходил в школу перед самыми экзаменами и фактически "завалил" их), о своих планах на работе и боязни, что не получится исполнить задуманное... При этом каждый сеанс она заканчивала еще одной "сенсацией" негативного характера и заверениями о том, как хорошо проходит терапия и как ей все это нравится.
При очередной встрече (муж к этому времени отсутствовал уже около месяца) я прямо спросила у госпожи Г., насколько терапевтическая работа помогает ей справляться со своими влечениями. Она истерически разрыдалась и сообщила, что продолжает свои случайные связи, причем в более одиозной форме, чем раньше. На вопрос о том, зачем она тратила столько времени на неискренние заверения, клиентка отвечала, что она плохая, что не верит в искренность моих намерений помочь и в безоценочное принятие своего поведения и личности, и "все равно мы только обманывали друг друга". В свете обнаруженного негативного переноса стало понятно, почему госпожа Г. столь упорно рассказывала о себе "ужасные вещи" — она пыталась сформировать рационалистическое объяснение эмоциям, которые испытывала в анализе сама и приписывала мне.
Вторая сложность, связанная с переносом — это отношение клиента к чувствам, переживаемым в процессе
[52]
развития трансферентного невроза. Он ждет от аналитика ответа на свои чувства, а не интерпретаций и теоретических разъяснений. Принцип абстиненции (воздержания), в соответствии с которым терапевт организует свое взаимодействие с клиентом, часто интерпретируется последним как высокомерие, неискренность, даже трусость. Другая крайность, в которую впадают робкие и неуверенные в себе пациенты, — это страх выразить свои чувства, признаться в них аналитику и самому себе.
А между тем именно свободное выражение трансферентных чувств — залог успеха аналитической терапии и возможности разрешения невроза переноса. Ведь если перенос — это "новый отпечаток или копия тех импульсов влечений и фантазий, которые пробуждаются и осознаются при развертывании психоанализа, только для них характерна замена значимого прежде лица личностью врача" [108, vol.5, p.279], то аналитик в роли нового объекта старых желаний готов обсуждать их с пациентом и стремится к этому. В отличие от ситуации в прошлом, которая была травмирующей и вынудила клиента вытеснить болезненные чувства и переживания, трансферентная любовь или ненависть не может быть поставлена ему в вину (или в заслугу). Терапевт слушает клиента доброжелательно и объективно, не допуская злобного, насмешливого или циничного реагирования, не используя психологических защит. Трансферентные чувства, помещенные в рамки аналитических отношений, получают объяснение и интерпретацию и утрачивают свой пугающий характер. Такая ситуация в жизни пациента является уникальной и препятствует тому, чтобы он "вновь решился бы на прежний исход и опять вытеснил то, что поднялось в сознание" [75, с.285].
Я считаю, что в условиях краткосрочной аналитической терапии профессиональное поведение лучше ориентировать не на классические образцы, рекомендуемые Фрейдом и сторонниками ортодоксального психоанализа, а согласовывать его с принципами, предложенными, например, Х.Кохутом [112] или М.Гиллом [109]. Аналитик в качестве терпеливого и участливого слушателя, а не
[53]
только "бесстрастного зеркала", будет и более эффективным, и более человечным. Для клиента необходимость высказывать свои чувства или фантазии человеку, на которого они направлены, сама по себе является весьма пугающей. А с учетом того, что в ходе терапии пациент все больше осознает и вспоминает свой негативный опыт, связанный с подобными ситуациями, вполне понятно, как велико будет его сопротивление выражению чувств, испытываемых в переносе.
В терапевтическом анализе клиент имеет возможность не только заново пережить влечения, тревоги и бессознательные конфликты прошлого, но и научиться соприкасаться со своими негативными чувствами, выражать их в безопасных условиях, обсуждать без осуждения, понимать причины и прогнозировать последствия. Интерпретация трансферентных чувств — абсолютно необходимая составляющая терапевтического процесса, без этого он может зайти в тупик. Особую чуткость и внимательность следует проявлять в групповой работе, когда Трансферентные реакции членов группы могут давать самые неожиданные сочетания.
Так, в одной из обучающих групп студент Д., бывший весьма активным и открытым на занятиях, неожиданно замкнулся, перестал принимать участие не только в терапевтической работе, но и в ее обсуждениях. Просидев два-три занятия в мрачном молчании, он подошел к одному из руководивших работой группы ко-терапевтов и попросил назначить ему индивидуальную встречу. А поскольку такая практика существовала только в отношении тех участников, которые не могли рассказывать о своих проблемах из-за робости и различных страхов (господин Д. таким вовсе не был), ко-терапевты решили провести встречу вместе.
Перед индивидуальным сеансом клиент несколько раз пробовал объяснить, что для решения его "мелкой проблемы" вовсе не обязательно присутствие обоих терапевтов. Мы предложили ему прямо рассказать, что произошло, и господин Д. ответил, что он очень расстроен поведением одной из участниц группы на предыдущем за-
[54]
нятии. Эта клиентка, истерически демонстративная женщина, предприняла несколько попыток манипуляции котерапевтами, пытаясь настроить нас друг против друга и внести раскол в работу группы. Кроме того, она часто была неискренней в своих "признаниях" и имела привычку делать провокационные комментарии относительно своих сокурсников. Работа с ней отнимала много времени, но оба терапевта были настроены по отношению к этой участнице толерантно, доброжелательно и терпимо.
Господин Д. сказал, что он внезапно и сильно возненавидел "эту дуру" и несколько раз с трудом удерживался от того, чтобы поставить ее на место, показав ей, кем она в действительности является и чего хочет. Более того, он начал отдавать себе отчет, что переполнен сильными агрессивными импульсами по отношению к тем членам группы, которые, по его мнению, "недостаточно быстро соображают, много лгут и вообще мешают работать". После этого клиент произнес несколько сбивчивых фраз о том, как он благодарен более старшему и опытному ко-терапевту, как ему бывает стыдно за других членов группы в некоторых ситуациях и выразил сомнение, что в таком эмоциональном состоянии он способен эффективно работать и "не быть обузой для руководителей семинара".
Мы поняли, что поведение г-на Д. обусловлено трансферентными чувствами к аналитику. Второй из пары котерапевтов решил прояснить это клиенту:
Т (терапевт): Вам не приходило в голову, что Ваши враждебные чувства к участникам семинара, возможно, обусловлены симпатией к Н.Ф.? Вы цените ее как терапевта и как личность и, испытывая чувства восхищения и благодарности, наверное, хотели бы выразить их?
К (клиент): Ну да. Но меня злит, что остальные этого не поймут.
Т: Следовательно, по-Вашему, лучший способ выразить свои чувства — это "призвать к порядку" непутевых слушателей?
К: Они должны ценить возможность получить такую подготовку. И вести себя соответственно.
Т: Как именно?
[55]
К: Ну... они могли бы сразу говорить правду...меньше социальной желательности — это только требует дополнительных усилий от Вас и от Н.Ф. Они должны думать... понимать...
Т: То есть Вы злитесь на них, потому что они плохо думают, чего-то не понимают?
К: Нет, мне просто неловко... (долгая пауза)
Т: Вам неловко оттого, что другие члены группы могут догадаться о Ваших чувствах? И еще потому, что, возможно, некоторые из них испытывают такие же?
К: Ну да.
Т: Теперь Вы понимаете, что Ваше поведение объясняется трансферентными переживаниями? В них нет ничего необычного или плохого, мы неоднократно обсуждали природу и функции переноса в лекциях и на практических занятиях. Просто у вас перенос приобрел форму ревности и агрессивного стремления защищать аналитика от других клиентов, так? Поэтому Вы и стали испытывать сомнения касательно возможности своего участия в групповой работе.
К: А почему молчит Н.Ф.? (Обращаясь ко мне) А что Вы думаете?
Второй терапевт: Вы с самого начала испытывали неловкость и хотели говорить с моим коллегой. Ему удалось быстро и точно прояснить ситуацию, и все акценты теперь расставлены правильно. Я могу добавить, что мне приятно слышать, как высоко Вы оцениваете мою работу. В свою очередь, я полагаю, что Вы и впредь будете работать в группе так же продуктивно, а любые чувства, которые покажутся Вам неуместными, будете сначала анализировать, а потом уже — отреагировать.
К: Но если чувства неуместные, то их вряд ли стоит проявлять?
Т: Как раз анализ — единственное место, где это можно делать. (С улыбкой) Безнаказанно.
Второй терапевт: И, конечно же, не стоит стремиться наказать других членов группы за их, по Вашему мнению, неуместные чувства или неправильное поведение.
[56]
После этого разговора господин Д. вернулся в группу и чувствовал себя в ней комфортно. Его участие вновь стало продуктивным, а поведение — существенно более терпимым и мягким.
Силу влияния трансферентных отношений трудно преувеличить. В краткосрочном анализе ограниченный его рамками терапевт может незаметно для себя злоупотребить таким влиянием, стремясь провести терапию быстро и с максимальной эффективностью. Здесь уместно вспомнить предостережение Фрейда, который, обсуждая меру и степень допустимого вмешательства, писал:
"Следует предостеречь от неправильного использования этого нового влияния. Как бы не было заманчиво для аналитика стать учителем, примером и идеалом для других людей и создавать их по своему подобию, он не должен забывать, что не это является его задачей в аналитических взаимоотношениях и что в действительности он не выполнит свою задачу, если поддастся такому желанию. Если же это случится, то аналитик лишь повторит ошибку родителей, которые сокрушили своим влиянием независимость ребенка, и врач лишь поменяет прежнюю зависимость пациента на новую. Во всех своих попытках улучшения и обучения пациента психоаналитик должен уважать его индивидуальность. Та мера воздействия, которую он вправе себе позволить, будет определяться степенью подавления развития пациента" [76, с. 97].
Проблема распознавания переноса, его видов и форм, способов и техник работы с ним выходит далеко за пределы этой книги. Главное, что мне хотелось бы подчеркнуть здесь, в изложении принципов терапевтического анализа, — необходимость этого аспекта в психотерапевтической практике. Многие терапевты, не владеющие основами психоанализа, опасаются переноса, боятся оставить трансферентный невроз неразрешенным. Те, кто работает в рамках не-психодинамических направлений, часто игнорируют трансферентную симптоматику и не могут уберечь себя и клиентов от деформации отношений, вызванных чувствами, возникающими в переносе и контрпереносе. Нередки также случаи, когда трансферентные отношения используются в корыстных целях — например, терапевт
[57]
злоупотребляет ими для неоправданного увеличения продолжительности терапии и получения дополнительной оплаты. Но, несмотря на все эти сложности, в аналитической терапии нет другой альтернативы.
Специфика терапевтического анализа диктует модифицированные формы работы с сопротивлением и психологическими защитами клиентов. Это касается прежде всего интерпретаций указанных феноменов. В отличие от толкований классического типа, когда аналитик стремится найти причины сопротивления или защиты в раннем детском опыте, в рамках описываемого подхода важны интерпретации, связанные с актуальным состоянием личности и психики пациента. Толкование служит прежде всего целям сознательной переработки патогенного содержания, а его понимание должно способствовать изменению позиции клиента. Однако для успеха анализа одних только актуальных интерпретаций недостаточно, а углубление в предысторию проблемы может сделать его затяжным. Тут нужна, что называется, золотая середина.
Сопротивление в широком психоаналитическом контексте понимается как специфическая установка пациента на отвержение знаний, полученных в результате интерпретации бессознательных содержаний и вытесненных влечений. Многие терапевты упускают из виду, что это сопротивление не столько аналитику, сколько его действиям, так что наличие мощного сопротивления свидетельствует как о силе Я пациента (благодаря которой негативные аспекты внутреннего и межличностного опыта продолжают оставаться вытесненными и подавленными), так и, возможно, о не совсем адекватном или малоэффективном терапевтическом воздействии. Сопротивление возвращению вытесненного нуждается в специальных пояснениях, трансферентное сопротивление — в эмпатии и поддержке со стороны терапевта в роли открытого и доверительного участника аналитического процесса. Одним
[58]
словом, "сопротивление больных чрезвычайно разнообразно, в высшей степени утонченно, часто трудно распознается, постоянно меняет форму своего проявления" [75, с. 182]. Эти слова Фрейда справедливы и по сей день.
В терапевтическом анализе, как правило, из многочисленных форм сопротивления особенно "досадными" являются, во-первых, так называемые явные или открытые13 формы сопротивления, проявляющиеся во всевозможных нарушениях правил терапевтической работы и ее распорядка, а во-вторых — сопротивления, обусловленные вторичной выгодой от заболевания. Явное сопротивление может полностью дезорганизовать анализ и превратить его в нечто среднее между ссорой влюбленных ("наверное, ты меня не любишь") и семейной разборкой ("ты опять не сделал-(а) то-то и то-то — потому что ты такой-сякой"). Как пишут Х.Томэ и Х.Кэхеле, "эти грубые нарушения создают впечатление сознательного и намеренного саботажа и задевают особо чувствительные места аналитика. Некоторые из форм вышеупомянутого поведения, такие, как опоздания, пропуск занятий, подрывают аналитическую работу и предполагают глобальные интерпретации, которые в лучшем случае становятся воспитательными мерами или в худшем случае ведут к борьбе за власть" [67, т.1, с. 155].
Вторичная выгода от болезни — это особое положение, "режим наибольшего благоприятствования", на которые претендует клиент в связи с имеющимися у него симптомами или проблемами. Всем известны отъявленные истерички, у которых "слабое сердце и такая ранимая психика", великовозрастные "дети", демонстрирующие свою инфантильность в широком социальном окружении, агрессивные психопаты, которых "нельзя трогать, потому что они слишком возбудимы" и так далее. По моим наблюдениям, клиенты с выраженной заинтересованностью во вторичной выгоде ориентированы на то, чтобы продолжать получать ее в анализе — теперь уже в форме вторичной выгоды от терапии,
Этот интересный феномен я впервые обнаружила, столкнувшись с клиентом Е., который сделал себе из
[59]
психотерапии образ жизни. Молодой человек, совмещавший заочное обучение с сезонной работой, производил впечатление дисгармоничной и неадекватной в социуме личности, хотя на теоретических занятиях по психологическому консультированию и психотерапии демонстрировал недюжинную эрудицию. С первых дней знакомства с господином Е. как со студентом я слышала от него неоднократные просьбы пройти индивидуальную терапию. Он стал особенно настойчив после того, как я сказала, что своих студентов консультирую бесплатно.
Попытка начать работу с господином Е. была весьма специфической — он напрочь не желал идентифицироваться с ролью клиента, а хотел лишь рассказывать о том, как много терапевтических групп различной ориентации успел посетить и как мало ему помогло участие в этих группах. На вопрос о том, в чем же состоит его проблема, он не сумел (или не захотел) ответить, а когда я спросила, не является ли ею навязчивое желание проходить психотерапию снова и снова, просто промолчал. Тогда я спросила, зачем он столь настойчиво "рвался" в клиенты. Господин Е. ответил: "Ну как же, я еще ни разу не пробовал юнгианский анализ сновидений". Вопрос "А зачем?" так и остался без ответа.
В дальнейшей групповой работе со студентами, среди которых был и господин Е., я обратила внимание на его агрессивно-неадекватное поведение. Было очевидно, что эта агрессия — типичный acting out, отыгрывание вовне. Но ведь анализ даже не начинался — я просто отказала г-ну Е., не найдя возможности работать с ним как терапевт. Я решила мягко игнорировать эту агрессию, в результате чего Е. демонстративно покинул учебную группу. Остальные студенты пояснили, что такое поведение господина Е. вызвано тем, что я отказалась "психоанализировать" его.
На следующее групповое занятие г-н Е. пришел как ни в чем не бывало и стал настойчиво предлагать себя в качестве клиента. Я предложила ему прокомментировать мотивы своего желания. Господин Е. с готовностью ответил: "Но Вы сами предложили вызваться тому, у кого есть проблема". Я предложила ему как-то обозначить
[60]
свою проблему. "Но Вы должны сделать это сами — это же Вы психоаналитик, а не я" — ответил Е. Я спросила, что по этому поводу думает группа. Сокурсники господина Е. наперебой стали говорить, что его проблема состоит в том, что он хочет показать всем, какой он "ас" в психотерапии. После того, как все высказались, я проинтерпретировала поведение г-на Е. как желание самоутвердиться в роли клиента и добавила, что у него это, видимо, верный способ вызывать интерес к собственной личности и ощущать свою значимость. Господин Е. нехотя признал это. Опыт дальнейшего взаимодействия с ним подтвердил справедливость такой интерпретации.
В терапевтическом анализе полезно различать сопротивления, исходящие из Сверх-Я (совести, чувства вины, боязни социального неодобрения) клиента, и собственно сопротивления Эго. Последние (сопротивление осознанию вытесненного) требуют содержательных интерпретаций, тщательного реконструирования переживаний клиента, тогда как первые могут быть преодолены на уровне базовых терапевтических установок (безоценочного принятия, конфиденциальности, эмпатии). Иногда тревогу, связанную с обостренной чувствительностью Сверх-Я, может преодолеть вовремя осуществленное самораскрытие терапевта. Не всегда нужно ревностно соблюдать принцип "бесстрастного зеркала" — обеспокоенному родителю или неуверенному супругу можно рассказать о том, как терапевт разрешает собственные проблемы в этой сфере. Для принятия правильного решения (где, когда и в какой форме стоит это делать) нужен опыт, но бывает достаточно простой тактичности и чувства меры.
Психологической защитой принято называть широкий круг поведенческих реакций личности, не обязательно имеющих отношение к психопатологии. Это присущие каждому человеку устойчивые способы восприятия и переживания мира, в процессе которых отдельные аспекты действительности изменяются, искажаются. В отечественной психологии феномены, относящиеся к защитам, описываются как субъективные характеристики образа восприятия. Процессы взаимодействия с реальностью
[61]
могут иметь защитную функцию, и это вполне естественно. Люди стремятся в той или иной степени смягчить негативные и угрожающие влияния социального окружения, защититься от несправедливой или резкой критики, не замечают многих досадных и неприятных событий.
Однако искажение реальности не должно быть настолько сильным, чтобы с его помощью можно было отгородиться от подлинной действительности и жить иллюзиями. Устойчивая привычка не замечать неприятные факты и события, считая их чем-то не стоящим внимания, может постепенно привести к полному краху жизненных планов. Психоаналитическая традиция рассматривает защиты в контексте их интенсивности и дереализующей, искажающей интенции. Психологическая защита создает проблемы как в случаях, когда она чрезмерно деформирует реальность, так и при недостаточности — последнее чревато психотической декомпенсацией личности.
Защиты тесно связаны с эго индивида, его сознательным Я. Ж.Лапланш и Ж.-Б.Понталис определяют психологическую защиту как "совокупность действий, нацеленных на уменьшение или устранение любого изменения, угрожающего цельности и устойчивости биопсихологического индивида. Поскольку эта устойчивость воплощается в Я, которое всячески стремится ее сохранить, его можно считать ставкой и действующим лицом в этом процессе" — пишут они [37, с. 145]. Психологические защиты рассматриваются в психоанализе не только как важнейшие функции эго, но и как его структурные элементы с выраженным индивидуальным своеобразием сочетаний и проявлений.
Работа с защитами предполагает акцент на познавательных возможностях клиента, тогда как трасферентные отношения больше затрагивают эмоциональную сферу. В качестве привычных способов формирования субъективной психической реальности (картины мира, каким он кажется индивиду) психологические защиты поддерживают Я-концепцию и неразрывно связаны с системой ценностей личности. Конкретизация субъективной истины выглядит (и поначалу является) работой мысли, однако очень
[62]
скоро превращается в эмоциональную, пристрастную, личностно вовлеченную деятельность. Основные проблемы при анализе защит обусловлены не столько противоречиями между субъективной и объективной реальностью, сколько противостоянием двух субъективных реальностей — клиента и терапевта. Первый при каждом удобном случае приписывает "неудобные" аспекты действительности субъективизму аналитика, второй же зачастую рассматривает свою точку зрения как полностью объективную.
Эта трудность разрешима только в случае, когда терапевт хорошо знает теоретические аспекты данной проблемы и умеет отделять один тип защиты от другого. Четкое представление о природе и функциях психологических зашит, с моей точки зрения, абсолютно необходимо любому психотерапевту, даже не являющемуся психоаналитиком. Умение распознавать и интерпретировать защиты столь же необходимо в работе с людьми, как эмпатия, безоценочность, конфиденциальность и другие базовые терапевтические установки.
Я приведу классификацию защитных механизмов как они представлены в работе Н.Мак-Вильямс [41]. Она делит зашиты по принципу их локализации на первичные иди примитивные, располагающиеся между Я и внешним миром, и вторичные или зрелые, предохраняющие личность от внутри- и межсистемных конфликтов14. К числу первичных защит относятся примитивная изоляция, отрицание, всемогущий контроль, примитивная идеализация и обесценивание, расщепление эго, диссоциация, проекция, интроекция и проективная идентификация. Характерной особенностью примитивных защитных механизмов является их автоматический бессознательный характер ("мгновенное включение") и отсутствие связи с принципом реальности. Можно сказать, что примитивные защиты работают на уровне первичного процесса, не допуская в сознание материал, против которого они направлены. Первичные защиты соответствуют ранней стадии развития объектных отношений, так называемой параноидно-шизоидной позиции15, на которой индивид не в состоянии воспринимать амбивалентные характеристики и свойства окружающей
[63]
реальности, рассматривая внешний мир как только хороший или исключительно плохой. Более подробно теория объектных отношений изложена в пятой главе, а сейчас нас интересуют лишь сами защитные механизмы,
Большинство примитивных защит в силу своей архаичной и довербальной природы представляются клиентам естественным аспектом психического функционирования. Хотя картина мира, возникающая в сознании индивида с большим количеством незрелых защит, весьма противоречива и содержит множество упущений, сам человек не склонен обращать на это внимание, даже в тех случаях, когда у него возникают серьезные проблемы. Его мышлению присущи особенности, выделенные Л.Леви-Брюлем и Ж.Пиаже в качестве характеристик первобытного (до-логического) мышления и ранних стадий развития интеллекта у детей — нечувствительность к противоречию, артификализм16, вывод "от частного к частному, минуя общее".
Клиенты, предпочитающие примитивные защиты, составляют особую категорию. Они редко пользуются симпатией окружающих, ибо слишком настойчиво навязывают им предвзятую картину своих взаимоотношений с людьми. Субъективно "корыстный" характер их представлений о себе и других весьма прозрачен. Стиль использования примитивных защит чаще всего агрессивный. Приведу характерный пример.
Госпожа Ж. обратилась за помощью в связи проблемой воспитания дочери. По ее словам, 14-летняя девочка была неуправляемой, уходила из дому, ночевала на вокзале, попрошайничала, месяцами не посещала школу. Я сразу обратила внимание на абсолютно негативное описание ребенка: в течение часа мать рассказывала о своей дочери только плохое, неоднократно подчеркивала ее тупость, упрямство, неблагодарность, называла позором семьи и т.п. Это позволило высказать следующее предположение:
Т: Вы, видимо, не любите свою дочь?
К: Да, не люблю. Да и за что ее любить, если она себя так ведет?
Т: Вы говорили ей об этом?
[64]
К: Конечно, говорила.
Т: Тогда поведение Вашей дочери выглядит естественным и закономерным — она уходит, убегает из дому, где ее не любят и всячески подчеркивают, что она скверная, хуже своего младшего брата, не заслуживает доверия.
К: Но ведь я забочусь о ней!
Т: Вы называете заботой желание контролировать поведение девочки, "пресекать" любые ее намерения. И в то же время утверждаете, что Ваша главная цель — помочь ей, наладить с ней нормальные отношения.
К: Конечно! Ради этого я даже пошла учиться на психолога.
Т: Но зачем налаживать нормальные отношения с тем, кого не любишь?
К: Как это не любишь! Она ведь моя дочь!
Т: Но Вы сами об этом только что сказали.
К: Я такого не говорила. Я всю жизнь дочери посвятила, и сейчас ни сил, ни времени не жалею... (истерические рыдания).
Попытка терапевта интерпретировать истерику как скрытое признание вины успеха не имела. Клиентка настойчиво утверждала, что плачет она из жалости к себе и от трудной жизни, оттого, что старается сделать для дочери все, а той ничего не нужно — она не любит свою мать, и точка. Многочисленные противоречия в своем рассказе госпожа Ж. продолжала начисто отрицать.
На одном из следующих сеансов г-жа Ж. рассказала эпизод, относящийся к началу учебы девочки в школе. Она случайно увидела дочь у игровых автоматов, стала спрашивать, откуда у нее деньги. Далее произошла безобразная сцена скандала и побоев, она обвинила семилетнего ребенка в воровстве, привела в школу, позорила перед одноклассниками и учительницей. Позже выяснилось, что денег девочка не крала.
Т: Что произошло после?
К: Да ничего. Училась она средне, упрямилась, не хотела отвечать на уроках, даже если выучила.
[65]
Т: Но ведь этот случай был настоящим потрясением для первоклассницы. Дети очень зависимы от мнения товарищей, первой учительницы.
К: По-Вашему, я не должна была выяснить, откуда у девочки деньги на игру? Ведь я мать! Я в ответе за ее поведение.
Т: Вы не сожалеете о содеянном? Не раскаиваетесь?
К: Вы просто не знаете, каким упрямым и скрытным созданием она была уже в первом классе! Вечно хитрила, что-то утаивала, врала...
Т: Скажите, Вы не связываете поведение Вашей дочери с тем, как Вы относитесь к ней?
К: Как это?
Т: Вы часто ведете себя несправедливо и предвзято по отношению к дочери.
К: Да ничего подобного! Я всеми силами старалась сделать из нее человека.
Отрицание, обесценивание и примитивная идеализация, многочисленные проекции, свойственные этой клиентке, полностью исказили ее восприятие поведения и личности дочери. Их отношения зашли в тупик, из которого мать пыталась вырваться посредством истерических реакций, а дочь — демонстрируя асоциальный образ жизни. Аналитическая работа с госпожой Ж. оказалась безрезультатной, поскольку в основе ее обращения за помощью лежала попытка самоутвердиться через демонстрацию собственный страданий. Изменить эту мотивацию мне не удалось, единственным итогом было некоторое снижение интенсивности ее истерического поведения в учебной группе.
Вторичные защиты характеризуются более специфичным действием (направлены только на чувства или на конкретные аспекты восприятия и переживаний) и обязательным участием мышления. Они в меньшей степени искажают и деформируют реальность, более адаптивны и почти всегда могут быть опознаны по наличию рациональных и рационализирующих компонентов. Так удобно быть разумным, иметь хорошие объяснения на все случаи жизни и находить логические основания для того, чтобы делать только то, что хочется, или вообще ничего не де-
[66]
дать. По сравнению с примитивными зрелые защиты легче осознаются; как правило, клиенты признают их наличие, но не очень склонны что-либо менять в своем поведении и привычных способах действия.
По-видимому, устойчивость вторичных защит к терапевтическому влиянию обусловлена тем, что многие клиенты склонны отождествлять невротические защиты с собственным Я. Ж.Лакан не зря определял Я (Воображаемое) как сумму всех защит и сопротивлений, свойственных индивиду, как отчуждающую иллюзию, которая занимает место между природным естеством человека (влечениями) и окружающей действительностью. Анна Фрейд в классической работе "Я и механизмы защиты" пишет:
"В отдельные периоды жизни и в соответствии со своей собственной конкретной структурой индивидуальное Я выбирает то один, то другой способ защиты — это может быть вытеснение, смещение, перестановка и т.д. — и может использовать его как в своем конфликте с инстинктами, так и в защите от высвобождения аффекта. Если мы знаем, как конкретный пациент стремится защититься от всплывания своих инстинктивных импульсов, мы можем составить представление о его возможной установке по отношению к собственным нежелательным аффектам. Если же у какого-либо пациента ярко выражены конкретные формы трансформации аффектов, такие, как полное вытеснение эмоций, отрицание и т.д., нас не удивит, если он применит те же самые способы для защиты от своих инстинктивных импульсов и свободных ассоциаций. Я остается одним и тем же, и во всех своих конфликтах оно более или менее последовательно в использовании имеющихся в его распоряжении защитных средств" [71, с.30].
К числу вторичных защит относят вытеснение, регрессию, рационализацию и интеллектуализацию, изоляцию, морализацию, раздельное мышление, аннулирование, смещение, поворот против себя, идентификацию, реактивное образование, реверсию, отыгрывание, сексуализа-цию и сублимацию. Все они в той или иной степени являются "уловками сознания", посредством которых оно оберегает себя от столкновения с нежелательными аспектами реальности — как внешней, так и внутренней. 06-
[67]
щим для всех вторичных защит будет также стремление справиться с аффектами (сильными чувствами и переживаниями) посредством интеллекта, рационализирующего мышления, благодаря которому клиент способен найти разумное логическое объяснение для сколь угодно противоречивых действий и поступков.
Вытеснение или мотивированное забывание неприятных событий, негативных чувств и переживаний встречается очень часто. Вытеснение может быть мощным или слабым, особенно сильно подавляется материал, связанный с инцестуозными влечениями, перверсивными склонностями и т.п. "Сигналом" к вытеснению является обычно чувство тревоги, пусть даже и не локализованное — в этом случае эго прибегнет к тотальному подавлению всего, что хотя бы в малой степени связано с вызывающей тревогу проблемой. Строго говоря, вытеснение создает неудобства не столько само по себе, сколько в случаях, когда репрессия недостаточно надежно удерживает в бессознательном то, чему там надлежит оставаться. Это, в свою очередь, вызывает тревогу, которая снова заставляет прибегнуть к вытеснению, и круг замыкается. О.Маурер назвал данное явление "невротическим парадоксом", оно часто лежит в основе истерического невроза.
В практике терапевтического анализа клиенты хорошо реагируют на интерпретации, касающиеся вытесненных травм, фрустрирующих ситуаций, и менее проницаемы для интерпретаций по поводу вытесненных и подавленных желаний и влечений. А поскольку для успешного использования этой защиты необходимо сильное и устойчивое эго ("слабые" личности предпочитают изоляцию и отрицание), то терапевт часто сталкивается с упрямым нежеланием признать наличие вытесненных мотивов, чувств, желаний. В этом случае может помочь конкретный пример с анализом вытеснения того, что было предметом обсуждения на одном из предыдущих сеансов. Так, один из клиентов темпераментно рассказывал об обиде, которую нанес ему начальник в день юбилея. При следующей встрече он настойчиво утверждал, что юбилей прошел очень хорошо и сопровождался только приятными
[68]
переживаниями. Когда я напомнила про обиду, он искренне удивился — откуда я знаю? Уж не рассказал ли мне эту историю кто-нибудь из его недоброжелательно настроенных сослуживцев?
Регрессия или возврат к более ранним способам психического функционирования (формам мышления, способам поведения и действия, типам объектных отношений) бывает очень разнообразной. Подробное обсуждение ее видов и механизмов содержится в [37, с.418-420]. Возврат к прошлому, в особенности к раннему детскому опыту считается необходимым условием успешности психоанализа, однако в психодинамической терапии это требование не возводится в абсолют. При терапевтическом анализе мы не ожидаем глубокой регрессии клиента, чтобы воспроизвести условия формирования невротического симптома, а обычно сталкиваемся с нею после точных и прямых, "резких" интерпретаций, в результате которых тщательно скрываемые бессознательные импульсы становятся доступными сознанию. Клиенты склонны реагировать регрессией на успешно прогрессирующее лечение, и понимание этого факта помогает аналитику быть более терпеливым к ее проявлениям. Личности, злоупотребляющие регрессией и использующие ее в большинстве сложных жизненных ситуаций, рассматриваются как инфантильные, незрелые.
Рационализацию, интеллектуализацию, морализацию и раздельное мышление можно рассматривать как различные формы участия мышления и логики в искажении реальности при ее восприятии и осмыслении. Рационализируя, человек подыскивает хорошие и разумные причины для тех своих действий и поступков, которые выполнены на основе бессознательных мотивов и влечений, осуждаемых суперэго. Рационализация — очень естественный процесс, большинство людей склонны рационализировать свои неудачи и промахи, объясняя их действием объективных причин. Процесс рационализации лежит в основе так называемой фундаментальной ошибки каузальной атрибуции — феномена, многократно описанного в социальной психологии, "двойного стандарта" человеческого
[69]
поведения: если я сделал что-то хорошее, это моя заслуга, а если плохое — так уж получилось из-за случайного стечения обстоятельств. Если же нечто хорошее сделал мой враг или соперник, то это случайность, а вот его промахи вполне закономерны, он полностью ответственен за них.
Морализация — это рационализация, зашедшая намного дальше: клиент подыскивает уже не причины, объясняющие его поведение, а основания которые просто обязывают его поступать именно так, и никак иначе. Мнимые резоны превращаются в неукоснительные моральные требования: "Хорошо ли для аспиранта, если я воздержусь от критики его слабого и беспомощного научного доклада? Ведь это мой прямой долг, иначе он так и будет считать себя успешным". В морализации активно участвует суперэго клиента. Эта защита является хорошо продуманной и трудна для терапевтического вмешательства: клиент, убежденный в том, что он не просто напивается каждый вечер, а наказывает таким образом свою жену за бездушие и черствость, будет отметать любые интерпретации. Основная стратегия в таких случаях — снова и снова показывать клиенту, что его интеллектуальные увертки никак не меняют существующего положения дел, а уровень дискомфорта в ситуациях, где используется рационализация, продолжает расти.
Интеллектуализация — это отделение чувств от мыслей, а переживаний — от поведения. При таком виде защиты клиент признает наличие у себя отрицательных чувств, но не реагирует на них: "да, я сержусь на него, но это не мешает нам сотрудничать", "я испытываю некоторую обиду, но мое хорошее отношение к жене остается прежним". Внешне такое поведение выглядит сдержанным и уравновешенным, на самом же деле клиенты блокируют сильные чувства, не позволяют себе признаться в них и отреагируют "исподтишка". Интеллектуализацию часто используют подростки, чтобы выглядеть неуязвимыми, к ней склонны прибегать люди, стремящиеся производить впечатление мужественных, бесстрастных и хладнокровных.
Раздельное мышление (компартментализация) свойственно людям, рационально использующим диссоциатив-
[70]
ные процессы; в случае этой защиты противоречивые чувства или стремления существуют порознь, независимо друг от друга: человек считает алкоголь злом и осуждает пьяниц, но позволяет себе время от времени выпивать. К этому механизму часто прибегают родители, безусловно запрещающие детям вещи, которыми наслаждаются сами (курение, порнофильмы и т.п.). Используя компартментализацию, человек может придерживаться двух и более идей или форм поведения, конфликтующих друг с другом, не осознавая их противоречия или даже взаимоисключающего характера. Так, женщина, которую преследовали серьезные неудачи в семейной жизни, являвшиеся источником выраженного истерического невроза, считала себя прекрасным преподавателем психологии семейных отношений и настойчиво стремилась расширить круг своих слушателей. Она искренне удивилась вопросу, не является ли ее поведение компенсаторным, и никак не могла понять, "причем тут одно к другому".
Аннулирование сводится к магическому уничтожению чувства вины или стыда посредством действий, которые как бы "уравновешивают" ранее совершенные проступки. При этом компенсаторная природа "магического" поведения, равно как и желание искупить или загладить эффект содеянного ранее, совершенно не осознается. В терапии хорошо известен феномен гипертрофированной активности и повышенной сговорчивости клиента на сеансе, следующем после сильно сопротивляющегося поведения или срыва. На бытовом уровне аннулирование встречается очень часто и служит поводом для жалоб типа "какое-то время после дебоша муж ведет себя как ангея, но никогда не просит прощения и даже не желает об этом говорить, а потом снова напивается, и все повторяется сначала".
Защитное аннулирование лежит в основе ритуальных действий, связанных с искуплением грехов. Одна клиентка неожиданно испытала сильное огорчение и разочарование после дня рождения, когда получила множество цветов и знаков внимания от своих младших коллег. Она смогла понять это чувство, лишь интерпретировав их действия как ритуальные, в то время как сама она пред-
[71]
почла бы откровенное признание проблем, существующих в отношениях с товарищами по работе.
Поворот против себя — защитный механизм, с помощью которого клиенты пытаются совладать с чувствами ненависти и гнева, направленными на значимых людей. Такие чувства направляются на самих себя, и клиент чувствует себя в большей безопасности — ведь идеализированный другой остается неприкосновенным. К тому же всегда есть шанс услышать от него похвалу и поддержку, ободрение, что не так уж ты и плох. В раннем детстве причиной защиты "поворотом" может быть агрессия против любимой матери или обожаемого старшего брата. Одна из моих клиенток любила представлять себя в черном цвете, искренне считая, что если я (вдруг, не дай Бог!) ее не люблю, то лишь потому, что она этого заслуживает. В основе поворота лежит очень простая логика: если отношения со Значимым Другим — величайшая ценность, то лучше не подрывать их негативной критикой или сомнениями, а сразу признать себя плохим (грязным, жадным, грубым, глупым и т.д.), чтобы не рисковать — и не признаться в том, насколько ты зависим от них или вовсе не заслуживаешь таких отношений в принципе.
Близким к повороту против себя по сути и смыслу является реактивное образование. Эта защита состоит в том, что субъект заставляет себя испытывать чувство, противоположное подлинному — любовь вместо ненависти, восхищение вместо пренебрежения. Интересно, что за десять лет аналитической практики мне ни разу не встретилось реактивное образование "в сильной позиции" — замена позитивного чувства негативным. Зато обратных ситуаций бывало множество — видимо, отрицательные переживания оцениваются большинством клиентов как более угрожающие и опасные для самооценки.
Описывать идентификацию нет особой необходимости—с различными вариациями этого защитного механизма сталкивался любой психотерапевт. Она может быть проективной (субъект отождествляется с объектом собственной проекции), анаклитической (стремится быть похожим на уверенного в себе человека), нарциссической -
[72]
при этом происходит отождествление с чертами Я-идеала личности. Идентификация с агрессором — это защитная тенденция уподобить себя страшному, пугающему объекту; так часто происходит, например, в подростковых компаниях, где более слабые ребята идентифицируют себя с сильными лидерами. В литературе описаны случаи, когда заложники, захваченные бандитами, отождествлялись с их позицией, требованиями и моралью даже вопреки собственным интересам.
Идентификация — это универсальное защитное средство, используемое в широком круге социально значимых ситуаций. Как и большинство защитных механизмов, она имеет множество положительных аспектов и лежит в основе эмпатии, эмоционального научения, поддерживающего поведения. Механизм идентификации является компонентом многих высших человеческих способностей и качеств — любви, долга, самоотверженного служения идеалам, гражданского мужества и других. Способностью к идентификации во многом обусловлены изменения, происходящие с личностью в результате обучения или терапии.
Отыгрывание (обусловленное личностью аналитика или ходом терапии поведение, которое клиент не решается осуществить прямо на сеансе и выносит за рамки терапевтических отношений) может иметь самые разные формы. Чаще всего отыгрываются различные аспекты трансферентных отношений (любовь или ненависть к аналитику, ревность, зависть, инцестуозные влечения). Чувства, порождаемые трансфером, неуместно проявляются в различных сферах жизни клиента, а затем становятся предметом обсуждения в анализе. Так в косвенной форме они выражаются тому, кому, собственно, и предназначены.
Иногда отыгрывание происходит и в процессе терапии — клиент на текущем сеансе находится во власти чувств, испытанных ранее, и ведет себя в соответствии с ними, как бы "припоминая" аналитику прошлые грехи. Сталкиваясь с сильными, интенсивными чувствами и переживаниями клиента, всегда стоит обсудить то, в каких формах, где и когда он будет их отреагировать. Такое обсуждение иногда снимает проблему отреагирования в це-
[73]
лом, так как является, по существу, одной из его форм. Очень трудно анализировать чересчур импульсивных людей, которые не способны наблюдать за чувствами, не выражая их в действиях и поступках. В этих случаях более эффективна гештальт-терапия, психодрама и т.п.
Сексуализацию или эротизацию можно рассматривать как частный случай отыгрывания, при этом личность пытается справиться с тревогой, сопровождающей ее действия, с помощью сексуальных фантазий. Отношения зависимости сексуализируются наиболее часто, и далеко не все порождаемые при этом сценарии являются патологическими. Что же касается таких феноменов, как юношеская влюбленность в учителей, сексуализапия фигур политиков, известных спортсменов или актеров, то они общеизвестны. Механизм эротизации — основа основ рекламы, шоу-бизнеса, почти любой пропаганды и т.п.
Реверсия — это очень своеобразная защита, при которой субъект и объект меняются местами. Например, испытывая потребность в восхищении со стороны окружающих, человек может активно восхвалять кого-либо другого и, бессознательно идентифицируясь со своим кумиром, подчеркивая свою реальную или воображаемую близость к нему, отчасти удовлетворяет эту потребность. Хорошо известно поведение женщин, соблюдающих строгую диету, — часто они любят готовить, настойчиво потчуют вкусными блюдами друзей и членов семьи и испытывают громадное удовлетворение, глядя как другие много и с аппетитом едят. Некоторые пациенты справляются с дискомфортом во время терапии тем, что сами делают попытки анализировать терапевта. В учебно-аналитических группах механизм реверсии является мощным положительным фактором, способствует созданию атмосферы делового сотрудничества и взаимной доброжелательности.
Сублимация или возвышение либидо до стремления к целям, не связанным с сексуальным удовлетворением и иными примитивными удовольствиями, — фундаментальная человеческая способность, лежащая, по Фрейду, в основе цивилизации и духовной культуры. В программной работе "Судьбы влечений" (1905) основоположник
74
психоанализа утверждает, что сублимация (наряду с обращением на себя, превращением в противоположное и вытеснением) — один из четырех основных путей развития психики. Тремя годами позже, в специальной статье, посвященной связи между сексуальным влечением, сублимацией и неврозом17, он конкретизирует свою мысль:
"Развитие сексуального инстинкта идет от аутоэротизма к поиску объекта любви и от автономии эрогенных зон к их подчинению половым органам, служащим процессу размножения. В ходе развития часть доставляемого собственным телом сексуального возбуждения делается избыточной, подавляется и, в благоприятных случаях, подвергается сублимации. Таким образом, годные для культурной работы силы выигрываются преимущественно посредством подавления извращений сексуального инстинкта" [74, с.20, архаизмы убраны мною — Н.К.].
Как видим, сублимация не является, в строгом смысле слова, психологической защитой. Это, скорее, механизм, обеспечивающий нормальное и адекватное личностное функционирование, "узаконенный" обществом способ утилизации (катектирования) либидо. О защитных функциях сублимации можно говорить в тех случаях, когда она затрагивает не чрезмерные аспекты сексуальной энергии, или предлагает социально одобряемые, культурно значимые формы реализации влечений, слабо связанные с их непосредственным объектом. Например, робкий юноша, благоговеющий перед женщинами, увлеченный любовной поэзией или галантной живописью, но отчаянно боящийся реальных контактов со сверстницами, использует сублимацию для снятия избыточного напряжения. Или (хрестоматийный пример) — эротические, чувственные картины на религиозную тему, написанные исповедующими аскетизм художниками.
Знание природы психологических защит и их разновидностей позволяет терапевту лучше ориентироваться в бессознательных основах поведения клиента и помогает представить себе структуру той части его Я, которая участвует в процессах самопредъявления. Ведь вступая в значимые отношения, индивид тщательно оберегает именно
[75]
те аспекты своей личности, которые особо ценны и уязвимы, ибо связываются с экзистенциальными основами его индивидуального бытия. Иными словами, защиты располагаются "прямо над" теми личностными образованиями, что функционируют патологически и являются источниками проблем.
В терапевтическом анализе работа с защитами чаще всего составляет "второй план" терапии, тогда как первый занят исследованием генезиса проблем клиента и пониманием вклада бессознательных содержаний в этот процесс. Чаще всего защиты рассматриваются сперва как факторы, мешающие пониманию аналитических интерпретаций, а потом уже — как основания психологических и личностных трудностей. Поскольку для клиента защиты суть обычные и привычные способы взаимодействия с миром и другими людьми, то их интерпретации должно предшествовать описание конкретных, четких форм защитного поведения. Терапевт, встречающий упорное сопротивление, может начать с поведенческой картины, а уж потом определять ее как ту или иную защиту.
Препятствия анализу можно схематически отразить следующим образом:
[76]
Однако терапевтическая работа должна включать как анализ, так и синтез — иначе эффективность терапии невелика. А для этого необходимо иметь развернутое представление о личности в целом, нужна теоретическая модель становления и развития ее активности. Анализ защит и сопротивлений диктует тактику терапевтического вмешательства, а выработка стратегии требует более системных знаний и представлений о бессознательной природе внутренней динамики личностных структур. Поэтому следующая глава будет посвящена обзору основных положений глубинной психологии, в особенности тех, которые определяются классической линией развития фрейдовского психоанализа.
Глава 3. Психоаналитические идеи и представления в терапевтическом анализе
3.1. Возможности психоаналитического подхода
За почти двухсотлетнюю* историю развития теории и практики психотерапевтической помощи сформировалось несколько сотен ее специфических вариантов и форм. Согласно мнению специалистов Европейской Психотерапевтической Ассоциации (ЕАР), их можно сгруппировать в пять основных категорий:
"1) Психоаналитическая психотерапия — охватывает те формы психотерапии, которые можно вывести из глубинных психологический теорий Фрейда, Юнга и др.; жизненные проблемы при этом рассматриваются как результаты неосознанных конфликтов и моментов развития.
2) Когнитивная и поведенческая терапия — охватывает те формы психотерапии, которые опираются на теории обучения и когнитивную психологию; жизненные проблемы тут выводятся из неправильного обучения и мышления.
3) Гуманистическая психотерапия — охватывает те формы психотерапии, которые, в противовес квази-редукционизму психоанализа и бихевиоризма, акцентируют потенциал человеческого развития. Здесь жизненные проблемы рассматриваются как блокада чувств.
4) Системная психотерапия — охватывает те формы психотерапии, которые — на основании общей теории систем — рассматривают жизненные проблемы как возникающие
* В 1811 году немецкий ученый Иоганн Кристиан Хейнрот из Лейпцига был назначен на должность профессора психотерапии. С этого момента можно вести формальный отсчет существования психотерапии в качестве самостоятельной научной дисциплины.
[78]
вследствие сдвига функций в системе или группе, к которой принадлежит данное лицо.
5) Экзистенциальная психотерапия — охватывает те формы психотерапии, основу которых составляет экзистенциальная и феноменологическая философия. Жизненные проблемы объясняются тут недостатком ясности понимания условия человеческого существования" [55, с. 30-31].
Эвристические возможности психотерапевтических теорий трудно сравнивать. Тем более нелепо пытаться рассматривать различные подходы на предмет большей или меньшей эффективности предлагаемых методов воздействия. Как и в других сферах человеческой жизни, в области психологический помощи популярно далеко не самое лучшее, а прежде всего доступное, разрекламированное и недорогое.
По моим наблюдениям, стихийно сложившаяся в отечественной психотерапии практика выбора направления, в котором терапевт специализируется, во многом случайна. Сравнительно редко встречаются практики, тяготеющие к нескольким подходам, и очень часто терапевт считает избранную ориентацию самой лучшей и наиболее эффективной (а то и единственно правильной). При этом подходы, требующие более длительной и дорогостоящей подготовки (а аналитическая терапия именно такова), естественно, оказываются менее популярными.
Интеллектуальная респектабельность психоаналитической терапии несомненна, так что аналитики не прибегают к интенсивно-оголтелым способам рекламы своей деятельности. Психоанализ пропагандируется меньше, чем другие подходы, он реже представлен в профессиональном поле отечественной психотерапии. Соответственно, изучение психоаналитической теории и обучение навыкам аналитической работы мало распространено. Институциализированные, легитимные формы подготовки психоаналитиков доступны и вовсе только единицам. Профессиональное сообщество психоаналитиков расширяется в соответствии с правилом "числом поменее, ценою подороже".
Другой стороной такого положения вещей, является существенно меньшее (по сравнению с другими направ-
[79]
лениями) количество книг, посвященных методическим и клиническим аспектам психоанализа. Переводы (качественные, снабженные комментариями) работ современных психоаналитиков можно сосчитать по пальцам. Тексты классиков, собственно первоисточники, переиздаются чаще, но большей частью при этом используются устаревшие переводы, с архаическими речевыми оборотами, расплывчатыми формулировками основных положений. Такие авторы, как Д.Айке, Д.Анзье, М.Балинт, Д.Боулби, М.Кляйн, М.Малер, Г.С.Салливан, Дж.Сандлер, Х.Сегал, Р.А.Спитц, Р.Стерба, Д.У.Фэйрберн, А.Холдер, Ш.Ференци и др., либо вообще не представлены в русских переводах, либо известны их единичные небольшие работы. Практически нет трудов по структурному психоанализу (за исключением двух томов "Семинаров" и нескольких статей Ж.Лакана), остались в стороне интереснейшие результаты постмодернистской рефлексии бессознательного. Книг отечественных психоаналитиков, содержащих обсуждение актуальных проблем психодинамической терапии и результатов собственной практики, не наберется и полдесятка. Русских учебников, подобных двухтомнику Х.Томэ и Х.Кэхеле [67] или монографии Р.Р.Гринсона [13], нет вообще.
Поэтому обсуждение идей и теорий глубинной психологии, которые могут использоваться в практике терапевтического анализа, представляется важной и актуальной задачей. Я хорошо сознаю, что данная работа ни в коем случае не может приравниваться к систематическому изложению психоаналитической теории. Это всего лишь попытка выделить ряд научных, теоретических и методических положений психоанализа, способных структурировать мышление начинающих психотерапевтов.
По мере накопления опыта практической работы психотерапевт все чаще испытывает потребность в его осмыслении. Со времен Х.Кохута самонаблюдение (интроспекция) и эмпатия служат не только основными формами организации психотерапевтических отношений, но и главными принципами, определяющими направления (интенции) мыслей и действий терапевта. Психоана-
[80]
литическая (или другая, но глубинная психология предлагает лучшие из возможных) теория предлагает логику понимания и практических действий на сеансе. Параллельно с этим различные школы предоставляют удобный и конкретный язык описания проблем, основания для систематизации, варианты теоретических моделей — одним словом, все, что необходимо для понимания и осмысления феноменов, возникающих в ходе психотерапевтического взаимодействия.
Эволюция психоаналитических школ и подходов — предмет для глубоких и серьезных научных изысканий. Этот вопрос освещается во множестве справочников и учебных пособий; из имеющихся на русском языке можно рекомендовать книгу П.Куттера [32] и некоторые словари [47, 53]. В рамках терапевтического анализа полезно представлять себе хотя бы общие особенности развития психоаналитической теории. Следующая схема будет полезной при выборе направления для интерпретаций в работе с конкретным клиентом:
|
Личностная подструктура, в которой преимущественно локализованы проблемы клиента
|
Психоаналитическая школа или направление
|
|
Супер-Эго (Сверх-Я)
|
Неофрейдизм, психология Самости Х.Кохута, индивидуальная психология А.Аддера
|
|
Эго
|
Эго-психология, работы Р.Спитца, Э.Эриксона, Г.С.Салливана.
|
|
Ид (Оно)
|
Теория объектных отношений, британские школы (Д.В.Винникотт, Д.У.Фэйрберн и Др.), фрейдовская теория влечений.
|
Классический психоанализ вряд ли можно назвать свободной от противоречий психотерапевтической школой, но он сохраняет цельность и единство своих теоретико-методологических оснований и преемственность форм и методов аналитической практики. Основные положения
[81]
фрейдовского учения — теория структуры и функциональной динамики психического аппарата, представления о стадиях развития личности, этиологии психических нарушений и способах их лечения — прихотливо эволюционировали в рамках различных глубинно-психологических школ, но при всем многообразии существующих ныне вариантов они более или менее схожи.
3.2. Ранние фрейдовские представления о психическом функционировании
Фрейд рассматривал психоанализ в качестве объективного способа научного познания, способного определить долю участия бессознательной проекции в формировании системы представлений об окружающей действительности. "Большая часть образа мира, — писал он, — есть не что иное как проекция психического на внешний мир. Неясное осознание (внутреннее восприятие) психических факторов и бессознательных процессов отражается в конструировании сверхчувственной реальности, которую научное знание должно преобразовать в психологию бессознательных явлений" [108, Vol. 22. Р. 182]. Развитие психического аппарата предполагало способность формировать со временем все более объективные представления о мире, однако бессознательные влечения предопределяли психическую активность человека в любом возрасте. Психологические проблемы личности, психические нарушения и расстройства были проявлениями специфических нарушений равновесия в психическом аппарате. Исследование этих нарушений и выработка способов лечения были главной задачей фрейдовского психоанализа, в истории которого принято выделять три последовательно сменявших друг друга этапа ее разрешения.
На первом этапе* развития психоанализа Фрейд предложил модель аффективной травмы, лежащей в основе
* Обычно первый этап соотносят с работой "Проект научной психологии", написанной в 1985 г. Топическая модель изложена в "Толковании сновидений" (1900), а структурная относится к 1923 г., когда была создана работа "Я и Оно".
[82]
психопатологии. Второй этап представлен топической моделью психического аппарата, состоящего из трех систем — бессознательного, предсознательного и сознания. В рамках этой модели психопатология рассматривается как результат вытеснения в бессознательное психических содержаний, связанных с переживанием и удовлетворением влечений. Структурная теория рассматривает психические расстройства как нарушения внутриличностной динамики, следствие антагонизма между Оно, Я и Сверх-Я.
Первоначально Фрейд полагал, что основная функция психического аппарата состоит в способности управлять психической энергией, в стремлении создавать оптимальное для личности состояние равновесия и покоя. Такой гомеостатический принцип работы психики способствует ее функционированию на относительно постоянном и при этом стабильно низком энергетическом уровне; эмоция (аффект) есть его повышение. При слишком большом количестве аффективной энергии психический аппарат не способен ее контролировать, инстинкты и влечения становятся неуправляемыми. Это и называется психической травмой, причем для целей лечения необходимо отличать актуальные травмы (возникающие как непосредственная реакция на реальное событие или ситуацию) и ретроактивные травмы, связанные с прошлыми событиями, воспоминание о которых может внезапно породить сильный аффективный конфликт. Например, невротический симптом может развиться в результате ассоциативной связи между переживанием сексуального влечения в зрелом возрасте и сексуальным воспоминанием раннего детства; такого рода травмы Фрейд считал ключевыми в возникновении истерии.
В соответствии с теорией аффективной травмы он выделял две категории неврозов: психоневрозы, к которым относились истерические неврозы и неврозы навязчивых состояний, и актуальные неврозы, включающие неврастению и неврозы страха. И те, и другие суть личностные и поведенческие расстройства психогенного происхождения, симптомы которых в символической форме выража-
[83]
ют либо конфликт между влечением и моральными чувствами пациента (психоневроз), либо сексуальную фрустрацию (страхи и неврастения).
В дальнейшем Фрейд пересмотрел свою раннюю теорию патогенеза психических расстройств, ряд исходных положений которой (например, представление о сексуальном совращении в раннем детстве как реальном факте биографии невротиков) оказались ошибочными. Однако именно модель аффективной травмы18 часто лежит в основании расхожих представлений о психоаналитической теории невроза. В теории сексуальной травмы — корни обыденно-житейского понимания психоанализа как стремления обнаружить "клубничку" в индивидуальной истории и "объяснить" с ее помощью чью-либо личную жизнь и общественную деятельность, литературно-художественное творчество и т. п.
В топической модели главный объяснительный потенциал связан не с аффектами (непосредственно переживаемыми состояниями), а с влечениями — психическими репрезентантами ("образами") потребностей, побуждающих индивида к активности, к выполнению определенных действий. Влечения, по Фрейду, — основной механизм и залог психической активности, удовлетворение влечения (разрядка побуждения) — условие жизни организма и источник развития личности и психики:
"Возникающие в организме раздражения влечений... предъявляют к нервной системе гораздо более высокие требования, побуждают ее к сложным последовательным действиям, благодаря которым возможно удовлетворение, но главным образом они заставляют нервную систему отказаться от своей идеальной цели — устранения всяких раздражении. Можно заключить, что именно влечения, а не внешние раздражения, являются двигателем прогресса, который привел к развитию столь совершенной и бесконечно работоспособной нервной системы" [77, с. 128, архаизмы убраны мною — Н.К.].
Влечения, каждое из которых обладает специфическим типом переживания психического напряжения, целью, объектом и исходит из определенного соматического ис-
[84]
точника, составляют основное содержание системы бессознательного, подчиненной принципу удовольствия, т.е. стремлению к удовлетворению влечений. Аффекты сопровождают процессы разрядки и, в отличие от влечений, не подвергаются вытеснению. Инстинктивные желания и влечения (сексуальные и агрессивные), их объекты и формы удовлетворения являются главным источником психических конфликтов и служат объектом вытеснения. Подавляются и вытесняются также различные представления, связанные с проявлением и реализацией влечений, аффективно окрашенные способы соответствующего поведения и, наконец, во взрослом возрасте вытесненными или не воспринятыми сознанием могут оказаться ситуации, связанные с возникновением желания и возможностью его исполнения.
История развития фрейдовских идей о генезисе неврозов может быть представлена следующей схемой:
[85]
В процессе терапевтического анализа вытесненные влечения представлены прежде всего сильными аффектами. Бурные эмоции, неуместные чувства обусловлены главным образом трансфером, однако их модальность и формы проявления могут указывать на природу вытесненных желаний. Разумеется, нельзя анализировать аффективную динамику в отрыве от объектных отношений клиента, но бывают случаи, когда терапевт наблюдает схожие эмоции в одинаковых ситуациях с различными объектами. Так, одна из моих клиенток, госпожа Б., в числе прочих своих проблем отмечала склонность к яростным спорам, в ходе которых она полностью утрачивала контроль над своими действиями. Госпожа Б. жаловалась, что ввязывается в споры в совершенно неподходящих ситуациях с людьми, которые заведомо некомпетентны в обсуждаемых вопросах. Чем более неправым или неосведомленным оказывался ее противник, тем сильнее она вовлекалась в спор и, в конечном счете, все заканчивалось, по ее словам, "безобразной сценой, в которой я выглядела просто ужасно — как в переносном, так и в прямом смысле: разозленная фурия, которая уже ничего не соображает и только кричит".
При обсуждении этой проблемы довольно быстро выяснилось, что в ситуации спора сильные эмоции настолько захлестывают госпожу Б., что все когнитивные процессы почти полностью блокируются. "Во время спора я не могу думать, я могу только кричать, — говорила клиентка. — Мое единственное желание — победить во что бы то ни стало, хотя часто сам предмет спора уже давно утрачен. Для меня главное — переспорить противника. Недавно мы спорили с подругой и я решила закончить спор, сказав ей, что первым способен остановиться тот, кто умнее. Вот я и прекращаю спор. Подруга сказала:
"Хорошо, пусть ты будешь умнее, а я зато останусь права". Мне было так обидно, даже сейчас об этом спокойно говорить не могу".
Со мной г-жа Б. никогда не спорила. По ее словам, если собеседник явно компетентнее и умнее ее, она не спорит, а прислушивается к его мнению. В трансферентном
[86]
отношении ко мне наблюдалась следующая картина: клиентка высоко ценила позитивное отношение к себе и была уверена в моей симпатии. Но почти каждый сеанс она начинала с довольно-таки невротичного "вымогательства" комплиментов и одобрительных замечаний. В противном случае она съеживалась в кресле и молча переживала состояние, обозначенное в анализе как "чувство того, что мои успехи ничтожны, что я мало понимаю и вообще глупая". Если же я хвалила ее, то (независимо от того, насколько заслуженной была похвала) у госпожи Б. после мгновенной вспышки удовольствия начинало нарастать чувство тревоги.
Тревога, как легко удалось выяснить, была связана с чувством вины. Свое чувство вины г-жа Б. прокомментировала следующим образом:
К: Когда Вы говорите, что я молодец, или хвалите меня за то, что я сумела понять, мне кажется, что это незаслуженная похвала. II я опасаюсь, что, когда Вы сами это поймете, Вы на меня рассердитесь.
Т: За что?
К: За то, что я на самом деле ничего не понимаю, или понимаю очень мало, намного меньше, чем нужно. {После паузы). И тогда я сама на Вас обижаюсь, понимаю, что это неправильно, и вот я снова виновата. А Вы меня незаслуженно хвалите.
Т: А как это похоже на ситуации, в которых Вы яростно спорите?
К: А там точно так же, только наоборот. С Вами я не спорю, потому что Вы правы, а я ничего не понимаю, или почти ничего. А в спорах сначала собеседник не понимает, насколько он не прав, а потом уже и я сама...
Т: Чего Вы не понимаете в споре?
К: Как я выгляжу со стороны. Насколько все это глупо и вообще — стоит ли спорить с человеком, который ничего не понимает в предмете спора и отстаивает свое мнение из упрямства, и чтобы меня позлить.
[87]
Из этого диалога видно, что госпожа Б. испытывает сильную фрустрацию в ситуации социального сравнения, когда ее значимость подвергается сомнению или (как ей кажется) умаляется из-за присутствия более компетентного и авторитетного собеседника. В обоих случаях сильный немотивированный аффект (гнев-ярость-агрессия или тревога и вина) указывают на вытесненное бессознательное желание нарциссической природы ("никто не смеет подвергать сомнению правоту (силу) моего Я").
В трансферентных отношениях вытеснено настойчивое желание получить одобрение и похвалу аналитика. Клиентка легко принимает и усваивает соответствующую интерпретацию, а затем предлагает новый материал для анализа:
К: Конечно, я согласна, что мне очень хочется услышать от Вас похвалу. Любому приятно. Но на самом деле я Вашего одобрения не столько хочу, сколько боюсь. Боюсь не оправдать доверия, а вдруг Вы хвалите незаслуженно. Понимаете? Я ведь знаю, что Вам нельзя верить, что Вы ненадежная абсолютно...
Т: Последнее — проекция чистой воды. Теперь мне понятно, что это Вы чувствуете себя ненадежной, не заслуживающей доверия. Поэтому и испытываете дискомфорт в тех случаях, когда я Вас хвалю.
К: А если я этого не заслуживаю?
Т: Конечно не заслуживаете, раз Вы ненадежная. За что хвалить человека, которому нельзя верить? Но эту ненадежность Вы приписываете мне, и получается замкнутый круг: раз я одобряю какие-то аспекты Вашего поведения или личности, то делаю это неоправданно, и верить мне нельзя, а значит — Вы плохая. Вас не за что хвалить, следовательно, на мою оценку Вашей личности положиться нельзя. Стало быть, и я тоже плохая.
Г-жа Б. наконец понимает, как сильно перепутаны ее аффективные реакции. Проработка этого инсайта завершается просьбой объяснить, что происходит на самом деле, каковы мои подлинные чувства и мотивы. Следующая интерпретация разъясняет их природу:
[88]
Т: Вы не всегда можете отделить критику отдельных аспектов действий и поведения от негативной оценки своей личности в целом. Если я говорю "Это сделано плохо (или неправильно)" — это не значит, что Вы плохая.
К: Как это не значит?
Т: Очень просто. В первом классе хорошая учительница не должна говорить "Миша ленивый" или "Катя неаккуратная", иначе дети будут считать себя тотально плохими, вот как Вы. Она говорит: "Миша сегодня ленится" или "Катя эту страницу написала неаккуратно". И на следующий раз Миша и Катя постараются сделать лучше.
Госпожа Б. замечает, что в детстве ее часто называли и считали плохой, если она делала нечто плохое.
Т: Вот видите. Поэтому мне приходится целенаправленно разделять свои оценки. Я говорю: "Вы хорошая, но это или то сделали плохо". Я стремлюсь отделить отношение к Вашим действиям (не всегда правильным) от отношения к Вам (всегда позитивного и безоценочного в принципе).
К: А я Вам не верю, потому что нельзя быть хорошей, если что-то делаешь плохо.
Т: И меня же в этом обвиняете. А потом пугаетесь — вдруг я все пойму и, в свою очередь, сделаю Вам в отместку что-нибудь плохое.
К: Да, это так. Знает кошка, чье мясо съела!
Аффективная динамика в трансфере указывает на вытесненный страх отвержения, а чувство вины у госпожи Б. имеет контр-фобическую природу, осуществляя профилактику этого страха. Неспособность контролировать аффект в споре и невозможность спорить с авторитетной личностью оказываются двумя сторонами одного и того же бессознательного желания утвердить независимость и автономность собственного Я, но аффективная окраска ситуаций различна (агрессия и тревога). Проблема г-жи Б. хорошо иллюстрирует принятый в психоанализе взгляд на агрессию как форму защиты от тревоги и показывает, как часто чувство вины и тревога маркируют вытеснение агрессивных влечений.
[89]
3.3. Влияние бессознательного на восприятие реальности
Первоначально ядро бессознательного составляют инстинктивные желания и связанные с ними ранние (инфантильные) формы удовлетворения влечений. С ними постепенно связываются другие "содержания-представления", бывшие ранее приемлемыми, но подавляемые из-за своей конфликтной природы, амбивалентности, высокой аффективной силы и т.п. Постепенно процесс вытеснения становится непрерывным: "Когда достигнута определенная точка в индивидуальном развитии, вытеснение инстинктивного желания или его дериватов19 может происходить постоянно. Причина вытеснения заключается в вызванном конфликтом неудовольствии. Таким образом содержания бессознательного постоянно пополняются вытеснениями. Одновременно инстинктивные желания бессознательного постоянно побуждают к создания новых дериватов" [93, с.247]. Так психика оказывается разделенной на две антагонистические структуры (бессознательное и сознание), между которыми существует узкий коридор предсознательного, через который идет обмен психическими содержаниями — под строгим контролем цензуры.
Бессознательные влечения и желания, преставления и образы, которые активно стремятся к выражению и удовлетворению, но активно сдерживаются сознанием — это динамическое бессознательное, источник побуждений и активности, тогда как дескриптивным (описательным) бессознательным называют просто все, что сознанию недоступно. Дескриптивное бессознательное и составляет содержание системы предсознательного, последнее включает в себя также и цензуру. Цензуру не следует понимать только как систему запретов — это скорее инстанция, которая одновременно служит и удовлетворению бессознательных желаний, и приспосабливается к требованиям окружающей действительности. Это еще не принцип реальности в строгом смысле слова, но стремление к ком-
[90]
промиссу, попытка, что называется, и невинность соблюсти, и капитал (удовольствие) приобрести.
Функции предсознательного, как они перечислены А.Холдером [см. 93, с.251-253], представляют собой начальные формы вторичного процесса, контролирующего первичный процесс распределения (катектированид) психической энергии в соответствии с бессознательными желаниями и влечениями. В отличие от сознательного Я личности предсознателъное лишь выборочно руководствуется логическими законами, принципом причинности и другими атрибутами развитого мышления. Противоречия и хаотическая избирательность контроля над влечениями необходимы для принятия компромиссных решений, обеспечивающих частичное удовлетворение и разрядку побуждений. Хорошим примером работы пред-сознательного является цензура сновидений.
Близкими бессознательному аспектами предсознательной активности будут: формирование воображаемых образов, фантазмов, возникновение и развитие аффектов, использование примитивных зашит и симптомообразование. Такие функции, как критическая оценка представлений и переживаний, ассоциативная память, проверка реальности (способность различать воображаемое и действительное), контроль над доступом в сознание и связывание сильных аффектов, сближают предсознателъное с деятельностью Я и вторичным процессом.
Сознание (Фрейд использовал термин "система восприятие/сознание") в психоанализе трактуется как располагающаяся на периферии психического аппарата способность различать свойства предметов и явлений и воспринимать новые впечатления независимо от предыдущих. В топической модели Фрейд далек от понимания сознания как высшего уровня психики, интегрирующего впечатления от реальности в осмысленный концепт мира. Основная задача сознания — обеспечивать работу бессознательного, "высматривая" в окружающей действительности подходящие объекты и условия для удовлетворения влечений. Вот характерное описание сознания как придатка бессознательной психики:
[91]
"Я предположил, что нервные импульсы в сознании посылаются изнутри быстрыми периодическими толчками в абсолютно проходимую систему "восприятие/сознание" и оттягиваются назад. Пока система насыщается таким образом, она получает сопровождающиеся сознанием восприятия и проводит возбуждение дальше в бессознательные системы воспоминания; как только насыщение прекращается, сознание угасает, и деятельность системы заканчивается. Дело обстоит так, как будто бессознательное протягивает с помощью системы "восприятие/сознание" щупальца во внешний мир, которые быстро оттягиваются назад, после того как они ощутили существующие в нем возбуждения" [80, с.562].
Таким образом, именно бессознательная динамика влечений, которая является побудительной основой поведения, предопределяет нормальное или патологическое личностное функционирование. Сознательная регуляция мало что меняет в работе психического аппарата, но формы психопатологии при недостаточном контроле над влечениями (психоз) будут отличаться от невроза, связанного с их чрезмерным подавлением и вытеснением.
Различиям между неврозом и психозом посвящены несколько специальных работ, относящихся уже к третьему периоду развития психоаналитической теории. Расчленение душевного аппарата на Оно, Я и Сверх-Я позволило Фрейду точнее описать противоречивые характеристики психических содержаний независимо от меры (степени) выраженности в них качества сознания. Самое простое определение типов нарушений связывает их с локализацией психического конфликта: "невроз является конфликтом между Я и Оно, психоз же является аналогичным исходом такого нарушения во взаимоотношениях между Я и внешним миром" [80, с.535]. Далее Фрейд конкретизирует эти различия, указывая на разницу в типе утраты реальности: "при неврозе Я, находясь в зависимости от реальности, подавляет часть Оно (часть влечений), в то время, как то же самое Я при психозе частично отказывается в угоду Оно от реальности" [80, с.539].
Рассматривая Я как связную организацию душевных процессов в личности, Фрейд описывает компенсатор-
[92]
ную природу его участия в образовании симптомов психических расстройств. Бессознательная динамика в неврозе выглядит следующим образом: Я вытесняет и подавляет влечения в угоду принципу реальности, а затем следует бессознательная компенсация, "вознаграждающая потерпевшую часть Оно". Невротическая симптоматика есть следствие такой компенсации. Она приводит к утрате именно тех аспектов реальности, которые требовали отказа от влечений, а сам невроз как следствие "недовытеснения" гарантирует Оно (и личности в целом) удовольствие в форме вторичной выгоды.
Как правило, привлечение внимания клиента ко вторичной выгоде от своих симптомов и проблем удачно структурирует терапевтическую работу. Обсуждение "выгодных", удобных для него последствий невротических нарушений помогает вернуть утраченные фрагменты реальности, т.е. способствует формированию более реалистических и здоровых представлений о себе и своем социальном окружении. Кроме того, разбор нарциссической динамики мотивов вторичной выгоды позволяет субъекту ощутить свои симптомы как болезненные (эго-дистонные), чуждые нормальному здоровому самоощущению. Довольно часто обсуждение первичной (способы и формы бегства в болезнь или проблему) и вторичной (добавочное удовольствие от внимания и заботы, которой пользуются люди больные и/или несчастные) выгоды от невроза составляет половину всего объема терапевтической работы.
Но бывает и так, что анализ вторичной выгоды столь сильно разрушает иллюзию внутреннего комфорта клиента, что невротическая симптоматика видоизменяется в психотическую. В психозе процессы вытеснения захватывают часть реальности, с которой Оно не может согласиться, а затем в рамках принципа удовольствия конструируется новая реальность, удобная и приятная для субъекта. Психоз не знает вторичной выгоды, это не бегство в болезнь от действительности, но болезненное, патологическое видоизменение реальности в угоду бессознательным желаниям и влечениям. "Этот новый фантастический
[93]
внешний мир психоза, — пишет Фрейд, — стремится занять место внешней реальности; в противоположность неврозу он охотно опирается, подобно детской игре, на часть реальности (это не та часть, от которой он должен защищаться), придает ей особое значение и тайный смысл, который мы — не всегда правильно — называем символическим" [80, с.542-543].
В моей практике был случай, когда активная терапевтическая работа с невротиком, чья вторичная выгода отличалась огромными масштабами, привела к психотическому срыву. Причиной последнего послужило целенаправленное разрушение аналитиком уютного невротического мирка, который госпожа 3. терпеливо создавала в течение нескольких лет. Наверное, теперь моя позиция была бы более щадящей и терпимой, но тогда победу одержало стремление к быстрому терапевтическому эффекту.
Госпожа 3. работала в большом детском учреждении (назову его Центром), коллектив сотрудников и воспитанников которого представлял собой довольно замкнутую систему с весьма специфическими обычаями и традициями. Это был особый мир, где желаемое так часто выдавалось за действительное, что их взаимозаменяемость стала одним из фундаментальных принципов организации жизни и персонала, и детей. Но если дети, пожив некоторое время в радостном и сказочном мире собственных фантазий, уезжали и взрослели в реальном социуме, то многие взрослые, годами не покидавшие территории Центра, были вынуждены питать и поддерживать иллюзии экзистенциальной коммунитас20, составляющей жизненную философию и modus vivendi данного учреждения.
Безусловно, общая инфантилизация психологического климата, характерная для Центра, наложила отпечаток на невротические симптомы клиентки, которая при каждом удобном случае выступала не просто как его сотрудник, но как выразитель и хранитель его норм и традиций, ревнивый и бдительный носитель соответствующего уклада жизни. Настойчиво декларируемые ценности дружеской поддержки, взаимопомощи, уважения и безоценочного
[94]
принятия другой личности были хорошо вписаны в структуру невроза г-жи 3. Обладая от природы дисгармоничной внешностью (массивная фигура атлетического типа и постоянно покрытая воспаленной угревой сыпью кожа), клиентка использовала эти особенности как основание "разрешать" себе лично весьма асоциальные формы поведения. Она нетерпимо относилась к критике и замечаниям в свой адрес, могла прервать любой (в том числе официальный и служебный) разговор истерическими выкриками, постоянно привлекала к себе внимание, ненасытно жаждала одобрения и поддержки, в самых одиозных формах проявляла симпатию и антипатию к противоположному полу. Это была одна из самых крайних форм истерического невроза, которую мне когда-либо приходилось наблюдать.
Столь эксцентричное поведение госпожа 3. демонстрировала всюду, за исключением отношений со своими учениками (к моему удивлению, она работала учителем младших классов). Именно администрация школы проявила инициативу в обращении к психотерапевту, попросив меня "немного помочь" этой девушке. Однако наблюдая поведение и истерические реакции г-жи 3. в учебной группе, где я преподавала психологию личности, я не торопилась предлагать свои услуги. В конце концов госпожа 3., которой знакомые это настойчиво советовали, пришла ко мне сама.
Согласившись с тем, что у нее есть проблемы в отношениях с людьми (первоначальная жалоба была сформулирована, как и следовало ожидать, в форме проекции собственных ожиданий: "все окружающие относятся ко мне потребительски, пользуются мной и моей добротой"), г-жа 3. наотрез отказалась обсуждать явно девиантный характер своего поведения. По ее глубокому убеждению, она ведет себя с людьми ненавязчиво и скромно, "не высовывается", делает много добра, ее все любят, уважают и прекрасно к ней относятся. Указав на противоречия этого описания и первоначальной жалобы на потребительское отношение других, я вызвала очередную истерику — со слезами и нелепыми обвинениями в собственный адрес.
[95]
Все это свидетельствовало о том, что мне вряд ли удался терапевтический альянс с г-жой 3. Тем не менее она продолжала приходить в часы, отведенные для индивидуальных консультаций, и жаловалась окружающим на мою черствость и нежелание помочь. Одновременно в учебной группе стали периодически возникать дискуссии на тему "Как помочь бедняжке З." Студенты настойчиво просили меня продолжить работу с ней, а сама госпожа 3. вела себя так, как будто это мой прямой долг. Напомню, что сложившаяся ситуация хорошо отвечала корпоративной морали Центра.
Убедившись, что психика госпожи 3. практически непроницаема для аналитического вмешательства (она могла принять одну-две интерпретации за сеанс при условии, что почти все его время занимали различные формы поддержки и утешения), я стала искать более эффективные формы воздействия. Динамика "в день по чайной ложке" казалась недостаточной. Проанализировав причины столь неадекватной самооценки клиентки, я пришла к выводу, что главную роль играет всеобщая тенденция окружающих уступать эмоциональному шантажу со стороны г-жи 3., жалеть ее, прощать любые нелепые выходки и вести себя так, как будто ее поведение совершенно нормально.
Во время очередного занятия, на котором госпожа 3. продолжала настырно требовать от товарищей по группе внимания и поддержки, искусно манипулируя своей "ранимостью", я спокойно объяснила студентам, почему в поведении девушки закрепились такие нелепые поведенческие паттерны. Я обратила их внимание на то, в какой степени неадекватные социальные ожидания г-жи 3. бездумно и автоматически поддерживаются группой, как неискренни и демагогичны на самом деле все эти "подбадривающие" диалоги. Большая часть студентов впервые поняла, что истерическая игра г-жи 3. возможна только благодаря наличию зрителей, которыми они всегда готовы послужить. В заключение я спросила, действительно ли такая поддержка нужна и полезна, и какое удовольствие она приносит обеим сторонам.
[96]
Это произвело желаемый эффект, и даже больше. В замкнутом социуме Центра любая информация быстро становится всеобщим достоянием, не без участия "испорченного телефона". Значительная часть социального окружения г-жи 3. перестала поддерживать ее невротические требования и высказывать ей безусловное одобрение, а кое-кто из мужчин отважился на прямую конфронтацию. Разумеется, не дожидаясь условленного времени, госпожа 3., вся в слезах, пришла ко мне в гостиницу и стала упрекать в том, что с моей подачи все ее враги подняли голову и пытаются сжить ее со свету. Ее истерика развивалась по нарастающей, поведение стало неконтролируемым, и в конце концов мне пришлось обратиться за помощью к сотрудникам милиции.
К сожалению, я недооценила этот серьезный срыв у клиентки. Сочтя достаточными ее последующие извинения (и чувствуя себя отчасти виноватой в том, что случилось), я продолжила работу с г-жой 3. Следующую встречу я посвятила подробному разбору вторичной выгоды, получаемой ею в процессе истерического шантажа друзей и близких. Иллюзорный мирок гармоничного существования госпожи 3. рухнул, и защитные механизмы начали конструировать "новую реальность". В этой реальности я оказалась злобным демоном, одержимым идеей разрушить сам Центр, внеся разлад в атмосферу всеобщей любви и дружбы его сотрудников. Придя домой, г-жа 3. написала об этом письмо генеральному директору, а когда ожидаемой ею реакции не последовало, приехала в соседний город, где я жила, и стала караулить меня у подъезда. К этому времени ее поведение стало столь параноидально агрессивным, что г-жу 3. пришлось госпитализировать в психиатрический стационар.
Когда острое психотическое состояние было снято, госпожа 3. вернулась в Центр, но не смогла вернуться к своему прежнему неврозу. Посвятив около полугода попыткам привлечь меня к ответственности за то, что ее "упрятали в психушку", г-жа 3. в конце концов уволилась и уехала из Центра. Этот случай послужил мне наглядным
[97]
уроком того, сколь хрупкой иногда может оказаться грань между утратой реальности при неврозе и в психозе.
Искажение реальности посредством вытеснения приводит к несколько иной картине, нежели работа психологических защит. Конечно, эти процессы часто связаны друг с другом, да и вообще вытеснение присутствует в качестве компонента в большинстве защитных механизмов. И все же между ними есть некоторые отличия.
Самое существенное из них состоит в том, что вытеснение может прогрессировать, захватывая все новые регионы действительности и создавая все большие пробелы в картине мира, представленной в сознании клиента. Предположим, в начале вытеснению подвергся небольшой эпизод или конкретный факт, травмировавший человека. Однако вслед за этим может возникнуть желание "вычеркнуть" всю ситуацию или деятельность в целом, в рамках которой имела место травма. Придется вытеснить наличие участников или нечаянных свидетелей события (начинают забываться имена и лица, ландшафт или интерьер места происшествия).
Здесь можно было бы привести конкретные примеры из терапевтической практики, но я не откажу себе в удовольствии процитировать объяснение известного психоаналитика:
"Если запретить под страхом усечения головы называть короля Англии мудаком, то говорить, что он мудак, никто, конечно, не станет. Но в силу этого факта придется умалчивать и о множестве других вещей — то есть обо всем, что способно открыть глаза на тот очевидный факт, что король Англии — мудак... В результате, таким образом, все, что согласуется в дискурсе с тем реальным фактом, что король Англии — мудак, придерживается за зубами. Субъект оказывается вынужден извлекать, исключать из дискурса все, что имеет отношение к тому, о чем говорить запрещено законом. Так вот, запрещение это остается, как таковое, совершенно непонятным. На уровне реальности никто не способен понять, почему за то, что он эту правду выскажет, ему отрубят голову; никто не понимает даже, где именно сам факт запрета имеет место" [35, с.185-186].
[98]
Иными словами, далеко зашедшее вытеснение превращает связную картину (или рассказ) в клочки и обрывки, тогда как психологические защиты просто изменяют травмирующий смысл событий на более приемлемый или безобидный. Поэтому эмоциональными последствиями работы защитных механизмов обычно являются раздражение, ярость, гнев, тогда как вытеснение чревато страхом. Чувство страха занимает место вытесненного переживания, рост тревоги сопровождает процесс его возвращения в сознание. Любой психотерапевт, использующий в работе аналитические техники, рано или поздно сталкивается со страхом.
В рамках третьей (структурной) теории психического аппарата главная роль в возникновении психических нарушений и расстройств отводится нарушениям функций Я. Сложная задача сохранения равновесия между противоречивыми требованиями Оно, Сверх-Я и внешнего мира приводит к выработке специфических механизмов, среди которых центральное место занимает страх, а также различные способы зашиты от него. Именно в Я развивается способность реагировать страхом не только на ситуацию реальной опасности, но и на угрожающие обстоятельства, при которых травмы можно избежать.
Специфической формой страха является ощущение беспомощности, связанное с неконтролируемым ростом силы бессознательных желаний. В отличие от страха перед реальностью (термин, обозначающий переживание реальной опасности, внешней угрозы), данный страх часто переживается как чувство тревоги, не имеющей конкретного объекта, а связанной с Я целиком:
''Если человек не научился в достаточной мере управляться с инстинктивными побуждениями, или инстинктивный импульс не ограничен ситуативными обстоятельствами, или же вследствие невротического нарушения развития вообще не может быть отреагирован, то тогда накопившаяся энергия этого стремления может одолеть человека. Это ощущение превосходства импульса, перед которым человек чувствует
[99]
себя беспомощным, создает почву для появления страха. Инстинктивные побуждения могут угрожать по-разному. Например, страх может быть связан с тем, что влечение стремится к безграничному удовлетворению и тем самым создает проблемы. Но и сам факт, что человек может утратить контроль над собой, вызывает очень неприятное ощущение, беспомощность, а в более тяжелых случаях — страх" [93, с. 522].
Такой вид невротического страха довольно часто встречается в сновидениях, он может сопровождать анализ вытесненного и вызывать сильное сопротивление осознанию влечений. В своей работе "Зловещее" (1919) Фрейд относит к числу наиболее пугающих, жутких переживаний возвращение вытесненного, указывая, что символическим аналогом того, что должно было оставаться скрытым, но внезапно проявилось, являются кошмары, связанные с ожившими мертвецами, привидениями, духами и т.п. Основоположник психоанализа полагал, что "жуткое переживание имеет место, когда вытесненный инфантильный комплекс вновь оживляется неким впечатлением, или если снова подтверждаются преодоленные ранее примитивные представления" [108, Vol. 18. Р. 264].
Совсем иначе выглядят и переживаются страхи, иррациональные, так сказать, по форме, а не по существу. Это страх перед вполне конкретными объектами или ситуациями, которые могут представлять реальную опасность (злые собаки, змеи, высокие скалы и пропасти), но в большинстве случаев сравнительно безобидны (жабы, пауки, старухи-цыганки и т.п.).
Одна из моих клиенток как-то пожаловалась на сильный страх перед змеями. Судя по рассказу, это была настоящая фобия — при виде похожих объектов или даже просто в разговоре о том, что они попадаются в самых неожиданных местах (на даче, за городом) девушка начинала кричать, а случайная встреча с безобидным ужом закончилась ужасающей истерикой. В беседе о причинах возникновения этого страха прояснилось большое ассоциативное поле, связанное с ним. Для клиентки змея символизировала только негативные моменты, а общая культурная семантика, связанная с вечной молодостью,
[100]
мудростью, целительными свойствами и другими позитивными характеристиками, отсутствовала напрочь.
Далее выяснилось, что по-настоящему вытесненными были амбивалентные, двойственные аспекты змеиной природы, ассоциированные с могущественными, проницательными и потому опасными женскими фигурами. Сама же змея воспринималась как латентный, скрытый (в траве) фаллос, символизирующий основание бессознательного желания. Страх змей в качестве симптома заместил признание своей подвластности желанию Другого21. Вполне очевидно, что фобическая реакция предохраняла клиентку от соприкосновения с вытесненными аспектами собственной сексуальности, связанными с ипостасью фаллической женщины. Страх перед этой демонической фигурой был преобразован в фобию змей.
Ведущая роль, которая отводится страху в понимании того, как именно Я поддерживает равновесие в системе психики, обусловлена аффективной динамикой психоаналитической процедуры. Дело в том, что данная терапевтом интерпретация, сколь бы своевременной, верной и точной она ни была, далеко не всегда принимается клиентом. По мере развития методики и техник психоаналитической работы основным моментом последней становится не столько содержание интерпретаций, сколько их приемлемость, готовность пациента разделить и поддержать точку зрения терапевта. По своему смыслу принятие отлично от осознания (прежде всего тем, что это произвольный, а не спонтанный акт), а распознать его можно по эмоциональному потрясению, сопровождающему преобразование аффективного опыта в процессе терапии.
Специфической формой такого переживания является страх объективации результатов терапии, который встречается весьма часто. "Пишущие" психотерапевты и преподаватели сплошь и рядом сталкиваются с опасениями клиентов, что работа с ними будет представлена в качестве примера, клинической иллюстрации теории. Причем апелляция к повсеместно принятым формам соблюдения конфиденциальности ничего не меняет — "а вдруг кто-нибудь догадается и меня все-таки узнают".
[101]
У одного из клиентов этот страх выразился в попытке запретить мне не то что публиковать, но даже описывать ход его терапии. В то же время он всякий раз напряженно разглядывал мой рабочий дневник, лежавший на столе во время сеансов, и как-то признался, что отдал бы многое за возможность его почитать. Когда в ответ я показала ему страницы, относящиеся к его собственному случаю, господин X. не смог даже понять, что там написано. Он согласился с интерпретацией, что природа его страха — не невротическое опасение того, что будет нарушена конфиденциальность, а, скорее, психотический страх "быть увиденным". Поскольку этот последний специфичен по отношению к проблемам г-на X., терапия которых была выдержана в русле структурного психоанализа, дальнейшее описание ее помещено в соответствующей главе. Здесь же я хотела акцентировать внимание на том, что понимание природы страха клиента помогло дальнейшему продвижению анализа.
В терапевтической практике открытое обсуждение страха, связанного с ходом терапии, указывает на преодоление сопротивления Я, способствует разблокированию психологических защит. В случаях, когда терапевтический анализ не двигается с места из-за рационализирующих сопротивлений, которыми клиент встречает интерпретации, всегда полезно инициировать регрессию, сделав предметом беседы ранние детские страхи, страх смерти, страх новизны и любые другие формы страха, присутствовавшие в его жизни. Иногда клиент сам считает страх основой своих проблем, но чаще симптоматика страха становится фокусом терапии при анализе сновидений.
В психоанализе взаимно дополняющие друг друга задачи анализа бессознательного и укрепления, усиления сознательно функционирующего Я пациента попеременно определяют цель и направление терапии. В терапевтическом анализе вторая задача выступает на первый план бо-
[102]
лее явно, так что любую личностную проблему или психическое нарушение можно рассматривать как расстройство, связанное с Я. Помимо описанных выше конфликтов между Я и бессознательным, связанных с необходимостью вытеснения бессознательных влечений и страхом как универсальным маркером вытеснения и осознания вытесненного, значительный вклад в невротическую симптоматику вносят проблемы, связанные с нарциссизмом.
Проблема нарциссизма — одна из наиболее интересных в глубинной психологии. Если оттолкнуться от обыденного представления о нарциссической личности как о человеке эгоцентричном и самовлюбленном, чьи интересы в значительной степени сосредоточены вокруг его собственного Я, то понятно, почему нарциссическая симптоматика так важна для психотерапии. Я рискну высказать предположение, что нарциссичные невротики составляют большинство по сравнению с другими категориями клиентов. Уровень психологической культуры нашего общества пока еще невысок, и обращаются к психотерапевтам прежде всего люди с высоким ощущением значимости своего Я, подчеркнутым интересом и вниманием к проблемам собственной личности. Поэтому развернутые преставления о специфике нарциссических расстройств необходимы любому психотерапевту, не обязательно психоаналитику.
Нарциссизмом принято называть тенденцию направлять либидо к собственному Я, а не к другим лицам, которые могли бы стать объектом влечения. Нарциссическая озабоченность собой и своим благополучием является основной проблемой у людей, чья жизнедеятельность организована вокруг ненасытной потребности получать поддержку и похвалу со стороны окружающих. Собственное совершенство, реальное или мнимое, не приносит удовлетворения, если нарциссичный субъект не получает подтверждения этого совершенства в любой форме и по первому требованию. Обычно в начале терапии нарциссический клиент произносит такой вдохновенный гимн себе, любимому, что вопрос о том, откуда же столько трудностей в отношениях с людьми у такого замечательного человека, сгущается из воздуха сам по себе.
[103]
Нарциссические личности отличаются специфическим поведением и манерой держаться, благодаря чему эту категорию клиентов легко дифференцировать. На одной из научных конференций я наблюдала поведение молодого человека (лет 25-27), полностью соответствующее нарциссической психопатологии. Господин D., несмотря на то, что был существенно моложе большинства участников, двигался очень степенно, разговаривал медленно и протяжно, слегка "в нос", с характерной мимикой — высоко подняв подбородок, глядя в пространство перед собой. Он любил пространно разлагольствовать о вещах, в которых совсем не разбирался, и особенно активно включался в обсуждение проблем, далеких от своей основной специальности (г-н D. был биохимиком).
В ходе научных дискуссий, на которых обсуждались главным образом вопросы, связанные с психологией, этологией и психиатрией, господин D. часто высказывал весьма наивные взгляды и приводил легковесные аргументы. В качестве ведущего объяснительно принципа использовал аналогию, а личный опыт был для него главным доводом в пользу собственной правоты. В ответ на критику (поначалу мягкую, а впоследствии все более эмоциональную) г-н D. невозмутимо говорил: "Мне кажется, тут я абсолютно прав" или "Я считаю, что это так". Возражений он не слышал.
Не удивительно, что "психоаналитическая" часть конференции вскоре перестала воспринимать юношу всерьез и реагировала на его выступления соответствующими интерпретациями. (Замечу в скобках, что врачи-психиатры были более терпимы — сказывался клинический опыт общения с грубо нарушенными пациентами). Г-н D., до этого предпочитавший широкий круг общения, резко сузил его, ограничившись слушателями моложе себя. Его поведение полностью вписывалось в словарную дефиницию нарциссизма:
"Такие индивиды характеризуются чувством собственных исключительных прав, фантазиями о всезнании и всемогуществе, собственном совершенстве или совершенстве идеализируемого объекта, выраженность которых зависит от остроты психопатологии. Сопутствующие аффекты колеблются от ду-
[104]
шевного подъема (если завышенная самооценка подкрепляется) до разочарования, депрессии или гнева, называемого нарциссическим гневом (если уязвлено самолюбие)" [53, с. ИЗ].
Нарциссический гнев у господина D. бурно проявился в связи с необходимостью выполнить ряд хозяйственных функций (конференция проходила в полевых условиях, и все участники по очереди выполняли обязанности дежурных). Он попытался увильнуть от мытья посуды и чистки котлов под предлогом того, что писать научные статьи у него выходит куда лучше. Когда же другие дежурные заметили, что среди присутствующих большинство предпочитает писать статьи, но при этом все понимают, что нужно рубить дрова, носить воду, поддерживать огонь в очаге и т.п., г-н D. очень рассердился. Гнев достиг пика, когда окружающие стали подшучивать над ним, утверждая, что способности писать научные тексты и колоть дрова неразрывно связаны, а хозяйственные умения и навыки лучше всего развиты именно у самых продуктивных ученых. Чувство юмора отказало г-ну D., и он, что называется, "потерял лицо".
Во времена Фрейда нарциссическое развитие считалось безусловно нежелательным. Преобладание влечений, связанных с Я, над объектными (направленными к другим людям) однозначно рассматривалось как фиксация на аутоэротической стадии, а регрессивная динамика нарциссической природы, по мнению таких авторитетов, как К.Абрахам, Ш.Ференци, О.Ранк или Э.Джонс, свидетельствовала о нарушении или неблагоприятном характере аналитического процесса. Лишь в начале 70-х годов в рамках психологии Самости22 Хайнца Кохута была предложена непатологическая концепция нарциссизма. Были описаны нарциссические компоненты переноса, развернулась дискуссия об отличиях между первичным и вторичным нарциссизмом.
Не вдаваясь в подробности, касающиеся динамики развития упомянутых представлений, замечу, что первичным нарциссизмом называют гипотетическую стадию психосексуального развития в раннем детстве, когда собственное тело и Я ребенка являются единственными
[105]
объектами, к которым катектируется (направляется) энергия либидо. Генетически первичному нарциссизму родственен шизофренический, а доминирование этой формы нарциссизма в отношениях с людьми свойственно шизоидным личностям. Вторичный нарциссизм состоит в способности резервировать определенное количество либидной энергии для поддержания устойчивой структуры Я, независимо от уровня развития и степени интенсивности отношений с другими людьми. К сфере вторичного нарциссизма тяготеют аутосимпатия, устойчивое позитивное самоотношение, здоровая самоидеализация и так далее.
В процессе терапевтического анализа полезно различать нормальный, патологический и злокачественный нарциссизм. Нормальный нарциссизм, восходящий к ранней (нарциссической) стадии психического развития, на которой индивид "соединяет в целое аутоэротически функционирующие сексуальные влечения, чтобы достичь объекта любви, сначала делает объектом любви самого себя, свое собственное тело, и только потом переходит от него к выбору в качестве объекта другого человека" [108, Vol. 10. Р. 114], проявляется как естественная забота о собственной значимости, потребность в одобрении и уважении окружающими своего поведения и личности. При этом человек чужд нарциссической озабоченности и не воспринимает внешние воздействия как обязательно относящиеся к оценке своего Я. Достижения и успехи соперников не угрожают разрушить нарциссическое единство собственной личности, субъект способен адекватно оценивать других людей и доверять их мнению о себе.
Патологический нарциссизм чаще всего связан с дефицитом самоуважения и заниженной самооценкой. В силу слишком требовательного Супер-эго или нарушенной идентичности такие люди чувствуют себя не просто нелюбимыми и одинокими, но не заслуживающими любви и внимания, они испытывают постоянную потребность в подтверждении собственной значимости. С другой стороны, проективное обесценивание окружающих в качестве
[106]
холодных, черствых личностей, не заслуживающих доверия и любви, идеализация собственного Я и чувство собственного величия и превосходства приводят к формированию "грандиозного Я", самая высокая оценка которого все равно будет недостаточной. При сильной зависимости от чужих мнений и оценок нарциссическая личность им не доверяет, не выносит критики, а похвалу воспринимает насторожено. Эти люди отличаются выраженной амбивалентностью Я-образа. "Многие авторы замечают, — пишет Н. Мак-Вильямс, — что в каждом тщеславном и грандиозном нарциссе скрывается озабоченный собой, застенчивый ребенок, а в каждом депрессивном и самокритичном нарциссе прячется грандиозное видение того, кем этот человек должен бы или мог бы быть" [41, с.222].
Нарциссическая самооценка бывает то чересчур высокой, то заниженной вплоть до полной неуверенности в себе. Такие колебания определяются внутренней бессознательной динамикой, а их причину субъект приписывает ненадежности социального окружения или референтной группы. Описанная в начале данной главы при разборе проблемы госпожи Б. аффективная динамика имела нарциссическую природу. Самоуважение клиентки было очень неустойчивым, тесно связанным с ситуациями одобрения или критики, воспринимаемым тотально. Нарциссическая неуверенность выливалась в форму агрессивного поведения в спорах, а компенсацией служило переживаемое после них чувство стыда и собственной неадекватности (нарциссическая рана).
О злокачественном нарциссизме можно говорить в тех случаях, когда индивид практически не способен направлять влечение на объект, поскольку любовь к другому человеку "отнимает либидо" от собственного Я. Как известно, принцип удовольствия имеет две функциональные цели: регуляция удовольствия-неудовольствия (удовлетворение влечения) и регуляция высокой и низкой самооценки (нарциссическое удовлетворение). Злокачественный нарциссизм соответствует полному замещению удовлетворения влечений нарциссическим
[107]
удовлетворением*. При этом искажение реального положения вещей обеспечивается "тонко настроенной" системой психологических защит, оберегающих нарциссическую целостность воображаемого образа Я.
Различие между нормальным, патологическим и злокачественным нарциссизмом, равно как и принадлежность клиента к соответствующему уровню личностной организации, можно оценить в зависимости от присущих ему способов реагирования на обиду. Нарциссические личности особенно сильно подвержены обидам и редко отвечают на них адекватным, зрелым образом. Такие реакции, как терпимость, признание ошибок или несостоятельности идеальных репрезентаций своего Я, высокая толерантность к фрустрирующим воздействиям, для них не характерны.
Напротив, нарциссичные клиенты используют отрицание очевидного и идеализацию ("Я не провалился на экзамене, это выскочка-преподаватель свел со мною счеты за то, что я знаю предмет лучше него"), их представление о собственном величии может парадоксальным образом усиливаться после промахов и неудач. В качестве защитного механизма такие люди обращаются к всемогущему контролю ("Стоит мне только захотеть!"). Крайне патологической формой реакции на обиду являются грезы о возможности спасти высокую самооценку и избежать нарциссической катастрофы ценой отказа "вообще быть". Фантазии на тему "Вот я умру, тогда пожалеете!" имеют нарциссическую природу и составляют предысторию многих самоубийств. Аналогичным, хотя и обратным по своей природе, является желание наказать обидчика, стерев его с лица земли — к сожалению, тоже достаточ-
* Эго замещение можно проиллюстрировать хорошо известным анекдотом о двух приятелях, один из которых жалуется на тяжелую жизнь и множество проблем: нет денег, женщины им пренебрегают, а по ночам он мочится в постель. Второй советует обратиться к психотерапевту. Через некоторое время друзья встречаются вновь, и первый горячо благодарит второго за прекрасный совет:
— Ты знаешь, психотерапия мне так помогла, я стал другим человеком!
— И что, больше не мочишься в постель?
— Да нет, мочусь. Но я себя за это уважать стал!
[108]
но типичное. У подростков с нарциссической симптоматикой часто связано асоциальное поведение (наркомания, бродяжничество, уход из дома).
Мне довелось наблюдать личностное развитие очень нарциссичного юноши, который пытался сделать карьеру преподавателя высшей школы. Господин И. был одаренным, но чрезвычайно самовлюбленным человеком, и первый же профессиональный успех вскружил ему голову. Характерная для нарциссических личностей тенденция использовать окружающих людей как функции для поддержания высокой самооценки, не воспринимая их в качестве автономных, заслуживающих уважения и интереса субъектов, была присуща ему в высокой степени. Он очень любил акцентировать свои успехи на фоне неудач или средних результатов коллег по кафедре, всячески подчеркивая собственную исключительность. Сравнивая себя с другими, он использовал окружающих в качестве моделей тех или иных аспектов собственного Я (для обозначения такой формы межличностных отношений принят термин "сэлф-объект"). Окружающие в качестве сэлф-объектов интересовали г-на И. лишь постольку, поскольку он мог их превзойти или покрасоваться на их фоне. Друзей у него не было, за исключением более старшего и опытного коллеги, много сделавшего для формирования личности и профессионального мастерства г-на И.
С этим коллегой господин И. находился в отношениях сильно идеализирующего переноса, высокого ценил его, однако их взаимодействие было организовано почти исключительно вокруг проблем личностного и профессионального роста И. В то же время г-н И., как и все нарциссические личности, избегал чувств и действий, выражающих осознание личностной несостоятельности или зависимости от других. Он не совершал поступков, продиктованных благодарностью или раскаянием, и не испытывал соответствующих переживаний, поскольку его позитивная Я-концепция опиралась на иллюзию об отсутствии неудач и потребности в помощи. Разумеется, через некоторое время отношения с покровительствующим коллегой, которому надоело находиться в роли нарциссического расширения личности гос-
[109]
подина И., сильно ухудшились, и режим наибольшего благоприятствования И. ушел в прошлое.
Юноша воспринял это как подлинную катастрофу. Нарциссическая рана оказалась слишком болезненной, а резкая смена грандиозного ощущения Я состоянием неуверенной беспомощности и стыда привела к тому, что профессиональные притязания г-на И. неоправданно снизились. Он пытался обрести душевное равновесие с помощью сэлф-объекта иного типа (сильно влюбленной в него и обесцениваемой прежде девушки), однако та плохо годилась на роль нарциссического расширения в высоко значимой для него профессиональной сфере. Прежде характерная для И. конкурентная стратегия межличностного взаимодействия сменилась избеганием и нарциссическим уходом, а его личность постепенно эволюционировала в сторону ипохондрической озабоченности собственным здоровьем (рассыпавшаяся идентичность была спроецирована на физическое Я).
Следует отметить, что Фрейд считал нарциссических пациентов мало подходящими для психоанализа. Он рассматривал нарциссический невроз как неспособность вступать в трансферентные отношения с аналитиком, подчеркивая, что чрезмерная обращенность либидо на себя граничит с психотическим отказом от реальности. В настоящее время нарциссическая организация личности не расценивается как противопоказание для анализа, однако терапевтическая работа с такими людьми бывает длительной и трудной.
Идеи классического психоанализа, полезные для организации терапевтической работы, разумеется, не исчерпываются тем, что рассмотрено в данной главе. За ее пределами остались такие аспекты, как вклад стадий психосексуального развития в симптомообразование, эдипова проблематика, анализ сновидений и др. Поэтому первые два рассматриваются в следующей главе, а принципы и методы работы со сновидениями будут изложены отдельно, в рамках нескольких подходов (см. главу 7).
Глава 4. Терапия проблем, связанных с личностным развитием
Широко известно изречение Фрейда "Анатомия — это судьба". Пожалуй, более точно соответствовала бы психоаналитической теории формулировка "Судьба индивида — это его пол и его детство", ибо именно ранние стадии психосексуального развития являются, по мнению психоаналитиков, определяющими факторами всей дальнейшей человеческой жизни. Впечатления первых пяти лет, разумеется, почти целиком относятся к сфере бессознательного, причем соотношение забытого и вытесненного материала (описательное и динамическое бессознательное) составляет основу конституциональной предрасположенности человека к возникновению неврозов и других психических нарушений.
Если, как считал Фрейд, человеческую индивидуальность формируют первые пять лет жизни, то что именно в раннем детском опыте оказывает столь сильное влияние на личность? Это прежде всего отрицательные, неприемлемые и тяжелые переживания и впечатления (основоположник психоанализа никогда всерьез не отказывался от теории аффективной травмы, [см. с. 81 данной книги], но лишь перестал понимать ее как главную причину вытеснения), а также фиксация и регрессия — психологические механизмы, с помощью которых происходит "возврат" взрослого человека в детство, в состояние беспомощности и незрелых реакций.
Представление о том, что тяжелое детство — причина психологического и личностного неблагополучия, являет-
[111]
ся общим местом. Принято считать, что по-настоящему серьезным отягощающим фактором является абъюз — невыносимые условия жизни ребенка: постоянные избиения, сексуальное насилие, голод, отсутствие элементарного ухода, заботы и медицинской помощи. Однако и обычные печальные события детской жизни — утраты, обиды, неспособность справиться с проблемами и трудностями, гнев родителей, ревность, зависть, разочарования — оказывают сильное влияние на психический статус взрослой личности. А тенденцию возвращаться к нерешенным или неразрешимым проблемам детства называют, в зависимости от контекста, то регрессией, то фиксацией на травме, то инфантилизмом. Таким образом, одна группа проблем, связанных с личностным развитием, может быть представлена как обусловленная недостаточной взрослостью, т.е. недостаточным развитием эго (затянутым детством, незрелостью, инфантильностью).
В классическом психоанализе развитие психики и личностный рост рассматриваются как дифференциация Эго — сознания и самосознания, собственного Я, а также как процесс становления устойчивой сети взаимоотношений эго с окружающей действительностью. Эго (Я) развивается из Ид (Оно), и повышение уровня сознавания любого психического процесса принято считать прогрессом, тогда как снижение сознательности — это регресс, упадок. "Какой же ты несознательный, совсем как малый ребенок!" — такова типичная формула, описывающая обратный ход психического развития человека.
Сознание развивается из бессознательного путем его дифференциации — усложнения и раздробления, разделения на части. Не удивительно, что антагонизм — наиболее естественный тип представлений о взаимоотношениях этих основных аспектов психики. Правда, непонятно, почему бессознательное обычно считают своего рода "тормозом" личностного развития. Точнее, представление о том, что отношения между Я и бессознательным23 выстраиваются по принципу "чем больше Я, тем меньше Оно", рассматривается как прямая программа развития личности. В сравнительно поздней (1923) работе "Я и ОНО" Фрейд
[112]
четко формулирует: "Психоанализ не может считать сознательное сутью психики, а должен смотреть на сознание как на качество, которое может присоединяться к другим ее свойствам, а может отсутствовать" [82, т.1, с.352]. Откуда же взялась идея о том, что различия Эго и Ид в контексте личностного роста имеют ценностную природу?
На эту тему можно долго и плодотворно рассуждать, а для нас важнее выделить следующую группу проблем — обусловленных бессознательным функционированием, недостаточной регулирующей силой эго. И, наконец, третья группа представлена трудностями, связанными со слабым контролем Супер-эго — таких людей называют аморальными, бессовестными, в клинической терминологии — социопатами.
|
Проблема
|
Способы решения
|
|
Затянувшиеся детство, незрелость, инфантильность, недостаточное развитие эго
|
Развитие эго, осознание бессознательного
|
|
Бессознательное функционирование недостаточная регулирующая функция эго
|
Развитие рефлексии и объективации
|
|
Слабый контроль Супер-эго над поведением
|
Переход от понимания к действиям
|
Разумеется, эта классификация в достаточной степени условна. Проблемы бывают комплексными, отдельные аспекты жизненных трудностей конкретного клиента могут выражаться и в инфантильности, и в слабом моральном контроле, причем последние качества — часто две стороны одной медали. В большинстве психоаналитических работ [см. 28, 41, 46, 56, 67, 107 и др.] типология проблем привязана либо к типам характера и личностной организации, либо к специфике психических нарушений, их уровню или глубине. Мое деление — скорее эмпирическое, и опирается на общую стратегию психотерапевтической помощи:
клиентам первой группы следует помочь подрасти и повзрослеть, второй — научиться лучше думать и больше понимать, а третьей — усвоить, что одного понимания хорошего и плохого недостаточно, необходимы конкретные
[113]
действия. Эти цели совсем не противоречат друг другу, но все-таки несколько отличаются.
Обычно проблему развития личности рассматривают под углом выделенных Фрейдом стадий психосексуального развития. В отечественной (да и не только) традиции психоаналитическая концепция личности сводится к представлению о противоречивой, в высшей степени конфликтной системе взаимоотношений между различными психическими инстанциями (ид, эго, Я-идеалом и т.п.). Возрастная (стадиальная) динамика этих противоречий, дополненная рядом топологических метафор — это и есть теория личности по Фрейду. Само понятие "личность" в переводах его трудов употребляется совершенно произвольно (хотя чаще все же встречаются слова "человек", "индивид" и "субъект"). Определения личности как таковой мне не удалось найти ни у Фрейда, ни в работах, где название включает в себя это слово [28, 41]*.
Поэтому, следуя примеру со своих предшественников, я исхожу из того, что все и так знают, что такое личность с точки зрения психоанализа, и перейду непосредственно к рассмотрению проблемы ее развития и функционирования. В равной степени, описывая процесс становления Эго или такие феномены, как тип организации характера, регрессивная динамика и пр., я буду считать, что речь идет о развитии личности и личностном росте.
* Я упорно искала психоаналитическое определение личности или хотя бы подходящую цитату на тему того, что же она такое. Это слово совсем не встречается в оглавлениях переводных психоаналитических работ, в предметных указателях к ним. Его нет в психоаналитических словарях (числом шесть). Психоаналшики (немец-кис, швейцарские, американские, британские, постсоветские — любые!) просто не пользуются термином "личность". Само слово фигурирует только как синоним, ни в одном из просмотренных контекстов (я добросовестно пролистала более тридцати книг) оно не несет смысловой нагрузки. Учитывая, что язык, как известно, — это дом бытия, поневоле приходишь к выводу, что в психоанализе личности нет.
[114]
4.2. Пренатальная стадия и травма рождения
Наверное, самый первый этап личностного развития — это отделение ребенка от матери, рождение и психическое рождение (термин М.Малер) человека. Само рождение, по мнению большинства психоаналитиков, является сильной физиологической и психологической травмой, которая в дальнейшем служит универсальным образцом (прототипом) для ситуаций, связанных со страданиями, дискомфортом и тревогой. Наиболее впечатляющие описания влияния родовой травмы на дальнейшую жизнь личности содержат работы Отто Ранка ("Травма рождения", 1924) и Шандора Ференци ("Опыт теории генитальности", 1924).
Ранк сосредоточивает свое внимание на переживаниях младенца, вырванного из приятных и естественных ощущений блаженного тепла, защищенности, полного довольства и комфорта. Оказаться вне материнской утробы — это, по его мнению, самый сильный шок, который переживает человек в течение жизни. Все остальные страдания строятся по образу и подобию родовой травмы, создающей резервуар первичной тревоги, отдельные порции которой высвобождаются в дальнейшем в неприятных или угрожающих ситуациях. Особенно сильное переживание тревоги создают похожие эпизоды — разрыв со значимым (любимым) объектом, потеря уважения, телесная травма, любая эмоциональная утрата — все напоминает человеку ощущение беспомощности, враждебности и страха, испытанное в первый раз при вхождении в этот мир.
В процессе развития личность учится выдерживать такой страх. Разумеется, маленькие дети этого не умеют — они представляют себе окончательную утрату (смерть) как отъезд или уход, пытаются объяснить разрыв посредством защитной рационализации ("он был плохой, и его мама бросила, а я хороший и послушный"). У взрослых рано или поздно формируются эффективные механизмы совладания с тревогой утраты (потери), однако почти любая ситуация соответствующего типа реактивирует первичную
[115]
тревогу, возрождая как мощное иррациональное переживание беспомощности и страха, так и сильное бессознательное стремление вернуться в безопасное и уютное материнское лоно.
Например, одна из клиенток, женщина в возрасте 32 лет, очень трудно переживала довольно-таки банальную ситуацию разрыва с возлюбленным, отношения с которым сошли на нет из-за географической отдаленности их местожительства. Они были вместе около трех лет, а потом женщине пришлось уехать из страны, в которую эмигрировал ее приятель. Этот "разъезд" она считала главной причиной разрыва, находясь в плену иллюзии, будто даже кратковременная поездка в Канаду все поправит. Пытаясь осуществить этот проект, клиентка демонстрировала инфантильное поведение, она беспомощно ждала и надеялась, что бывший возлюбленный устроит эту поездку, "ведь он просто обязан это сделать". После того, как невозможность уехать и нежелание партнера помочь стали очевидными даже для нее, женщина пережила тяжелую депрессию, в ходе которой регулярно ходила на могилу матери и подолгу плакала и жаловалась ей на все свои незаслуженные обиды.
Проблемы, связанные с родовой травмой, имеют особую специфику у недоношенных и появившихся в результате кесарева сечения индивидов. Обычно верят, что недоношенность или трудные роды усугубляют соматические проблемы, медики также считают этот факт чрезвычайно важным для анамнеза при детских болезнях. В то же время люди склонны приписывать особую храбрость и мужество тем, кто родился посредством кесарева сечения. Так, у Шекспира Макбет, узнав "о том, что вырезан до срока ножом из чрева матери Макдуф", теряет способность сражаться и терпит сокрушительное поражение. В фольклоре разных народов много похожих примеров.
На самом деле значение имеет не столько факт патологического рождения, сколько отношение самого к человека к тому, что ему становится известно о начале своего жизненного пути. Обидная кличка "недоносок" влияет на самооценку личности сильнее, нежели фиксируемое ею
[116]
событие. То же самое касается, например, столь частых ныне случаев обвитая пуповины вокруг шеи младенца — взрослого "душит" скорее знание или представление о том, что это плохо. Классический пример — "рождение в рубашке", только оно имеет позитивную семантику.
Работа Ференци изобилует множеством оригинальных идей, большинство из которых, как отмечают строгие авторитеты, мало обоснованы. Рассуждая о внутриутробном развитии, рождении и младенчестве, Ференци говорит о родственном характере матки, морских глубин, бессознательного, фантазмов сновидения и т. п. Все это — великий океан, Таласса24, из которого рождается человеческая личность. Наряду со стремлением выйти на сушу (=родиться) в нас всегда живет регрессивное желание вернуться в океан (материнское лоно), покинутый в древние времена. Эту идею подтверждают не столько эксперименты, сколько множество художественных произведений, в которых образ морских глубин обладает неизъяснимой притягательностью, очарованием и властью. Взять хотя бы творчество Лотреамона, Германа Мелвилла, "Пьяный корабль" Артюра Рембо или следующий пассаж из "Ориентиров" Сен-Джон Перса25:
...О Море, медлительная молниеносность, о лик, весь исхлестанный странный сверканьем! Зерцало изменчивых сновидений, томленье по ласкам заморского моря! Открытая рана во чреве земном — таинственный след неземного вторженья; сегодняшней ночи безмерная боль — и исцеление ночи грядущей; любовью омытый жилища порог и кровавой резни богомерзкое место!
О неминуемость, неотвратимость, о чреватое бедами грозное зарево, влекущее властно в края непокорства; о неподвластная разуму страсть — подобный влечению к женам чужим, порыв, устремленный в манящие дали! [21, с.582].
Привлекательность пренатального существования связана, по Ференци, с ощущением всемогущества, возникающим у младенца, чьи потребности удовлетворяются сразу, не успев возникнуть даже как смутное ощущение. Это состояние бессознательного безусловного величия после рождения сменяется стадией магического галлюцинаторного вели-
[117]
чия — стоит ребенку чего-нибудь захотеть, и мать тут же спешит удовлетворить его желание. После этого, в 5-7 месяцев наступает стадия магического величия жестов, при помощи которых ребенок пытается управлять поведением матери. В этот период она уже не может быстро и точно угадывать, чего хочет младенец — его потребности более разнообразны. И, наконец, годовалые дети вступают на стадию магии мыслей и слов — общепринятых форм общения.
Эти четыре стадии, предшествующие развитию чувства реальности, Ференци описал в работе "Общее учение о неврозах" (1913). Регрессию к двум первым можно наблюдать у психотиков, а поведение, характерное для второй и третьей стадии, часто демонстрируют обычные пациенты-невротики. Так, один из моих клиентов однажды пожаловался на чересчур высокие цены в книжном магазине. На мое замечание о том, что можно ведь и поторговаться, он возмущенно ответил: "Ну вот еще! Неужели он (продавец — Н.К.) сам не понимает, как мне нужны некоторые книги!" Многие люди считают, что об их сильных (но невысказанных) желаниях близкие должны догадываться и немедленно исполнять, а если так не происходит — "значит, он (она) меня по-настоящему не любит".
Я полагаю, что невротическая симптоматика, обусловленная описанными выше нарциссическими особенностями младенца, особенно часто связана с переживаниями бессилия и некомпетентности в социальной сфере. Достаточно вспомнить расплодившихся ныне во множестве экстрасенсов, "диагностов кармы" и других целителей души и тела, всерьез претендующих на магическое величие и всемогущество. Их претензии — хорошая иллюстрация психоаналитических представлений о бессознательных первичных процессах, управляющих поведением индивида на первом году жизни, когда чувство реальности и вторичные процессы (сознание и критика) еще не развиты. Сходные особенности поведения Фрейд отмечает у примитивных народов, которым свойственна "громадная переоценка могущества желаний и душевных движений, всемогущество мысли, вера в сверхъестественную силу слова, приемы воздействия на внешний мир, составляющие "ма-
[118]
гию" и производящие впечатление последовательного проведения в жизнь представлений о собственном величии и всемогуществе" [82, т.2, с. 109].
Иллюстрацией сказанному может служить такой пример. Однажды на терапию пришел мужчина с проблемой, которую он сам определил как невозможность сделать выбор между двумя женщинами. Господин О. выглядел подавленным и несчастным. Он начал свой рассказ издалека, с юности, постоянно подчеркивая, что раздвоенность между стремлением и невозможностью быть идеальным (мужем, отцом, специалистом и т.д.) мучила его всегда. Г-н О. болезненно переживал ощущение своей "неидеальности", неполноценности, тревожился, что близкие не понимают и не разделяют его страхов. Проблема выбора, заявленная в начале терапии, осложнялась для него неуверенностью в том, что избранница подтвердит его решение ("А вдруг, после того, как я сожгу за собой все мосты — разведусь, разменяю квартиру, — она скажет мне: "Уходи, я тебя не люблю, ты мне не нужен"?) В целом господин О. производил впечатление законченного невротика, каковым и являлся. Я сильно удивилась, случайно узнав, что он несколько лет подвизался на поприще экстрасенса-целителя, определял "бионегативные зоны" в помещениях и т.п.
Развитие чувства реальности и способности различать собственное Я и окружающую действительность происходит постепенно и требует отказа от нарциссических удовольствий. Главную роль в этом процессе играет мать, разумно чередующая удовлетворение потребностей и частичную фрустрацию. Если мать чересчур заботлива — у ребенка нет необходимости развивать контакты с действительностью, если недостаточно — возникает страх перед угрожающей враждебностью мира. Эти переживания (нарциссическое самодовольство и тревога) могут сохраняться в дальнейшем у взрослого человека или оживать в различных ситуациях жизни. Практически всегда они активируются в процессе психотерапии, независимо от того, является она глубинной (аналитической) или нет.
Так, клиентка Т. в начале анализа регулярно опаздывала на сеансы на 15-20 минут. Она охотно приняла интер-
[119]
претацию о том, что эти опоздания являются одной из форм сопротивления, но продолжала находить для них рациональные причины. Периодически госпожа Т. пыталась компенсировать "потерянное время" за счет увеличения продолжительности сеансов, но каждый раз сталкивалась с тем, что приходил следующий клиент, и я мягко, но решительно прерывала работу с ней.
Потом она перестала опаздывать. Я обратила внимание на этот факт, называла его позитивным, но не стала интерпретировать. После трех начавшихся вовремя встреч г-жа Т. опоздала на следующую на полчаса. Войдя в кабинет, она сразу заявила, что думала, будто я уже ушла. "Но, как видите, это не так" — ответила я. И тут клиентка очень темпераментно обвинила меня в том, что мне все равно, опаздывает она или нет. Она гневно заявила, что я полностью равнодушна к ней как к личности, что другие клиенты, по-видимому, мне действительно интересны — в отличие от нее, и т.п. После разбора трансферентной динамики, занявшей весь сеанс, госпожа Т. признала, что вся эта ситуация была для нее средством выяснить, как же я отношусь к ней на самом деле. Она искренне считала, что соблюдение графика аналитической работы — вещь чисто субъективная, связанная с тем, что я предпочитаю ей клиента, приходящего после нее.
Оральная стадия психосексуального развития личности, занимающая первый год жизни, характеризуется постепенным развитием и дифференциацией чувства Я. Первоначально психика новорожденного представлена бессознательными влечениями и инстинктами, удовлетворение которых должно быть немедленным, а чувство удовольствия распространяется по всему телу ребенка. Эго сначала оформляется как инстанция, которая способна отсрочить удовлетворение, а также выбрать способ достижения удовольствия и реализовать его. Позднее развивается способ-
[120]
ность отказываться от неприемлемых влечений или способов получения удовольствия, эта функция обычно соотносится со Сверх-Я. Отношения между Я и бессознательным можно представить следующим образом:
"Эго влияет на то, в какой форме инстинкт достигнет сознания и воплотится в действие. То есть эго может либо разрешить инстинкту сразу выразиться в действии, либо может запретить это и модифицировать инстинкт. В любом случае, развитие инстинкта будет зависеть от природы стремлений эго. Эго представляет собой как бы линзу, в которой преломляются все раздражители из внутреннего мира. Но эго также вбирает в себя раздражители из внешнего мира, которые оно должно переварить и модифицировать. Эго находится на границе между внутренним и внешним миром..." [46, с. 111].
Таким образом, первоначально Я развивается и дифференцируется "на службе у Оно". На оральной стадии развития Я представлено широким спектром нарциссических переживаний, поскольку большая часть энергии либидо направлена на собственное тело младенца. Если взрослый наиболее конкретно представляет собственное Я в процессах самопознания и самоосознания, то у ребенка до года чувство Я существует как удовольствие, причем к Я первоначально причисляются любые хорошие и приятные аспекты окружающего мира.
Я не буду рассматривать здесь влияние грудного кормления и общения с матерью на индивидуальное развитие (это задача следующей главы, посвященной становлению объектных отношений), а попытаюсь сосредоточить внимание на развитии сознательного Я личности как ее основного наблюдаемого и переживаемого (феноменологического) свойства. При этом на первый план выходит понятие "границ Я".
Наиболее системные исследования в этой области принадлежат Паулю Федерну [107]. Рассматривая "чувство Я" как переживание душевной и телесной связанности личности во временном и содержательном аспекте, Федерн трактует Я одновременно и как носитель (субъект), и как предмет сознания. Иными словами, личностное Я — это долгая память о различных состояниях, модусах Я; оно
[121]
похоже на альбом с фотографиями, запечатлевшими психический статус личности в разные периоды жизни. Теория Федерна хорошо и наглядно объясняет процессы регрессии и случаи инфантильного поведения взрослых — это просто возврат к ранним способам вытеснения жизненных трудностей и проблем. А специфические участки (зоны) Я, остро и тонко чувствующие действительность, он называет границей Я.
Границы Я определяют способность личности отчуждаться от тяжелых переживаний и неразрешимых трудностей, а также механизмы деперсонализации, которые используются для того, чтобы разделить переживания бессильного паникующего эго и уверенно-компетентного, придав тем самым последнему большую устойчивость. Границы Я оберегают наше чувство идентичности и уверенности в себе. Федерн пишет:
"Некоторые неверно меня поняли, что границы — образно выражаясь, подобно ремню — опоясывают Я и являются жесткими. Верно обратное. Эти границы, то есть масса функций Я, наполненных чувством Я, то есть катектированных (насыщенных, пропитанных — Н.К.) либидо, по-прежнему принадлежат Я и изменчивы. Человек же ощущает, где прекращается его Я, особенно если границы как раз меняются... Но я отнюдь не отстаиваю позицию, что чувство Я является лишь периферическим. Чувство границ Я, поскольку они чуть ли не постоянно меняются, воспринимается легче. Но одновременно чувством Я наполнено все сознательное. И, на мой взгляд, оно существует с самого начала, сперва расплывчатое и бедное содержанием" [цит. по 93, с.457].
Описанные Федерном тонкие различия в переживании различных аспектов собственного Я очень важны для терапевтического анализа. Зачастую болезненные процессы, связанные с расщеплением личности и деперсонализацией, психотические срывы у сильно нарушенных невротиков и пограничных пациентов можно предугадать по рассказам, имеющим отношение к границам чувства Я. В особенности значимыми являются переживания, обусловленные динамикой самой терапии. Так, я хорошо помню клиентку, которая испытывала нарастающее отчуждение от процесса
[122]
терапии, протекавшего вполне удовлетворительно. У нее была мощная регрессивная динамика, сопровождавшаяся ярко выраженными позитивными трансферентными чувствами. В то же время госпожа П. подчеркивала, что эти чувства "как бы не ее", "не совсем взаправдашние". Она болезненно реагировала на вынужденные перерывы в терапии, сильно интересовалась успехами других клиентов, завистливо опасаясь, что те имеют возможность как-то дополнительно взаимодействовать со мной.
Тем не менее, г-жа П. упорно отказывалась анализировать эти переживания. Она не хотела говорить о них и не желала "разбираться с малосущественными вещами". Отвергая интерпретации трансферентных чувств как значимых переживаний, она выносила их за границы собственного Я. А через некоторое время госпожа П. бросила работу, обвинив меня в том, что по моему наущению коллеги стали считать ее профессионально несостоятельной, сумасшедшей и т.п. Никакие интерпретации и логика здравого смысла не смогли опровергнуть этих параноидальных идей. Клиентка испытывала спроецированную на аналитика враждебность в форме саморазрушительных оценок и мнений значимых людей, она не сумела разделить катастрофические переживания своей профессиональной и личностной неустойчивости и трансферентные проекции. Границы Я рухнули и погребли под собой не только анализ, но и нормальные взаимоотношения с реальностью. В дальнейшем она справилась с этим, но больше не работала по своей основной специальности (медсестрой).
Федерн полагает, что именно нарушения чувства Я приводят к наиболее тяжелым случаям психических расстройств. Одна из главных функций эго, дифференцированное восприятие действительности, нарушается при ослаблении границ Я, а проблемы, связанные с нарциссизмом, часто имеют в своей основе "протекающие", "дырявые" границы. Федерн замечает:
"Явно и отчетливо чувство Я разделяет внешний мир и Я, а психическое ощущение Я разграничивает тело и психику. И словно неявно продолжаются нарциссические катексисы чувством Я рахчичных представлений внешнего мира, они меня-
[123]
ются, развиваются, вновь исчезают и снова усиливаются. Самым затаенным, скрытым даже для собственного сознания, как показывают нам сновидение и психоз, продолжает оставаться весь мир первичного нарциссизма" [цит. по 93, с.458].
Ряд авторов (Карл Абрахам, Эдвард Гловер, Отго Фенихель), развивая идеи Фрейда о соотношении удовольствия и фрустрации на оральной стадии развития, а также о двух основных способах орального удовлетворения (сосание и кусание), дали описание специфического орального типа характера. Характер26 взрослого человека формируется в течение первых двух десятков лет и зависит от фиксации личности на определенной стадии психосексуалъного развития. Оральный характер имеют люди, предпочитающие оральные способы получения удовольствия, причем набор типичных черт различается в зависимости от того, что преобладало во младенчестве — удовлетворение или фрустрация.
Орально удовлетворенная личность — это веселый оптимист, избалованный, ленивый, с легкостью игнорирующий трудности. Он открыт и общителен, твердо уверен, что в этом лучшем из миров все идет к лучшему. Орально фрустрированный человек пессимистичен, подавлен, неуверен в себе, испытывает постоянную нужду в безопасности и защите. Он завистлив и враждебен по отношению к чужим успехам, что связано с претензиями на собственную исключительность. Эти две группы черт могут встречаться в различных сочетаниях, поскольку на оральной стадии развития удовлетворение и фрустрация постоянно чередуются.
Таким образом, можно подвести некоторые итоги, касающиеся роли оральной стадии в возникновении психологических проблем личности. Основным источником последних является неизжитый первичный нарциссизм, вновь и вновь возвращающийся в форме разнообразных эгоцентрических потребностей. Примитивно-нарциссическая симптоматика включает снижение контроля над реальностью, искаженное восприятия себя и других людей, нереалистические представления о собственных возможностях, притязательность и претензии на исключитель-
[124]
ность, навязчивое желание быть полностью защищенным от всех неприятностей и т.д.
Клиенты с фиксацией на данной стадии развития действительно выглядят и ведут себя как эгоистичные, капризные дети. В работе с ними крайне необходимо терпение, потому что анализ в большей степени похож на воспитание и обучение, а не на терапию как лечение. Иногда полезно объяснять клиентам, где проходит граница между сопротивлением и простым упрямством, вторичной защитой и элементарной безответственностью, эмоциональной травмой и обычными капризами. В конечном итоге проблемы инфантильной личности не решаются как-то иначе — человек должен стать взрослым и ответственным субъектом собственной жизни.
В анализе такая ответственность будет касаться прежде всего способности клиента замечать и понимать свои инфантильные действия и мотивы. Интересный пример осознания инфантильно-нарциссической природы мотивации личностного роста содержит работа с описанным ранее клиентом О. В ходе нескольких сеансов г-н О. постепенно понял, насколько далеким от реальности было его представление о себе, о силе и масштабе собственной личности, своем мнимом экстрасенсорном могуществе и т.п. После этого клиент начал пропускать сеансы, опаздывать. Он легко согласился с тем, что все эти досадные случайности обусловлены сопротивлением и выразил намерение прервать анализ. Наш заключительный диалог был следующим:
Т: Вы понимаете, что анализ не закончен?
К: Да, конечно. Но знаете, я вот о чем подумал. Если мы с Вами будем работать дальше, то вся основа моей жизни будет поставлена под сомнение. Получается, все, что я считал правильным, все мои ценности гроша ломаного не стоят. Еще чуть-чуть — и мои жизненные принципы окажутся проявлениями собственного эгоизма.
Т: Вы демонстрируете хорошее понимание того, что происходит в терапевтическом процессе.
К: И я так думаю — сейчас не время анализировать дальше. Знаете, как у стоматолога — если вокруг зуба вос-
[125]
паление, то его не лечат, а сначала ждут, пока опухоль спадет. Я лучше подожду.
Т: Это интересное сравнение. То, что Вы назвали воспалением — это неприятные чувства, сопровождающие возвращение вытесненного и разрушение воображаемого идеального образа Я.
К: Да, конечно, наверное, Вы правы. Но я не готов к тому, чтобы его разрушить. В конце концов, мне сорок семь лет, и я не мальчик, чтобы все начинать заново.
Т: А вот сейчас Вы рассуждаете как маленький мальчик, который боится трезво, по-взрослому оценить ситуацию.
К: Может быть. Но я всегда знал, когда следует вовремя остановиться. Я просто не хочу дальнейшего анализа. Уж лучше пусть все останется по-старому. Наверное, я еще не созрел для того, чтобы стать более зрелым (смущенно смеется). Вы, конечно скажете, что это неправильно.
Я не стала комментировать намерения клиента, а предложила ему принять ответственность за свое решение. Господин О. хорошо понимал и осознавал свои незрелые реакции, но, тем не менее, радовался как мальчишка, которого не заставили учить уроки, а разрешили идти играть в футбол (его собственная метафора). Было очевидно, что клиент полагал, что я начну его уговаривать продолжить терапию. Я не стала этого делать, и он попытался договориться о том, что вернется к анализу "немного погодя, через пару месяцев, когда все придет в норму". Я сказала, что сомневаюсь в этом. Через несколько дней г-н О. пришел и сказал, что его финансовое положение неожиданно ухудшилось, и денег на оплату терапии теперь нет. В соответствии с классической парадигмой я не стала интерпретировать этот факт (нет платы — нет и терапии).
Поведение и поступки инфантильной личности в сравнении со зрелой ярко описаны Анной Фрейд в работе "Норма и патология детского развития" (1965):
"Мы характеризуем индивида как незрелого до тех пор, пока инстинктивные желания и их осуществление разделены между ним и его окружением следующим образом: желание
[126]
на его стороне, решение об удовлетворении или отказе — на стороне внешнего мира. От этой моральной зависимости, которая для детства является нормальной, идет далее длинный и трудный путь развития к нормальному взрослому состоянию, в котором зрелый человек способен быть судьей в собственном деле, т.е. на основе составленных в себе самом ожиданий и внутренних идеалов контролировать свои намерения, подвергать их рассудительному анализированию и самостоятельно решать, нужно ли побуждение отклонить, отложить или превратить в действие" [73, с. 321].
Это и будет наилучший результат терапевтической работы с проблемами, обусловленными инфантильностью.
4.4. Анальная проблематика в терапии
Следующая в онтогенезе анальная стадия психосексуального развития характеризуется дальнейшим продвижением ребенка от принципа удовольствия к принципу реальности. Одновременно происходит развитие самостоятельности и дальнейшая социализация, опирающаяся на три основных "завоевания" малыша — овладение правилами туалета, речью и ходьбой. Начинается формирование Супер-эго — посредством усвоения родительских требований и запретов, прежде всего тех, что связаны с опрятностью и безопасностью.
Легко представить себе, какие именно проблемы взрослой личности укоренены в этом периоде детства. Еще Фрейд в ранней работе "Характер и анальная эротика" (1908) описывает людей с анальным характером как очень аккуратных, бережливых и упрямых, подчеркивая, что "аккуратность обозначает здесь не только физическую чистоплотность, но также и добросовестность в исполнении иного рода мелких обязательств: на людей "аккуратных" в этом смысле можно положиться; противоположные черты — беспорядочность, небрежность. Бережливость может доходить до размеров скупости; упрямство иногда переходит в упорство, к которому легко присоединяется наклонность к гневу и мстительности" [80, с. 151].
[127]
Однако, по моим наблюдениям, такая (и сходная) проблематика нечасто служит предметом терапии именно как анальная. Клиенты испытывают естественное и вполне понятное чувство стыда, а терапевты, в свою очередь, не хотят выглядеть претенциозными и смешными. Об этом же говорит и Паула Хайманн, характеризуя современное состояние психоаналитической теории: "Мне бросилось в глаза, насколько наши кандидаты склонны не замечать анальную тематику в материале своих пациентов" [93, с. 599]. Она отмечает, что недооценка анальной стадии связана отнюдь не тем, что все проблемы были в свое время исчерпывающе описаны Фрейдом, Ференци и Эрнстом Джонсом. Игнорирование роли анальности в процессе становления личности ребенка и взрослого наносит ущерб эффективности аналитической работы. "Переход к анальной фазе, — пишет она далее, — привносит в душевную жизнь ребенка нечто совершенно новое, особое и абсолютно уникальное... Особенно с точки зрения роли, которую анальность играет в сообществе детей-сверстников, и различий в поведении детей в зависимости от того, находятся ли они в присутствии взрослых или в своем кругу" [93, с. 600-601].
Психические переживания на анальной стадии в основном сосредоточены вокруг экскреции, контроля над ней и всего, что с этим связано. Разумеется, для терапевтического анализа важен не так сам детский опыт, как его влияние на поведение взрослого. Однако разобраться в этом совсем непросто, и не только потому, что пациенты не стремятся рассказывать об анальных проблемах, а наоборот, настораживаются, как только терапия приближается к обсуждению последних. Фрейд в работе, датированной 1917 годом, т.е. почти через десять лет после выхода в свет первой статьи об анальном характере, пишет:
"Куда деваются анально-эротические влечения? Какова их участь после того, как они лишились своего значения в сексуальной жизни благодаря развитию зрелой генитальной организации? Сохраняются ли они неизмененными, но в состоянии вытеснения, подвергаются ли сублимированию и поглощению, превратившись в определенные черты характе-
[128]
pa, или вливаются в новую форму сексуальности, предопределенную приматом гениталий?.. Но в этом материале так трудно разобраться, — обилие повторяющихся впечатлений настолько путает, — что я и теперь еще не могу дать полного разрешения проблемы, а только материалы для выяснения этого вопроса" [77, с. 243].
Фрейд был склонен считать, что происходит своеобразное "слияние" анальных и эдиповых влечений, в результате которого в бессознательном устанавливается эквивалентность кала, денег (ценностей), пениса и ребенка, с легкостью заменяющих друг друга в сновидениях, сексуальных фантазиях и невротических симптомах. В цитируемой работе он предлагает графическую схему, иллюстрирующую этот процесс:
[129]
Это очень наглядная картинка превращения влечений в особенности анальной эротики. Поэтому вместо пояснений, которые читатель найдет в одноименной статье [см. 77], я приведу пример терапевтической работы, хорошо соответствующей излагаемым представлениям.
Клиентка, госпожа С., болезненно переживала разрыв дружеских отношений, длившихся около пяти лет. Ее особенно угнетали финальные эпизоды, в которых, по ее мнению, бывший друг повел себя как законченный и корыстный негодяй. Это выразилось, в частности, в том, что он посмел оставить себе полсотни книг, подаренных г-жой С. "в лучшую пору" их отношений. В устах клиентки, женщины гордой, не бедной и не жадной (скорее даже высокомерно акцентирующей эти моменты) такая претензия казалась по меньшей мере странной. Еще более непонятным выглядело настойчивое стремление госпожи С. принудить бывшего приятеля (назову его И.) вернуть книги — и не лично ей, как она всякий раз подчеркивала, а в библиотеку редакции, где они оба работали. Основная жалоба клиентки состояла в том, что ее друг, изображая высокую духовность, оказался обыкновенным потребителем, эгоистичным и неблагодарным. С учетом того, что г-жа С. рассказывала о своем конфликте с И., употребляя такие выражения, как "все, что он умеет и имеет, взято у меня", "неблагодарное ничтожество", "столько лет кормился от меня, а сейчас мне пакостит", было очевидно, что перед нами типичная анально-эротическая проблема.
Говоря о своих отношениях с И., госпожа С. (авторитетный литературный критик и профессиональный филолог) сказала, что они изначально строились как исключительно дружеские, основанные на общности интересов и взаимной симпатии, не переходившей в более интимную привязанность. Однако она легко признала, что эротический аспект отношений был представлен символически. Взаимная любовь метонимически27 сместилась на обоюдную страсть к литературе и поэзии. (Замечу в скобках, что в речи г-жи С. вообще много специальных терминов, так
[130]
что большую часть из тех, что вошли в описание психотерапевтической работы, она предложила сама).
Объясняя свое настойчивое желание вернуть книги, г-жа С. рассуждала так:
Т: Что для Вас важнее — получить книги назад или наказать г-на И?
К: Главное — восстановить справедливость. Большую часть их он получил не просто в качестве приятеля, а как коллега и соратник, с котором мы вместе делали общее дело. Я давала книги ученику, если хотите — последователю. А теперь он не имеет на них никакого права.
Т: А сам господин И. какого мнения, как Вы думаете?
К: Этого уж я не знаю, да и знать не хочу. Надо совсем не иметь ни стыда, ни совести, чтобы в сложившейся ситуации вести себя так, как он поступил. И мотив мне понятен — элементарная жадность.
Т: Но, может быть, книги дороги ему не только по этой причине?
К: Другой причины нет, да и быть не может. Отношения разрушены полностью, я с ним даже не здороваюсь. Тему исследований он поменял — так зачем Владимир Сорокин и Набоков тому, кто способен лишь подсчитывать запятые и деепричастия в переводах из Рамбиндраната Тагора?
Т: Вы наверняка слишком строго судите г-на И. — уж очень зло о нем говорите. Беспощадно.
К: Да я злюсь теперь больше на саму себя. Надо уметь лучше разбираться в людях. Как подумаю, сколько сил и труда я в него вложила — и все это как в выгребную яму ухнуло. А книги — это последний штрих. Такое ощущение, что я их своими руками на помойку выбросила.
Если соотнести сказанное со схемой Фрейда, можно дать следующую интерпретацию: госпожа С. рассматривала свои отношения с И. как "символическое рождение" новой, высокоинтеллектуальной личности рафинированного литературоведа. Бессознательно она считала, что г-н. PL, точнее, его профессиональная ипостась — "сим-
[131]
волическое дитя" клиентки — должен был, как в сказках, расти не по дням, а по часам, дабы постепенно сравняться с нею в знаниях и умениях. Этого не произошло, а г-жа С. еще долго принимала желаемое за действительное. В конце концов ее самообман рухнул, и в полном соответствии с фрейдовской схемой ребенок у нее превратился в "какашку" (верхняя диагональ). Пришлось приравнять к фекалиям и подарки (нижняя строка схемы)28, а сама г-жа С. долго не могла смириться с мыслью о том, что ее друг оказался "таким г...ом". Какое-то время она бессознательно наслаждалась сложившейся ситуацией, но потом эти "маленькие анальные радости" ей надоели. Как все нормальные взрослые, она захотела "отмыться" от этой истории, использовав терапевтический психоанализ в качестве моющего средства. Судя по тому, с какой готовностью госпожа С. приняла такую интерпретацию, ей это удалось:
Т: Если Вы согласны со мной, то что собираетесь делать дальше?
К: Самое разумное — больше не расстраиваться из-за этих книг и не пытаться их вернуть. Не то я снова окажусь испачканной (смеется). Ну, и самое главное — не влипать больше в подобные ситуации. Знаете, я ведь многие отношения пытаюсь выстроить подобным образом, особенно с учениками. Сильно все-таки в нас бессознательное...
Т: Дело не столько в бессознательном, сколько в вытеснении.
К: Ну, если называть это самое "превращение влечения в особенности анальной эротики" всего лишь вытеснением... Уж я впредь постараюсь не путать— как бы это помягче выразиться — дефекацию с родами.
Т: Это уже будет не метонимия, а метафора, которая, как известно, замещает симптом.
К: Вы хотите сказать, что в бессознательном у меня это путается?
Т: Вот именно.
К: (После паузы). А что, может быть... То-то я не успею статью написать, как она через два месяца после выхода в
[132]
свет уже кажется мне то примитивной, то глупой — словом, отвратительной.
Т: И часто так бывает?
К: Случается. Но, знаете, в этом есть свои плюсы — приходится писать все новые и новые работы.
Т: Это действительно неплохо. Только не стоит слишком уж обесценивать прошлые. И прошлое, и былых приятелей тоже...
К: Боюсь, это легче сказать, чем сделать. Но, видно, другого выхода у меня нет.
В терапевтическом анализе не обойтись без понимания того, какую роль играет анальная стадия в возникновении и переживании психологических трудностей и проблем. Принято считать [см. 30, 41, 46, 93], что анальность лежит в основе таких серьезных нарушений, как невроз навязчивых состояний, паранойя, гомосексуальность и др. Психиатры считают утрату контроля над дефекацией и мочеиспусканием диагностическим признаком, доказывающим наличие психоза. Амбивалентность, отношение к деньгам и ценностям, антагонизм активных и пассивных форм поведения, самоконтроль — все это также берет начало на анальной стадии развития.
Различные формы сексуальных извращений (перверсии), например, садо-мазохизм, часто непосредственно связаны с анальной фазой. Дело в том, что анальный мир представляет собой замкнутую, ограниченную систему, тогда как оральный нарциссизм открыт и безграничен. "Поскольку цикл анальной потребности, облегчения и удовольствия, — пишет П.Хайманн, — совершается без содействия и участия матери, мы должны предположить, что фантазии, относящиеся к анальным ощущениям, по своей сути лишены объектных идей, абсолютно нарциссичны и неопосредуемы. Чтобы перейти на ступень опосредования, они нуждаются в опоре на объекты" [93, с.605]. Связь с объектом, являясь произвольной и случайной, может формировать разнообразные формы перверсивного поведения. В работах сексопатологов и психиатров, начиная с Крафт-Эбинга, описаны специфические
[133]
связи анальных (в особенности садистических) импульсов с объектами, далекими от привычных представлений о сексуальной привлекательности (животные, трупы и т.п.). А.А.Ткаченко [66] предлагает оригинальную классификацию перверсий, в основу которой положен "игровой мир трансгрессивной сексуальности" с выраженными формами анальной фиксации.
Описываемую стадию развития личности часто называют опально-садистической. Это связано с тем, что в поведении детей двух- и трехлетнего возраста часто наблюдаются ярость, гнев, вспышки злости и мстительности, зловредное упрямство. Под влиянием воспитания и наказаний по принципу реактивного образования могут развиваться противоположные черты — ответственность, сознательность, выраженный самоконтроль, сильное чувство долга.
Многие психоаналитики вслед за Фрейдом выводят особое значение анальной стадии из того, что именно в этот период происходит серьезное столкновение детского нарциссизма с объектными отношениями. Ребенка, предпочитающего нарциссическое удовольствие от задержки дефекации, обычно называют плохим — грязнулей, упрямцем и т.д. Послушные дети, контролирующие сфинктер в угоду требованиям взрослых, развивают, как правило, более успешные отношения с окружением. В обоих случаях у взрослых ситуации, связанные с утратой контроля, несдержанностью (в широком смысле этого слова) вызывают сильное ощущение стыда, "замаранности". Бессознательное анальное удовольствие тщательно вытесняется, и у человека могут формироваться различные невротические сценарии поведения.
Например, довольно часто (особенно у женщин) встречается убеждение "быть сдержанной (холодной), всегда контролировать себя — единственная возможность "не испачкаться" в любовных и сексуальных отношениях". Иногда это соединяется с бессознательным ожиданием насилия как нормальной формы сексуальной инициации. Так, одна из моих клиенток пережила опыт изнасилования как вполне приемлемый в сексуальном плане. В дальнейшем в отношениях с мужем она была чрезвычайно
[134]
сдержанной и могла получить удовольствие только в тех случаях, когда супруг вел себя грубо. Клиентка называла его "грязным животным" (проекция) и становилась агрессивной в ответ на попытки мужа вести себя нежно и ласково. Интересно, что когда я в процессе терапии дала полную интерпретацию этого паттерна, клиентка внезапно расхохоталась и в середине долгого приступа смеха произнесла сакраментальную обсценную фразу "Усраться можно!" Получив (или дав себе) разрешение на удовольствие в столь необычной для нее речевой форме (клиентка была очень интеллигентной, воспитанной и утонченной дамой), она стала испытывать гораздо больше удовлетворения в супружеской постели.
Следует отметить, что обсуждение анальных проблем часто вызывает у клиентов сильное сопротивление, представляющееся им самим вполне естественным и даже необходимым. Особенно это касается людей с минимальными психологическими познаниями. Имея расплывчатое представление о том, что с психотерапевтом, скорее всего, придется обсуждать сексуальные проблемы, они совсем не готовы к разговору о прегенитальных формах эротических переживаний. Регрессия на анальную стадию может происходить легко и достаточно быстро — тем больше клиент упирается, отказываясь ее признавать. Зачастую общая динамика терапевтического анализа представляет собой миметическую29 копию свойственных клиенту регрессий и фиксаций: с широко открытым ртом он "поглощает", "всасывает" интерпретации, относящиеся к оральной стадии, а потом долго "тужится", чтобы высказать анальную проблему, с чувством замешательства и облегчения рассматривая результат (так сказать, "принюхиваясь" к нему). От аналитика он ждет материнского терпения и бессознательно побаивается, как бы тот не начал брезгливо морщиться в ответ на анальные признания.
Поэтому всегда полезно заранее рассказать пациенту об основных особенностях стадий психосексуального развития личности, подчеркнув, как важно понимать бессознательные механизмы, структурирующие проблемы взрослого человека по образу и подобию детских переживаний.
[135]
4.5. Эдипова стадия и эдипов комплекс
Если психодинамика оральной и анальной фаз более-менее наглядна и очевидна, эдипова стадия намного сложнее. Кроме того, как правило, именно эдипова проблематика в той или иной степени определяет трансферентные отношения терапевта и клиента. А если добавить к этому сложные перипетии реальных жизненных отношений, обусловленные эдиповым комплексом, проблемы зрелой сексуальности и особенности супер-эго, также формирующегося преимущественно на эдиповой стадии, то станет понятно, как непросто разобраться в перипетиях эдиповых проблем взрослых людей. "Трудности понимания эдипова комплекса, — пишет Гельмут Штольце, — связаны с двумя типами тесно переплетенных между собой проблем: возникающих в процессе полового развития маленького ребенка и тех, что обусловлены переходом дуальных отношений "мать-ребенок" на стадию сознательных отношений со многими людьми" [93, с.621].
Эдипова или фаллическая стадия развития личности — то, что называется у нас "дошкольное детство", период с трех до пяти-шести лет. В этом возрасте, по мнению большинства психоаналитиков, складываются основные формы сексуального поведения и формируется супер-эго — главная контролирующая инстанция человеческого поведения, местопребывание чувства вины, идеалов, совести и морали. На эдиповой стадии происходит развитие основных паттернов (образцов) мужественности и женственности (маскулинности и фемининности); ребенок усваивает принятую в культуре женскую или мужскую роль, более или менее успешно разрешая связанные с ними главные невротические проблемы — страх кастрации (у мальчиков) и зависть к пенису (у девочек). Совершенствуется система психологических защит личности, развиваются и усложняются ее отношения с миром.
Даже из этого беглого перечня видно, насколько эдипова стадия сложна и неоднородна по своему психологичес-
[136]
кому содержанию. Если же попытаться хотя бы в первом приближении учесть (и хоть как-то согласовать, чтобы не слишком запутывать читателя) разнообразные постфрейдистские трактовки содержания и функций фаллической стадии, обращая внимание на отдельные нюансы понимания различными специалистами, скажем, роли кастрационной тревоги или смены сексуального объекта, то становится ясно, что изложить весь этот материал в рамках одного раздела или главы чрезвычайно трудно. Поэтому я коснусь лишь основных аспектов эдиповой стадии, отдавая предпочтение материалу, непосредственно связанному с практикой психоаналитического анализа.
Специфика фаллической стадии, по Фрейду, определяется тем, что частичные (связанные с различными эрогенными зонам и участками тела) влечения подчиняются гениталиям, сосредоточиваясь у мальчиков вокруг пениса и его аналога — клитора — у девочек. "На этой стадии, — указывает авторитетный психоаналитический словарь — в отличие от генитальной организации пубертатного периода, ребенок любого пола признает лишь один половой орган — мужской, так что различие полов для него тождественно противопоставлению фаллического и кастрированного" [37, с. 506]. Многочисленные наблюдения за детьми подтверждают, что в этом возрасте они активно интересуются своими гениталиями, играют с ними и проявляют любопытство к аналогичным частям тела сверстников и взрослых.
Классический психоанализ считает, что в результате этого любопытства и сравнения себя с другими детьми мальчик начинается гордиться своим пенисом, а девочка испытывает разочарование и зависть. Однако нарциссическая гордость мальчика сопровождается страхом потерять столь важное отличие (кастрационная тревога), а пресловутая "зависть к пенису" (наличие такого чувства активно оспаривают многие аналитики, в особенности Карен Хорни) становится залогом нормального женского варианта психосексуалъного развития. Оба эти момента связаны с эдиповым комплексом.
Содержание эдипова комплекса, этого центрального феномена детского развития, лучше всего выразить фор-
[137]
мулировками самого Фрейда. Я приведу достаточно пространную цитату (с небольшими пропусками, убрав архаизмы и повторения) , чтобы можно было в дальнейшем описать различные уточнения и дополнения, внесенные его последователями и критиками. В "Лекциях по введению в психоанализ" Фрейд говорит:
"Легко заметить, что маленький мужчина один хочет обладать матерью, воспринимает присутствие отца как помеху, возмущается, когда тот позволяет себе быть нежным с нею, выражает удовольствие, если отец уезжает или отсутствует. Часто он выражает свои чувства словами, обещая матери жениться на ней... Ребенок одновременно (при других обстоятельствах) проявляет большую нежность к отцу; только такие амбивалентные эмоциональные установки, которые у взрослого привели бы к конфликту, у ребенка прекрасно уживаются, подобно тому как позднее они постоянно находят рядом в бессознательном... Когда малыш проявляет самое неприкрытое сексуальное любопытство по отношению к матери, требуя, чтобы она брала его ночью спать с собой, просится присутствовать при ее туалете или даже предпринимает попытки соблазнить ее, как это часто может заметить и со смехом рассказать мать, то в этом, вне всякого сомнения, обнаруживается эротическая природа привязанности к матери...
У маленькой девочки все складывается (с необходимыми изменениями) совершенно аналогично. Нежная привязанность к отцу, потребность устранить мать и занять ее место, кокетство, пользующееся средствами зрелой женственности, именно у маленькой девочки образуют прелестную картину, которая заставляет забывать о серьезности и возможных тяжелых последствиях, стоящих за этой инфантильной ситуацией" [75, с.211-212].
Итак, основоположник психоанализа подчеркивает прежде всего негативные последствия эдиповой привязанности. Это не значит, будто эдипов комплекс является чисто невротическим образованием (типа комплекса неполноценности или комплекса вины). Это нормальное, свойственное всем людям переживание, а патологические последствия оно приобретает вследствие неспособности справиться с проблемами данной стадии, разрешив основные эдиповы противоречия (любовь к одному родителю, ненависть и желание смерти другому)30. Противоре-
[138]
чивую спутанность эмоций и чувств ребенка к родителям, сопровождающую невозможность отделиться от них, преодолев страх и тревоги фаллической стадии, Фрейд считает основой так называемого [см. одноименную работу— 81, с.135-138] семейного романа невротиков. Именно последний в большинстве случаев влияет на структуру невроза взрослой личности.
Рассмотрим эдипову проблематику на конкретном примере. В этой части книги я буду опираться на опыт длительной работы с пациентом, чьи жизненные трудности хорошо иллюстрируют основные перипетии невротического развития личности, обусловленного фаллической стадией. Разумеется, весь приведенный материал был получен не сразу, и существенную часть его составляют мои аналитические интерпретации и реконструкции. Чтобы не перегружать текст, пришлось сократить обоснования тех из них, которые не касаются прямо проблем эдиповой фазы. Ну и, разумеется, не все разнообразие последних представлено у конкретного клиента. Тем не менее, я не стала привлекать недостающие примеры из терапевтической работы с другими людьми, чтобы сохранить (насколько получится) очарование целостного изложения "случая из практики".
Господин Р. — молодой человек 25 лет. Производит впечатление вполне уравновешенного и хорошо приспособленного юноши без особых жизненных проблем. Выглядит, правда несколько тучным, считает, что у него лишний вес, страдает одышкой и жалуется на аритмию. Последнее и послужило непосредственной причиной обращения за помощью, хотя в процессе психотического анализа была обнаружена дисгармония в отношениях с людьми, экзистенциальные трудности, одиночество, а вовсе не тревога, связанная с лишним весом, или кардионевроз.
Господин Р. подробно рассказал о своих отношениях с матерью и отцом, и постепенно черты его "семейного романа" прояснились. Отношение к матери у него было амбивалентным и весьма сложным: он нежно любил ее в детстве и одновременно понимал, что мать "ненадежна" — по-видимому, она структурировала отношения с сыном так, что он часто ощущал себя брошенным без вся-
[139]
кой причины. Точно так же мать вела себя и с отцом, и классическая эдипова ситуация (любовь к матери и завистливая ревность к отцу) трансформировалась следующим образом: и сын, и отец постоянно ощущали себя виноватыми и плохими, недостойными уважения и любви. "Я думаю, — заметил как-то господин Р., — что главное для матери было показать нам обоим, что мы ничего не стоим и ничего для нее не значим. Я уже лет в пять, наверное, понимал, что я ее "крест", а для отца это было исходной предпосылкой отношений в семье. Я не ревновал ее к отцу, мы оба были плохими. Мать была довольна, только если мы были несчастны. Помню, что в детстве, если я чему-то радовался, она не успокаивалась, пока не объясняла, что причин для веселья нет. А если я плакал, она говорила, что я нюня, и отец у меня такой же".
Из рассказов клиента вырисовывался образ деспотичной, "кастрирующей" матери, которая постоянно ставила под сомнение маскулинные качества и сына, и мужа. Кроме того, в этой роли после символической кастрации мать сама не претендовала на лидерскую роль или хотя бы компетентную позицию — она уходила в сторону и начинала упрекать мужчин в том, что несчастна, нуждается в помощи и т.д.
Родители развелись, когда г-ну Р. было десять лет. Отец вскоре женился вторично, а мать осталась в одиночестве. Вторая жена отца, по словам клиента, — нормальная женщина, которая любит своего мужа и хорошо относится к пасынку. "Но, понимаете, — говорил клиент, — я не мог ей по-настоящему доверять, просто потому, что она ведь не моя родная мать. Я всегда помнил, что мать одинока. Но даже когда вырос и с радостью уехал в другой город, я чувствовал себя виноватым за то, что бросил мать. Хоть и знаю, что я ей не нужен. Ей вообще никто не нужен, кроме себя. Я чувствую, какой я неблагодарный негодяй, но я не могу любить -ее — это всегда кончалось одинаково. Я понимаю, что это какое-то моральное уродство — не любить родную мать. А как ее любить? Я знаю, что ей нужна не забота, а возможность упрекать всех, но больше всего меня и отца в том, что мы оба ее бросили".
[140]
Фрейд считал, что страх кастрации является главным фактором преодоления эдипова комплекса. Мальчик должен отказаться от матери, признать власть отца и отождествить себя с ним, а девочка — смириться с отсутствием пениса и обратить внимание на мужчину, который в качестве обладателя этого вожделенного предмета способен (разумеется, в будущем) наделить ее ребенком как символической заменой мужского органа. Таким образом, происходит "разрыв" с родителями как первичными объектами эротического влечения и одновременное утверждение их в качестве авторитетных и властных образцов для подражания.
Поведение матери и отца на фаллической стадии служит тем неосознаваемым эталоном, с которым взрослый будет сравнивать других мужчин и женщин; отношения с родителями (эмоционально насыщенные, порой неоднозначные и сложные) в той или иной степени станут основой для формирования объектных отношений. Те аспекты, которые непосредственно влияют на зрелую любовную и сексуальную активность, — это продукт так называемой эдиповой триангуляции, становления триады "мать-отец-ребенок". Практически всегда они представлены также в отношениях с психотерапевтом (трансфер).
В рассматриваемом случае эдипова триангуляция была осложнена активной (распространяющейся и на отца, и на сына) кастрирующей позицией матери. Отец, в свою очередь, не мог противостоять ей, испытывал чувство вины как "плохой муж" и в силу этого не смог стать полноценным "любящим, но суровым" родителем для мальчика. Клиент, таким образом, оказался в довольно сложной ситуации выбора, о которой Фрейд в работе "Гибель эдипова комплекса" пишет так:
"Эдипов комплекс дает ребенку две возможности удовлетворения, активную и пассивную. Он может, как мужчина, поставить себя на место отца и относиться, как последний, к матери, причем отец учитывается тогда как стоящее на его пути препятствие, или же он стремится заменить мать и быть любимым отцом, причем мать становится излишней. В чем состоит удовлетворяющее любовное отношение, об этом ребенок имеет лишь очень неясные представления..." [80, с.545].
[141]
Господин Р. очень рано усвоил, что мать ненадежна, более того — любая попытка построить с ней близкие, доверительные отношения обречена на провал. Это болезненное ощущение предательства и переживания собственной ничтожности, слабости, незначительности связались с материнской фигурой и фемининностью в целом. Поиск материнской любви и заботы в зрелых генитальных отношениях и стал одной из главных проблем г-на Р. У него был выраженный бессознательный страх перед женщиной, отношения с которой он мог строить, только предварительно обесценив ее как личность. "Я не могу любить женщин, тем более — доверять им, — говорил клиент, — но я могу их использовать. Если женщина молодая и привлекательная и видно, что я ей симпатичен, — то пожалуйста". Но отношения с мужчинами нравились ему гораздо больше.
Таким образом, "удовлетворяющее любовное отношение" (см. предыдущую цитату) было для клиента скорее гомо-, чем гетеросексуальным. Однако и в этих связях г-н Р. продолжал бессознательно "отыгрывать" недоверие к матери и поиск любящей заботы. Тотальное недоверие, страх зависимости и невозможность построить здоровые (равноправные, по-настоящему близкие, свободные от желания держать под контролем автономность Значимого Другого) отношения и были основной невротической проблемой Р.
В процессе психоаналитического анализа клиент осознал следующий бессознательный паттерн. В качестве потенциальных партнеров его привлекали зрелые, сильные и автономные личности, которые, как ему казалось, могли бы ценить и любить его, заботиться о его нуждах. Но с такими людьми он чувствовал себя "использованным", боялся любых проявлений их личной свободы и сразу разрывал отношения. Заботливый партнер или партнерша, которых он контролировал, были более безопасными, но отношения с ними представляли сомнительную ценность, так что их можно было легко "использовать и бросить". В конечном счете господин Р. оказывался одинок и чувствовал себя никому не нужным, нелюбимым и ничтожным. Соответственно, чужая автономия несла угрозу, а
[142]
люди в целом казались ненадежными, эгоистичными, неспособными на любовь и заботу.
Вся эта бессознательная динамика бурно проявлялась в трансферентных отношениях. В качестве женщины и материнской фигуры я, разумеется, не могла быть надежной, а моя автономность как аналитика попросту пугала г-на Р. В то же время на сознательном уровне его отношение ко мне было и доверительным, и очень позитивным. Чувствовалось, что клиент ценит анализ, воспринимает его как заботу и помощь, верит мне как специалисту. В то же время он всячески пробовал контролировать аналитическую работу — например, пытался оговаривать, что я могу делать в качестве аналитика (давать интерпретации, быть надежной, иронизировать), а что нет (использовать его случай в качестве клинической иллюстрации, свободно формулировать аналитическую задачу, быть терпеливой, доверять).
На одном из сеансов господин Р. очень рассердился, когда я заметила, что его желание контролировать глубину и направление аналитического вмешательства невыполнимо, так как это все равно зависит от меня — моей проницательности, терапевтического мастерства, намерений и целей и т.п. Далее состоялся такой диалог:
К: Но я всегда могу прервать анализ.
Т: Это вряд ли. Вы цените анализ, он Вам нравится, Вы хорошо понимаете, сколько от него пользы.
К: Ну, все-таки...
Т: К тому же, если так случится, я не буду сердиться, а терпеливо подожду, покуда Вы одумаетесь и вернетесь, чтобы продолжить работу. Мне понятны причины такого поведения, и я не стану Вас за это обесценивать.
К: И что, даже не разозлитесь?
Т: Моя задача — интерпретировать и анализировать, а не сердиться на клиента.
(Г-н Р. долго молчит).
Т: Мы уже говорили о том, что Вы переносите на отношения со мной опыт взаимодействия с матерью в раннем детстве. Вам нужно сначала научиться доверять мне, а потом это получится и с другими людьми. Если я ока-
[143]
жусь надежной, значит, и другие женщины могут быть надежными. Я буду демонстрировать свою надежность столько, сколько нужно. Кроме того, если Вы научитесь, что называется, "терпеливо сносить" мою автономность как аналитика, Вы, наконец, перестанете бояться сильных и самостоятельных людей. Вам не нужно будет от них убегать, разрывая отношения.
К: И что?
Т: И Вам не придется так жестко контролировать своих друзей и возлюбленных ради чувства безопасности. Исчезнет альтернатива "использовать или быть использованным". Вы постепенно научитесь быть вместе в значимых отношениях, а не бороться за власть — кто кого.
К: Но Вы все равно не должны на лекциях приводить в пример мой случай!
Т: Соблюдая всю необходимую конфиденциальность — вполне могу. И Вам от этого никакого вреда не будет. Это не значит, что я Вас использую — просто я Вам доверяю. Это нормальная работа, которую мы делаем вместе — аналитик и клиент. Для общей пользы и с полным доверием друг к другу.
После этого господин Р. перестал пытаться контролировать свой анализ. Однако проблемы эдиповой стадии отнюдь не разрешились вышеописанной "борьбой за фаллос" (в лакановском смысле этого выражения, см. главу 6 настоящей книги).
Вернемся, однако, к описанной выше проблеме эдиповой триангуляции. Все, что связано с этим моментом психического развития личности, не нужно понимать как патологию или (что встречается гораздо чаще), как момент предыстории возникновения различных "пикантных" проблем. Психологическое объяснение и гораздо шире, и гораздо сложнее:
"Все мы эдипы, прошедшие в ходе развития и проявления Я всю эдипову ситуацию. Но — и это представляется мне самым важным — мы проходим ее отнюдь не единожды, как это многие считают в соответствии с психоаналитической теорией. Мы переживаем ее, всегда по-новому, в любых трехсто-
[144]
ронних отношениях, формировать которые призваны. В этом состоит эдипова ситуация, постоянно представляющаяся в образе впервые пережитых нами трехсторонних отношений, отношений Я, находящегося между материнским и отцовским. Поэтому нетрудно понять, почему эдипова констелляция имеет столь широкое распространение в образах души, сновидениях и фантазиях" [93, с.623].
Эта формулировка, принадлежащая Гелъмуту Штольце, хорошо иллюстрирует то, как по-разному понимают эдипов комплекс профессиональные психоаналитики и просто интеллигентные люди, в той или иной степени знающие, что он собой представляет. Типичные расхождения касаются не столько содержания эдиповых проблем, сколько нюансов, связанных с их влиянием на проблемы взаимоотношений между полами. К сожалению, многие психотерапевты неаналитической ориентации склонны игнорировать эдипову детерминацию терапевтического процесса, забывая, что "эдипова ситуация всегда имеет место в том случае, если перед человеком стоит сложная задача включить себя в качестве Я в трехсторонние отношения, дабы утвердиться в них — между тем, что остается, и тем, что движется вперед" [93, с. 624]. Психотерапевтический процесс при этом будет стоять на месте, а отношения терапевта и клиента — все больше и больше запутываться, так что раньше или позже терапия сменится бессознательным "отыгрыванием" эдипова конфликта обоими участниками.
Рассмотрим теперь вторую важную сторону фаллической стадии, тесно связанную с эдиповым комплексом, — формирование Сверх-Я*. Это довольно сложное психиче-
* В данном параграфе я буду рассматривать становление супер-эго как происходящее на эдиповой стадии, хотя среди психоаналитиков существуют разные мнения относительно того, когда оно возникает. М.Кляйн относит формирование отдельных сторон Сверх-Я к первому году жизни, Х.Хартман и Р.Лсвенштейн [110] — наоборот, сдвигают завершение этого процесса к концу пубертата. Точка зрения Фрейда мне кажется более справедливой.
[145]
ское образование, контролирующее желания и влечения личности и все поведение человека в целом. Принято считать, что развитие супер-эго есть результат внутреннего конфликта между чувством вины и идеальным представлением о себе, который связан с усвоением родительских запретов на данной стадии личностного развития.
Для начала следует разобраться в том, что представляет собой этот третий высший уровень психического аппарата: из чего он состоит, каковы его функции и что конкретно в человеческом поведении можно считать проявлением супер-эго. Обычно к Сверх-Я относят моральные и нравственные нормы и правила, в том числе и религиозные, совесть, вину, принципы и различные запреты, а также идеалы и ценности личности — одним словом, все то, что позволяет ей отличать добро от зла (в самом широком смысле) и вести себя в соответствии с представлениями о плохом и хорошем, должном, допустимом и непозволительном. Диалектику этой личностной инстанции хорошо выражает стихотворение немецкого поэта Эриха Фрида:
Я свободу отдал за надежду.
Надежду — за благоразумие.
Благоразумие — за покой,
Покой за долг.
Я долг отдал за любовь,
Любовь — за свободу...
Короче стало дыхание,
А жизнь так длинна*.
Было бы неправильным представлять, что эта часть психики, задающая направление нашим поступкам, полностью осознается. Многое в содержании Сверх-Я бессознательно (например, почти все, что относится к коллек-
* К сожалению, я нс смогла найти сборник с переводом этого стихотворения. Цитирую по памяти, наверняка неточно и, возможно, это Пауль Целан, а нс Эрих Фрид.
[146]
тивным социально-этническим правилам и обычаям, общественным табу, передающимся из поколения в поколение профессиональным или семейным ценностям и т.п.). Само это понятие Фрейд впервые сформулировал в работе "Психология масс и анализ человеческого Я" (1921), подчеркивая, что по природе своей Сверх-Я является скорее коллективным, нежели индивидуальным образованием. Психотерапевтам не следует забывать, что супер-эго, хотя и контролирует бессознательные импульсы (и сознание тоже), в значительной мере не осознаваемо.
Психоаналитический словарь Ж.Лапланша и Ж.-Б.Понталиса [37] в число понятий, связанных с супер-эго (Сверх-Я), включает также "Я-идеальное", "Идеал-Я" и "просто Я"; ряд авторов говорят о синтетической функции эго, формирующей Сверх-Я (Г.Нунберг), о межличностной природе этого образования (М. и Э.Балинт, Г.С.Салливан); наконец, юнгианские и постъюнгианские (Э.Нойманн, Э.Самуэлс, А-Гуггенбюль-Крейг и др.) представления о Самости тоже довольно близки к понятию Сверх-Я31. Отечественные переводчики в большинстве своем употребляют указанные термины произвольно, кому как нравится. Поэтому нужно сделать некоторые пояснения.
Идеал-Я — это образец, эталон личностных качеств и поведения, которому стремится следовать субъект. В него входят мечты о могуществе и различных чудесных способностях, похожих на те, что есть в волшебных сказках. Ж.Лампль де Гроот, описавшая две формы построения идеала, полагала, что в формировании этой части супер-эго большую роль играют идеализированные представления о родителях — всемогущих, всезнающих и совершенных. Я-идеальное — это "идеал нарциссического своевластия, созданный по модели детского нарциссизма" [37, с.609], иначе говоря, те запреты и представления, которые исходят от родителей и учителей и усваиваются ребенком в качестве требований, выполняя которые, он будет хорошим.
Иначе говоря, Идеал-Я — это мои представления о совершенстве, а Я-идеальное — то, как его представляют
[147]
Значимые Другие. В структуре Сверх-Я обе стороны идеала отвечают за послушание, стремление к достижениям и участвуют в формировании самооценки, однако их конкретный вклад в поведение может быть разным. Например, эго слушается Сверх-Я под страхом наказания, а ид (Оно) слепо любит Идеал-Я и поэтому подчиняется ему. Ведь последнее формируется по образу объектов любви (любимые родители, герои сказок), а Сверх-Я — по образцу строгих родителей и учителей, судей и полицейских.
Из сказанного видно, что Сверх-Я — довольно-таки противоречивое образование, так как различные идеальные образы, усвоенные (интроецированные) из разных источников, могут конфликтовать. Ребенку нелегко примирить противоречия, особенно если мнения и ценности заимствуются у авторитетных лиц. Можно вспомнить ситуации, когда родители и воспитательница в детском саду (или первая учительница) высказывают противоположные суждения и оценки — это может привести к истерическому срыву. Нередко конфликты внутри супер-эго32 снижают самооценку или чреваты недоразвитием так называемых "мягких" компонентов Сверх-Я.
Последние формируются через усвоение образа доэдиповой любящей матери. Этот поддерживающий и заботливый, "гуманный" аспект супер-эго противостоит жесткому садистическому контролю и чувству вины. Его слабость делает Я беспомощным перед Ид, и ребенок, а потом и взрослый, утрачивает способность любить, защищать, утешать и руководить с чувством гордости за себя. Клиенты с дефицитом "любящей и любимой" части супер-эго всегда готовы к упрекам и критике, воспринимая их как должное, и совершенно теряются, когда им оказывают поддержку или хвалят.
Господин Р. был именно таким. При внешнем эмоциональном благополучии и оптимистичном поведении, которые он сам называл "маской", он очень нуждался в защите и поддержке, высоко ценил заботу о себе и своих нуждах — настолько, что был готов платить за них любую экзистенциальную цену. Он около двух лет прожил с нелюбимым и даже физически отталкивающим че-
[148]
ловеком, который заботился о нем и был ласковым и внимательным.
Успешное становление супер-эго обеспечивает мощный потенциальный источник благополучия и психологического комфорта. Личность все меньше зависит от внешних источников нарциссической поддержки и способна справляться с разочарованиями и фрустрацией благодаря собственным идеалам и стандартам Сверх-Я. Внешняя оценка и критика принимаются во внимание, причем без крайностей — не вытесняются и не возводятся в абсолют. Такого рода стабильность и была выбрана одной из целей терапевтического анализа.
Г-н Р. фактически никогда не был уверен в собственной ценности. Бессознательную динамику, связанную с переоценкой и/или обесцениванием автономии и заботы, он переносил на других людей, приписывая юл свои страхи и желания. Вклад кастрирующей матери и чересчур мягкого, слабого отца способствовал формированию сверхкритичного супер-эго, всегда готового услужливо предоставить аргументы в пользу "ничтожности" своего Я. Поэтому ситуации жесткого внешнего оценивания были для него более комфортными, чем те, в которых он должен был положиться на собственную самооценку. Бессознательные ожидания упреков и критики со стороны значимых других действовали как самоактуализирующееся пророчество, и господин Р. редко был доволен своей жизнью и отношениями с людьми.
Основа для взаимоотношений с другими людьми закладывается на эдиповой стадии по образцу того, как ребенок "решает" для себя основную проблему зависимости от матери. Ведь мальчик этого возраста зависим не столько от матери, сколько от ее любви к нему, или, в терминологии Ж.Лакана, от ее желания. Г-ну Р. было чрезвычайно трудно отождествить себя с объектом желания матери, поскольку ее отношение к сыну было пренебрегающим и жестоким (кастрирующая мать). В полном соответствии с этим он усваивает не анаклитический33, а гомосексуальный (нарциссический) выбор объекта и, со-
[149]
ответственно, испытывает трудности при отождествлении с маскулинной (мужественной) сексуальной ролью.
Дальнейшая аналитическая работа позволила вскрыть мазохистические компоненты характера этого клиента. Г-н Р. чувствовал сильную тревогу в ситуациях, чреватых возможностью внешней агрессии (например, в присутствии нетрезвых, громко разговаривающих мужчин). Ему казалось, что их возбуждение и злоба направлены именно против него, что его поведение каким-то образом провоцирует враждебность. В то же время излюбленный сексуальный сценарий клиента представлял собой гомосексуальный акт с участием нескольких партнеров, ведущих себя грубо и агрессивно.
Осознавая близость этих двух паттернов (тревоги и наслаждения), господин Р. признал наличие мазохистически окрашенных переживаний удовольствия. Однако его трудно было счесть представителем Мазохистского характера, описанного, например, В.Райхом в следующих выражениях: "субъективное хроническое ощущение страдания, объективно представленное тенденцией жаловаться;
хроническая склонность к нанесению себе вреда и самоуничижению (моральный мазохизм); навязчивое стремление мучить других, которое заставляет пациента страдать не меньше, чем объект его действий... специфическая неловкость поведения" [56, с.234]. Господин Р. выглядел и вел себя совсем иначе.
Понять глубинную динамику его переживаний помогла постмодернистская трактовка мазохизма, предложенная Ж.Делезом. Делез связывает мазохизм с патологическим развитием Сверх-Я, полагая, что садомазохистские переживания обусловлены расколом между Я и Сверх-Я. Этот раскол ведет к подчинению мазохистического эго садистскому Сверх-Я и дальнейшему разрушению единства и цельности личности. "Мазохизм, — пишет Делез, — есть некая история, рассказывающая о том, как и кем было разрушено Сверх-Я и что из этого вышло. Случается, что слушатели плохо понимают историю и думают, будто Сверх-Я торжествует в тот самый момент, когда оно агонизирует" [16, с. 309].
[150]
В данном случае становление супер-эго клиента было нарушено фрустрирующей матерью. В детстве единственным способом сохранить отношения с ней было Мазохистское подчинение. Господин Р. отчетливо помнил, что мать могла в любой момент сменить заботливое и опекающее отношение строгим и критичным, резко оттолкнуть ребенка, которого только что приласкала. Садомазохистские переживания и стали для него основным эмоциональным паттерном, сопровождающим ситуацию удовлетворения влечений. Г-н Р. в целом был депрессивной личностью, а сфера его интимных отношений соответствовала скорее Мазохистскому (пораженческому, саморазрушительному) типу.
Чтобы лучше понять ход терапевтического процесса, нужно разобраться в процессах становления супер-эго. Фрейд, излагая общую динамику разрешения эдиповых противоречий, различает нормальный и патологический ход развития Сверх-Я:
''Я ребенка отвращается от эдипова комплекса... Интроецированный в Я отцовский или родительский авторитет образует там ядро Сверх-Я, которое заимствует строгость отца, подтверждает исходящий от него запрет инцеста и таким образом предотвращает возврат Я к либидной (материнской) объектной привязанности. Эдиповы стремления частью десексуализируются и сублимируются, а частью превращаются в нежные побуждения...
Я не вижу никаких оснований для того, чтобы отказать отчуждению Я от эдипова комплекса в названии "вытеснение", хотя более поздние вытеснения осуществляются при участии Сверх-Я, которое лишь теперь образуется. Однако описанный процесс является чем-то большим, нежели вытеснение; в случае идеального осуществления он равнозначен разрушению и упразднению комплекса... Если же Я на самом деле не добилось ничего, кроме вытеснения комплекса, то последний продолжает бессознательно существовать в Оно и впоследствии обнаружит свое патогенное влияние" [80, с.546].
Пойдем дальше. Едва ли не главной составляющей супер-эго обычно считают совесть. А иногда эти понятия вообще приравниваются друг к другу, и о человеке с разви-
[151]
тым Сверх-Я говорят "совестливый", противопоставляя таких индивидов бессовестным сопиопатам. Совесть относится к числу таких нравственных сущностей, которые достаточно хорошо определяются психоаналитически.
У истоков совести лежит разделение функций эго, связанных с восприятием и оценкой собственной личности. Часть внутренних импульсов и влечений ребенку необходимо подавлять — из-за того, что Я-идеальное и Идеал-Я не совпадают. Психологические защиты искажают реальность в той мере, в какой это необходимо для психического благополучия индивида. Однако внутреннюю природу нельзя изменять до бесконечности. Рано или поздно и ребенок, и, тем более, взрослый могут оказаться перед выбором: что лучше — соответствовать требованиям окружающих или выражать свою собственную сущность? Правильно ли руководствоваться подлинными чувствами, или нужно пренебречь ими ради соблюдения условностей? Не скрывается ли за таким самоотречением обыкновенная трусость или подлость? Совесть в качестве критерия внутренней реальности способна не только "грызть" человека за серьезные проступки и мелкие грешки, но и контролировать чрезмерную социальную желательность, болезненно воспринимая разрыв между внутренней реальностью и поведением.
Известный психоаналитик Герберт Нунберг [46] рассматривает возникновение Сверх-Я как проявление так называемой синтетической функции эго. По его мнению, импульсы либидо изначально стремятся к ассимиляции, воссоединению, примирению противоположностей. Потребность объяснять причины (т.е. устанавливаться связи между событиями, объединять их), фантазия и творческое мышление — все это относится к области синтетической функции. "Эго создает, — пишет Нунберг, — из бесконечного количества восприятии, впечатлений, чувств, из эмоциональных образов объектов — новую независимую структуру, которую мы называем "супер-эго". Этот новый психический механизм формируется благодаря ассимиляции и интеграции огромного количества сле-
[152]
дов, оставленных в эго внешними и внутренними раздражителями" [46, с. 145].
Такое понимание Сверх-Я хорошо согласуется с его функциями не только критика и цензора, но и организующего начала в личности. Супер-эго с легкостью заполняет пробелы, созданные вытеснением, проверяет, "достаточно ли хороши" рационализации, создает прихотливые фантазии на моральные темы. Эта инстанция активно сотрудничает с психотерапевтом — во всех случаях, когда интерпретации и действия последнего не расходятся с идеалами Сверх-Я.
Большинство оценок и суждений супер-эго касаются собственной личности, его восприятие действительности всегда опосредовано самооценкой. Данная часть психики больше связана с бессознательным, нежели с реальностью. "Сверх-Я погружается в Оно, — писал Фрейд, — как наследник эдипова комплекса оно имеет с Ид интимные связи; оно дальше от системы восприятия, чем Я. Супер-эго сообщается с внешним миром только через Я" [75, с.348]. Поэтому восприятие и понимание мира, наука, техническое творчество и социальный прогресс являются полем деятельности Эго, а на долю Сверх-Я остаются лишь судьбы влечений.
После эдиповой стадии в психосексуальном развитии личности наступает латентный период, заканчивающийся половым созреванием. В итоге у человека формируется зрелая генитальная организация, отличная от инфантильной, но несущая на себе отпечаток более ранних стадий. Таким образом, магистральная линия нормального развития определяется триадой:
|
аутозротизм
|
—»-
|
латентность
|
—»-
|
генитальность
|
а вектор терапевтического анализа, соответственно, противоположный: от "взрослых" проблем — к инфантильно-регрессивным влияниям конфликтов раннего детства.
Закончить эту главу мне хотелось бы обсуждением еще одного фундаментального положения, касающегося психотерапии проблем, связанных с личностным развитием.
[153]
Речь идет об известной мысли К.Г.Юнга по поводу отличий в психологических проблемах молодого и зрелого человека. Сам Юнг в работе "Цели психотерапии" (1929) формулирует их так:
"Жизнь молодого человека, как правило, проходит под знаком общей экспансии со стремлением к достижению лежащих на поверхности целей, а его неврозы, по-видимому, основываются главным образом на нерешительности или на отступлении от этого направления. Жизнь стареющего человека, напротив, проходит под знаком контракции, утверждения достигнутого и сокращения внешней активности. Его невроз основывается, как правило, на несвойственном для его возраста застревании на юношеских установках. Если молодой невротик пугается жизни, то пожилой отступает перед смертью. То, что когда-то было для юноши нормальной целью, для пожилого становится невротическим препятствием, точно так же как из-за нерешительности молодого невротика его первоначально нормальная зависимость от родителей превращается в противные жизни отношения инцеста. Естественно, что неврозы, сопротивление, вытеснение, фикции и т.д. у молодого человека имеют противоположное значение в сравнении с пожилым, несмотря на кажущееся внешнее сходство" [97, с.73-74].
Эту идею Юнг развивает и далее, в работе "Стадии жизни" (1931), подчеркивая, что в детстве и в старости личность не осознает своих проблем — человек просто является проблемой для тех, кто о нем заботится. Только в зрелом возрасте, от 40 до 60 лет34 мы решаем свои проблемы в качестве активных и самостоятельных субъектов.
По моим наблюдениям и оценкам коллег-психотерапевтов, большинство наших клиентов — это люди в возрасте от 20 до 35 лет. Даже те, что постарше, как правило, психологически чувствуют себя людьми "первой половины жизни" (например, сорокалетние женщины, которые еще надеются устроить свою судьбу по образцу двадцатилетних — идеальное замужество и отсутствие забот в дальнейшем). Поэтому мысль Юнга по-новому освещает актуальную для многих клиентов проблему инфантильного личностного функционирования.
[154]
В рамках процитированных выше положений становится очевидно, что развитие, чуждое идее "взросления", с возрастом становится все менее здоровым, даже если и не сопровождается выраженными невротическими проявлениями. Точно так же терапевтический психоанализ, работающий с конкретной проблемой, не должен игнорировать всего, что связано с недостаточной зрелостью клиента. Зачастую терапевт чересчур увлекается собственно аналитическим лечением, задачей помощи, идеей психологического просвещения — и мало заботится о том, чтобы пациент мог взглянуть на свои "временные" трудности в целостном жизненном контексте, с позиции того возраста, в котором он находится. Такую цель лучше всего поставить в связи с окончанием терапевтической работы, которая обретет благодаря этому необходимую четкость и завершенность.
Глава 5. Межличностные отношения как предмет терапевтического анализа
5.1. Понятие объектных отношений
Отношения с людьми чаще всего служат источником психологических трудностей и проблем. Существует известная закономерность, связанная с ситуацией социальной неуспешности. Как правило, "сложные" в общении личности обычно жалуются на то, что во всех неприятностях виноваты окружающие: они-де и невнимательны, и эгоистичны, и грубы. В то же время люди с высоким уровнем социального интеллекта и компетентности в общении привыкли рассматривать межличностные отношения как жизненную сферу, качество которой всецело определяется их собственной активностью. Во множестве социально-психологических исследований установлено, что существует прямая зависимость между внутренним локусом субъективного контроля35 и успешностью в общении, внешним локусом и коммуникативными проблемами.
Ряд психотерапевтических школ рассматривает межличностные затруднения как результат процессов социального взаимодействия людей. Предметом терапевтического воздействия при этом выступают целые системы или ансамбли связей и отношений, для их гармонизации широко используются групповые методы (например, психодрама или системная семейная терапия). Усилия терапевтического анализа сосредоточены на поиске внутриличностных, глубинно-психологических причин нарушения общения и отношений с людьми. Ведь очень часто именно бессознательные намерения или коммуникативные мотивы вносят основной вклад в социальную дезадаптацию индивида, а межличностные конфликты являются прямым продолжением интрапсихических.
[156]
Психоаналитическая традиция склонна рассматривать межличностные отношения индивида как функцию всецело субъективную. Развиваемые Фрейдом и его последователями (О.Ранком, Ш.Ференци, П.Федерном и др.) представления об изначальном базовом единстве Я и мира в форме безграничного "океанического чувства" общности выводят специфику развития отношений с действительностью и другими людьми из способов первичной дифференциации Я на основе принципа удовольствия и избегания страданий, причем именно трудности межчеловеческих отношений Фрейд полагает основным источником горестей индивидуальной судьбы:
"Младенец еще не отличает своего Я от внешнего мира как источника приходящих к нему ощущений. Его постепенно обучают этому различные импульсы... Самый желанных из них — материнская грудь, призвать которую к себе можно только настойчивым криком. Так Я противопоставляется некий объект, нечто находимое вовне, появляющееся только в результате особого действия. Дальнейшим побуждением к вычленению Я из массы ощущений, а тем самым к признанию внешнего мира, являются частые, многообразные и неустранимые ощущения боли и неудовольствия. К их устранению стремится безраздельно господствующий в психике принцип удовольствия. Так возникает тенденция к отделению Я от всего, что может сделаться источником неудовольствия. Все это выносится вовне, а Я оказывается инстанцией чистого удовольствия, которому противостоит чуждый и угрожающий ему внешний мир...
Так Я отделяется от внешнего мира. Вернее, первоначально Я включает в себя все, а затем из него выделяется внешний мир. Наше нынешнее чувство Я — лишь съежившийся остаток какого-то широкого, даже всеобъемлющего чувства, которое соответствовало неотделимости Я от внешнего мира...
С трех сторон нам угрожают страдания: со стороны нашего собственного тела... Со стороны внешнего мира, который может яростно обрушить на нас свои огромные, неумолимые и разрушительные силы. И, наконец, со стороны наших отношений с другими людьми. Страдания, проистекающие из последнего источника, вероятно, воспринимаются нами болезненнее остальных; мы склонны считать их каким-то изли-
[157]
шеством, хотя они ничуть не менее неизбежны и неотвратимы, чем страдания иного происхождения" [79, с.68-77].
Эта обширная цитата хорошо иллюстрирует базовые положения психоаналитической теории объектных отношений, в рамках которой получает свое объяснение взаимодействие человека с миром и другими людьми. Основы объектной теории сформулированы Фрейдом, а свое дальнейшее развитие она получила в работах Мелани Кляйн, Уинфреда Р.Байона, Михаэля Балинта, Дональда В. Винникотта, Отто Ф.Кернберга, Рене А.Спитца, Вильгельма Р.Д.Фэйрберна и многих других. Кроме того, в 40-е годы американский психиатр-психоаналитик Гарри Стэк Салливан предложил интерперсональный подход к пониманию природы психических расстройств как обусловленных прежде всего проблемами в отношениях с людьми.
Большинство психоаналитиков исходят из предположения о том, что все разнообразие отношений взрослого человека к людям в значительной степени обусловлено опытом ранних отношений ребенка с матерью (или, как у М.Кляйн, с материнской грудью). Безусловно, попытки некоторых исследователей воскресить в памяти пациентов столь ранние впечатления (будь то гипноидный анализ Дж-Франкла [69] или широко известные эксперименты Ст.Грофа), тем более — принимать полученные в гипнозе рассказы о форме материнского соска за достоверные факты*, особого доверия
В переведенной на русский язык книге Джорджа Франкла значится:
"Я разработал метод гипноид-анализа, дающий пациенту возможность вернуться к самому раннему периоду своей жизни и вновь пережить младенческие ощущения первых недель и месяцев своего существования. В состоянии внушенной регрессии пациент чувствует себя младенцем и нс только переживает младенческие ощущения, но и передает их звуками и движениями, характерными для этого возраста... Далее я разработал новую технику, которая помогала передавать довербальные ощущения младенца в речевую зону коры головного мозга и позволяла выразить их, таким образом, в форме речи. Взрослый пациент способен получать сигналы своих младенческих ощущений и передавать их словами" [69, с. 45]. Далее на нескольких страницах идут описания опыта взаимодействия 2-3-месячных младенцев с материнской грудью, якобы данные ими самими. Это куда похлеще не только переживаний, связанных с перинатальными матрицами, как они представлены у Ст. Грофа, но и отчетов НЛО-на-втов и прочих "межзвездных скитальцев".
[158]
не вызывают. Тем более наивно представлять себе широкий спектр отношений взрослого человека как состоящий из простых копий его первых детских опытов общения с людьми. И все же психотерапевту полезно иметь представление об основных стадиях развития объектных отношений и возможностях влияния этих паттернов на поведение и общение взрослого человека.
Объектным отношением в широком смысле этого термина называют отношение субъекта к миру в целом, а также к отдельным частям и аспектам окружающей действительности. Это способ восприятия реальности, основа для формирования эмоционального и когнитивного опыта личности, устойчивый порядок взаимодействия с другими людьми. В такой интерпретации объектные отношения выступают модусом целостной личности и могут использоваться в качестве единицы анализа ее активности. Тип или форма объектного отношения могут быть обусловлены стадией психосексуального развития (оральное отношение) или специфической психопатологией (нарциссическое отношение). В наиболее продвинутых теориях (у М.Кляйн, Г.С.Салливана) понятия "депрессивный" или "шизоидный" тип объектных отношений фиксируют оба эти признака, поскольку между фиксацией на той или иной стадии и психическим расстройством существует взаимосвязь.
В узком смысле слова объектные отношения — это отношения с другими людьми, особенно близкими и значимыми, родственниками и друзьями. На самом деле отношения с людьми являются главной сферой онтологизации, "овеществления" объектных отношений, так что реальные эмоциональные связи с другими и понимание их чувств, мыслей и мотивов поведения (проблема каузальной атрибуции, т.е. приписывание причин действиями и поступкам другого человека) чаще всего обусловлены двумя основными интенциями личности — проективной и возвратной.
Проективная реакция или собственно проекция, как уже было сказано в главе 2 (стр. 62), состоит в том, что другой человек рассматривается как вместилище, "сосуд"
[159]
для тех содержаний собственного бессознательного, которые стремятся вырваться наружу. Чаще всего это различные страхи, агрессивные и сексуальные импульсы. Если же содержание вытесненного обусловлено фрустрацией (например, тщательно скрываемая или латентная гомосексуальность), то используется возвратная реакция, и другой участник отношений рассматривается с точки зрения возможности удовлетворения фрустрированных желаний. Разумеется, сам он об этом ничего не знает.
Обе интенции совершенно бессознательны, они часто спутаны друг с другом и присутствуют у обоих участников. Чем больше рассогласованы взаимные ожидания, тем сильнее нарастает напряжение и усиливаются взаимные претензии. Число проекций и возвратных реакций увеличивается — стороны начинают "догадываться" о скрытых мотивах и осыпать друг друга оскорблениями и упреками. В такой ситуации (к сожалению, весьма типичной) возможность узнать, что в действительности думает партнер или чего он хочет, почти невозможно. Хотя для этого достаточно просто спросить, услышать ответ и поверить ему, а не своим бессознательным ожиданиям. Объектом психоаналитического анализа как раз и является разбор всей этой путаницы, после чего клиенту предлагают более эффективную модель межличностного общения, основанного на понимании и доверии Значимому Другому.
Объектные отношения в качестве фактора, определяющего социальные взаимодействия, принадлежат к сфере бессознательного. Их анализ удобнее всего начинать с понимания трансферентных отношений, поскольку терапевт в той или иной степени всегда выступает как заместитель или символический аналог матери или отца. Уже при первой встрече, на которой обычно обсуждаются ожидания клиента и его представления о том, в чем, собственно, будет заключаться психотерапевтическая помощь, можно выяснить, какой тип выбора объекта у него доминирует. Если клиент видит в аналитике помощника и защитника, пытается опереться на его знания и авторитет, рассматривает его как человека, у которого можно попросить сочувствия или совета, это указывает на аналитический (или
[160]
опорный) тип выбора объекта. Противоположный (нарциссический) тип выбора представлен в тех случаях, когда аналитик ценится клиентом в зависимости от сходства с собственной личностью. В этом случае пациент высоко оценивает моменты общности во вкусах и предпочтениях, активно интересуется внутренним миром терапевта, стремится к партнерству в отношениях и бывает сильно удивлен и разочарован тем, что последний не склонен занимать позицию его Я-идеала.
Мелани Кляйн, наиболее авторитетный теоретик в области исследования объектных отношений, полагает, что в основе их формирования лежит базальный конфликт между стремлением к удовольствию и стремлением к безопасности. С самого начала младенцу присущи два основных влечения: либидное и агрессивное, равновесие между которыми постоянно колеблется. Развивающееся Я (сознание) стремится овладеть влечениями и получать удовольствие от их удовлетворения в безопасных условиях. Материнская грудь, этот, по образному выражению Кляйн, "неограниченный источник молока и любви", является для младенца главным объектом, а мать — "всесильным существом, которое может избавить от любой боли и зла".
Однако далеко не всегда грудное кормление и материнская забота идеально соответствуют запросам ребенка. У матери может быть мало молока, или ребенку трудно сосать, а порой он захлебывается жидкостью. Мать может невольно оттолкнуть малыша, причинившего ей боль, она не склонна давать грудь во всех случаях, когда ребенок капризничает.
"В результате получается, что грудь, в виде психического представления, связанного с удовольствием и удовлетворением, оказывается любимой и ощущается как "хорошая"; поскольку же она является и источником фрустрации, она ненавидится и ощущается как "плохая". Этот сильный контраст между ''хорошей" и "плохой" грудью существует
[163]
благодаря недостаточной интегрированности Эго и процессам расщепления внутри него. Однако есть основания предполагать, что в течение первых 3-4 месяцев жизни ребенка "хорошие" и "плохие" объекты не полностью отделены друг от друга в его психике... Картина объекта, внешнего и переведенного во внутренний план, в психике ребенка сильно искажена фантазиями, тесно связанными с проекцией его импульсов на объект. "Хорошая" грудь — внешняя и внутренняя — становится прототипом всех полезных и удовлетворяющих объектов, "плохая" же грудь — прототипом всех преследующих и угрожающих объектов" [52, с.62, перевод отредактирован мною — Н.К.).
Таковы первичные формы объектных отношений, которые способен развить человек в течение жизни. Разумеется, спутанные представления о "плохом" и "хорошем" ведут к недифференцированным отношениям поглощения и отвержения (интроекции и проекции). Агрессия и зависть мешают младенцу установить стабильно позитивные отношения с хорошими объектами, тогда как чувства благодарности и любви формируют устойчивость к фрустрациям. Это способствует образованию сильного Эго, но главную роль в процессе развития личности играет мать. Хорошая мать может вмещать любые, сколь угодно агрессивные и деструктивные проекции младенца, не разрушаясь и не наказывая (не повреждая) его самого. Она стремится придать смысл любым действиям ребенка, демонстрируя когнитивную, интеллектуальную реакцию на его отрывочные и хаотические движения и помещая их тем самым в осмысленный контекст интерперсонального взаимодействия. Аналогичным образом ведет себя и психотерапевт, демонстрируя надежность и устойчивость, способность разъяснять любые, в том числе бессознательно-агрессивные импульсы клиента, направленные на разрушение терапевтического альянса.
Мелани Кляйн полагает, что психотерапевтические отношения во многом аналогичны ранним формам объектных. Так, начальные стадии развития переноса соответствуют описанной выше параноидно-шизоидной позиции, при которой клиенту трудно сформировать устойчивое отно-
[162]
шение к действиям и интерпретациям терапевта. Довольно часто случается, что удачные и конструктивные терапевтические действия сначала принимаются, а потом сразу же обесцениваются, так что объем выполненной работы увеличивается, а терапия не движется вперед. Иногда наблюдается иная картина. Так, одна из моих клиенток вполне адекватно воспринимала на сеансе аналитические интерпретации и догадки по поводу собственных проблем, а после этого настолько идеализировала их и меня саму, что следующую встречу приходилось более чем наполовину посвящать ее нереалистическому трансферентному отношению. Слушая разъяснения по поводу нарциссических идеализации, клиентка выглядела растерянной и смущенной и не могла понять, в чем ее вина — то ли она недостаточно меня ценит и восхищается моей работой, то ли сама она недостаточно хороша и не заслуживает моего внимания и заботы. Все это в конечном счете приводило к тому, что "очень полезные и такие проницательные" интерпретации терапевта оставались невостребованными — клиентка бессознательно считала, что они слишком хороши, чтобы ими можно было пользоваться.
Классическую картину параноидно-шизоидной спутанности демонстрировала пограничная клиентка с истерической организацией личности. Госпожа М. пришла на ознакомительный семинар по глубинной психологии и сразу привлекла внимание чрезмерным макияжем и не совсем адекватным поведением. Попытка работать с ней в группе обнаружила характерное для истерических личностей желание все время находиться в центре внимания. Она просто не позволяла другим участникам что-либо говорить и делать, а особенно сильное негодование выражала в тех случаях, когда не удавалось навязать другим свое понимание происходящего.
Процесс индивидуальной терапии клиентка начала с перечисления множества проблем и трудностей собственной жизни. Суммарная картина выглядела следующим образом: г-жа М. вышла замуж за человека, который оказался законченным эгоистом, не желал материально
[163]
обеспечивать семью, не любил своего сына, бил его, а жену сделал инвалидом. Он чудовище, настоящий монстр, которого клиентка, тем не менее, не хочет оставлять и боится, как бы он не ушел по собственной инициативе. Чуть позже оказалось, что г-жа М. вышла замуж "назло" человеку, который не ответил взаимностью на ее чувство, а мужа она совсем не любила. Сын, "этот несчастный ребенок", буквально через три-четыре фразы тоже превращался в главную жизненную обузу, неблагодарного, упрямого лентяя.
Вот характерный пример работы с госпожой М.:
К: Я думаю, главной причиной всех моих проблем с мужем является отношение к мужчинам вообще. Я их всех ненавижу. Дело в том, что в детстве у меня было две попытки изнасилования, причем вторая была оправданной.
Т: Была оправданной? Вы дали повод к этому?
К: Да нет, я имела в виду, что она была состоятельной...состоявшейся то есть... Это осуществилось.
Т: Мы говорили на занятиях о том, какое значение придает психоанализ оговоркам и речевым ошибкам. Кроме того, Вы начали фразу с оборота "да нет", маркера скрытой амбивалентности.
К: Как Вы не понимаете! Я просто ошиблась, оговорилась, вот и все.
Т: Но эту фразу следует интерпретировать как признание в том, что Вы в какой-то степени спровоцировали происшедшее.
К: Ничего подобного!
В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что насильник преследовал госпожу М. в течение длительного времени, она "дразнила" его, а затем "совершенно случайно" оказалась полураздетой в общежитии, где на этаже не было ни одного человека. Дверь комнаты тоже была почему-то не заперта... и так далее. Ее поведение было в высшей степени виктимным36, но г-жа М. упорно сопротивлялась интерпретациям и не хотела признавать очевидные вещи.
Т: Хорошо, давайте обсудим первый случай, который произошел в детстве.
[164]
К: Мне было десять лет, и старик сосед, слепой, которому я читала, неожиданно попытался меня повалить на кровать. Я убежала, сильно испугалась. Просто удивительно, как я догадалась, что он хотел от меня чего-то нехорошего. Я дома несколько часов проплакала. А мать даже не спросила, почему, а когда я ей рассказала, не поверила мне, стала на меня кричать, вместо того, чтобы защитить. И снова заставляла идти к нему на другой день, но я уперлась и не пошла. Только тогда она поверила. Разве это не ужасно? До сих пор не могу ей этого простить.
Т: Раньше Вы говорили, что у Вас прекрасные отношения с матерью, что она — единственный человек, который Вас понимает и любит.
К: Ну да. Знаете, она просто не поверила, что такое могло случиться, не могла себе представить.
Т: Вы прибежали домой испуганная, долго плакали...
К (перебивая): У меня была просто истерика!
Т: Странно. Десятилетняя девочка прибегает домой вся в слезах, в истерике, а мать не обращает на это никакого внимания.
К: Ну, как Вам сказать... Просто ее дома не было. Видно, уходила куда-то.
Т: Но потом, когда вернулась, она увидела, что дочка не в себе, глаза от слез припухли...
К: Ну... Она вечером пришла, поздно, ей было не до меня.
Т: Но Вы рассказали матери о том, что случилось?
К: Нет, я не рассказала. Я на другой день только рассказала, когда меня снова туда хотели послать.
Т: И тогда мать поверила Вам и разрешила не ходить к соседу?
К: Ну...да... Но сначала не поверила.
Т: Сначала не поверила, а потом поверила?
К: В первом разговоре — нет, стала кричать, что я глупости придумываю.
В этот момент я осознала свой контрперенос — мне тоже захотелось, чтобы госпожа М. перестала придумывать глупости и сопротивляться не только интерпретациям, но
[165]
хотя бы признанию очевидных, ею же самой рассказанных фактов. Кричать я не стала, а продолжала расспрашивать клиентку.
Т: Значит, все-таки было два разговора?
К: Нет, один.
Т: Но перед этим Вы утверждали противоположное.
К: Ну, значит, два. Какая разница, в конце концов!
Т: Я хочу понять, насколько обоснован Ваш упрек, адресованный матери. Действительно ли она не поверила в этот страшный случай и не защитила Вас.
К: Как это не защитила! С чего Вы взяли? Мать меня любит, я — поздний, желанный ребенок, она всегда была на моей стороне. Вы меня совершенно неправильно поняли!
Т: Но Вы только что рассказывали, как она не поверила, что старик-сосед к Вам приставал...
К (перебивая, изменив агрессивные интонации на слезливые): Ничего подобного! Я просто рассказала, как меня в детстве чуть не изнасиловали, а Вы не верите.
Т: Мы можем сейчас прослушать аудиозапись этого разговора.
К: Нет, не нужно. Может, Вам просто так показалось. Знаете, у меня в результате опухоли мозга болезнь Миньяра, и когда говорят несколько голосов, я плохо разбираю Ваши вопросы.
Т: Но нас только двое в кабинете.
К: И вообще... Какое все это имеет значение? Давно дело было.
Т: Но это действительно важно. И потом, Вы сами сказали, что это событие сильно повлияло на Вас, на Ваше отношение к мужчинам.
К: Вот-вот, а Вы меня про мать спрашиваете.
Т: Просто Ваше отношение ко мне и к анализу такое же двойственное — Вы ждете от меня помощи и в то же время обвиняете в нечуткости, в недоверии. Вы в какой-то степени перенесли на меня чувства, которые испытываете к своей матери.
[166]
К: Ничего подобного! Я люблю мать и благодарна ей за все, что она сделала.
Т: Чуть раньше Вы говорили, что не можете простить матери того, что...
К (перебивая, истерично вскрикивая): Ничего я такого не говорила и сказать не могла! С чего Вы так решили? Вы мне просто не верите, ни про первый случай, ни про второй!
Т: В Вашем рассказе очень много противоречий.
К: Просто Вы мне не верите, как и все, с самого детства!
Как видно из этого примера, поведение госпожи М. полностью соответствует картине, обрисованной Мелани Кляйн:
"Пациенты отщепляют завистливые и враждебные части себя и постоянно предъявляют аналитику те аспекты, которые они считают более приемлемыми. Другие пациенты избегают критиковать аналитика, погружаясь в состояние спутанности. Эта спутанность — не только защита, но и проявление неуверенности в том, останется ли аналитик такой же хорошей фигурой, или и он сам, и та помощь, которую он предоставляет, станут плохими из-за враждебной критики пациента. Эту неуверенность я вывожу из тех чувств спутанности, которые являются последствиями нарушений самых ранних отношений с материнской грудью. Младенец, который благодаря силе параноидных и шизоидных механизмов и остроте зависти не может разделить и успешно сохранить в отдельности любовь и ненависть и, следовательно, хороший и плохой объекты, склонен чувствовать спутанность между хорошим и плохим и в других обстоятельствах" [31, с. 23].
Проработка параноидно-шизоидной позиции заняла долгое время. Г-жа М. постепенно научилась не обесценивать терапевтическую работу, однако разрушительные тенденции в переносе время от времени продолжали возникать.
Следующая стадия развития объектных отношений называется депрессивной. Кляйн. считает главным итогом этого периода способность младенца справляться с трево-
[167]
гой, подготавливающую его к противоречиям и сложностям эдипова комплекса. Ребенок учится адекватно реагировать на внешнюю агрессию (понимание смысла наказаний), обретает способность переносить негативную стимуляцию или отсутствие позитивной, усваивает представление о том, что путь к удовлетворению влечения не всегда пролегает по линии наименьшего сопротивления. Переход (преодоление) депрессивной позиции включает в себя чувство благодарности, обусловленное способностью к любви, а не виной. Это связано с формированием представления об устойчиво "хорошем" объекте, которое потом служит основой интеграции чувства собственного Я.
Принято считать, что преодоление порога депрессивной позиции позволяет субъекту проводить четкое разграничение между собой и миром в любых эмоционально окрашенных ситуациях. Если же такого преодоления не произошло, то утраты, которые переживает человек на протяжении жизни, он воспринимает как разрушение собственной личности и потерю важных частей собственного Я. В работе "Печаль и меланхолия" (1917) Фрейд, описывая отличия обычной скорби от депрессии, говорит о величественном оскудении Я: "При скорби мир становится бедным и пустым, при меланхолии же таким становится само Я. Больной изображает свое Я мерзким, ни на что не способным, аморальным, он упрекает, ругает себя и ожидает изгнания и наказания" [81, с. 253].
Утрата объекта, равнозначная разрушению Я, приводит к невозможности смириться с потерей, пережить ее и жить дальше. Фактически Я, рассматривающееся как потерянный объект, чувствует себя одновременно плохим (недостойным любви), виноватым (заслуживающим наказания) и ущербным (неспособным привлечь и удержать любимый объект). Особенно тяжелыми бывают случаи, в которых Я с самого начала не обладало объектом, не находилось с ним в реальных отношениях, замещая последние иллюзиями неразделенной любви. У моей клиентки К. тяжелое депрессивное состояние наступило после того, как она набралась смелости объясниться в любви своему избраннику. Госпожа К. имела несчастье влюбиться
[168]
в одного из своих молодых коллег, привлекательного юношу, пользовавшегося большим успехом у женщин.
Почти год г-жа К. провела в мечтах и фантазиях, которые их объект прервал резко, в одночасье. Госпожа К., бывшая к тому времени одиннадцать лет во вполне благополучном браке, мать двоих детей, стала последовательно разрушать свою семью. На терапии она объяснила, что не заслуживает счастья, не имеет права обманывать своего мужа и должна быть наказана. Потеря объекта не привела к разрыву воображаемых отношений с ним, поскольку г-жа К. собиралась заполнить свою жизнь знанием того, что возлюбленный счастлив (с другими женщинами), а раз так — понимание этого поможет ей жить в одиночестве. Клиентка не только активно фантазировала о любви, которую она прочла в глазах объекта своего чувства, но и вела долгие телефонные беседы с подругами на тему того, какие "роковые" обстоятельства не позволяют ему "открыться".
Еще одна форма депрессивной травмы связана с чрезмерной тревогой и страхами разрыва объектных отношений. "Столкнувшись со множеством ситуаций тревоги, — пишет М.Кляйн, — Эго стремится отрицать их, а когда тревога достигает наивысшего предела, Эго даже отрицает факт того, что оно вообще испытывает любовь к объекту. Результатом может стать длительное подавление любви" [52, с. 77]. Такое часто случается с подростками, тревожными в сфере межличностных отношений. Отрицая чувство любви, они ведут вызывающе агрессивно по отношению к объекту своей любви, получают в ответ пренебрежение или отвержение и критику, убеждаются в отсутствии ответных эмоций и расширяют это переживание до невозможных пределов, считая себя абсолютно непривлекательными, а других людей — неспособными любить.
Многие психоаналитики полагают, что главную роль в преодолении депрессивных и параноидно-шизоидных страхов в раннем детстве играют так называемые обсессивные механизмы или навязчивые действия. С их помощью ребенок сдерживает тревогу, а его Я усиливается и крепнет. Многократно повторяемые фразы, движения и
[169]
действия (желание много раз слушать одни и те же сказки и истории, стереотипные игры, привычные, неукоснительно соблюдающиеся ритуалы одевания, купания, отхода ко сну и т.п.) вселяют уверенность, дают чувство стабильности мира и собственного Я. В дальнейшем во взрослой жизни люди склоняются к навязчивым ритуалам всякий раз, когда их отношения с окружающими далеки от благополучия.
Дети и взрослые, слишком часто прибегающие к обсессивным защитам, не могут эффективно справляться с тревогами психотической природы. Слишком сильные чувства вызывают у них ощущение вины, а навязчивость становится эффективной формой контроля влечений. Как правило, у навязчивых невротиков сформировано жесткое, ригидное Супер-эго с ярко выраженными наказующими и запрещающими функциями. Человек, строящий объектные отношения по навязчивому типу, испытывает разнообразные трудности в общении из-за "ненадежности и непредсказуемости" своих партнеров. Уверенность в себе у такой личности невысокая, и это находит отражение в социальной сфере.
Примером может служить случай господина Л. Этот серьезный и добросовестный молодой человек обратился за помощью в связи с неудовлетворительным развитием отношений со своим научным руководителем (Л. учился в аспирантуре, но в последний год был приглашен на должность штатного сотрудника университета и заканчивал работу над диссертацией параллельно с началом преподавательской деятельности). Г-н Л. жаловался, что никак не может представить окончательный вариант текста диссертации, из-за чего руководитель недоволен и стыдится его как одного из худших своих учеников. Господин Л. выглядел печальным и удрученным, в его речах было много самокритики. Однако его опасения и страхи были чрезмерными даже на первый взгляд.
Руководитель г-на Л. был моим хорошим знакомым, мы часто обсуждали с ним профессиональные вопросы, и я точно знала, что дело обстоит совсем не так. Руководитель считал его исполнительным и добросовестным и
[170]
время от времени ставил в пример другим сотрудникам. Как-то он упомянул, что господин Л. трижды приносил ему варианты первой главы диссертации, каждый из которых по объему намного превышал норму. Кроме того, коллега говорил о Л. как об одном из самых надежных своих помощников и был инициатором его приглашения на штатную должность.
Когда я стала расспрашивать клиента о конкретных неурядицах с руководителем, быстро выяснилось, что их большая часть на самом деле является предположениями и опасениями. Господин Л. не смог привести конкретных примеров недовольства и критики и подтвердил мои слова о том, что руководитель высказывает ему скорее одобрение, чем неприятие. Наш разговор складывался так:
Т: В чем конкретно упрекает Вас Леонид Петрович?
К: Ну, как Вам сказать... Я все никак не закончу свою диссертацию. Застрял на третьей главе. Точнее, на первой.
Т: Как это?
К: Да я никак не могу ее оставить, все время переделываю. Хотя давно пора писать все остальное. Леонид Петрович как-то сказал, что он не переживет, если я снова принесу ему 200 страниц первой главы. Понимаете, я написал страниц 80, а он сократил больше чем наполовину и сказал, что этого вполне достаточно. Но я хотел сделать лучше, стал ее совершенствовать — и опять получилось около ста страниц. Он прочел и заметил, что этот вариант хуже. Я снова переделываю, и объем все увеличивается.
Т: А почему Вы не работаете над следующими разделами?
К: Хочется сделать лучше.
Т: Но ведь руководитель уже одобрил написанное Вами, когда сократил Ваш текст.
К: Ну да. Но, я думаю, он недоволен тем, как я работаю. Я все так затянул. Мне кажется, Леонид Петрович не считает меня по-настоящему способным.
Т: Он говорил или намекал на это?
К: Нет, но... Я сам чувствую, что делаю не то.
Т: А как Вы относитесь к Леониду Петровичу?
[171]
К: Я его очень уважаю. И боюсь, знаете, боюсь что я не то делаю, и медленно слишком.
Т: Он суровый человек? Жестко с Вами разговаривает?
К: Да нет, наоборот скорее. Часто шутит и подбадривает меня.
Т: Давайте обобщим все это. Получается, все то, что Вас страшит и огорчает, — большей частью Ваши предположения, так ведь? Леонид Петрович не столько Вами недоволен, сколько Вы думаете, что это так?
К: Гм... Мне это и в голову не приходило.
Как видно из этого фрагмента, проблема господина Л. состоит в сильной тревоге по поводу своих действий и отношений со значимым лицом. Желание выполнять свои обязанности как можно лучше привело к навязчивому стремлению без конца переделывать то, что уже сделано, и превратилось в объективное препятствие. Дальнейшая терапевтическая работа с г-ном Л. была сосредоточена вокруг его мнительности и неуверенности в себе. Она принесла видимые результаты — через какое-то время его руководитель отметил, что отношения с Л. стали приносить ему больше удовольствия: "Этот парень перестал меня бояться. С ним теперь приятно поговорить, он не дергается так из-за своей работы, даже стал понимать шутки. А то раньше я мог его только хвалить — правда, было за что. Я могу больше не заниматься тотальной профилактикой и перестал постоянно объяснять ему, что с ним все в порядке".
5.3. Д.В.Винникотт и М.Малер: мать и дитя
Представления М.Кляйн о ранних стадиях развития взаимоотношений постепенно дополнялись другими психоаналитиками британских школ. Экспериментальные исследования и многочисленные клинические наблюдения позволили выделить и описать характерные модели (паттерны) поведения матери и младенца, на основе которых складывается в дальнейшем стиль общения и поведения взрослой личности.
[172]
Особенно значительный вклад в проблему раннего генезиса объектных отношений внес Д.В.Винникотт, врач-педиатр, ставший крупнейшим авторитетом в области психоаналитического понимания младенчества. Вместо оценки влияния "хорошего" и "плохого" грудного вскармливания он использует понятие "холдинг"37 — материнская забота и поддержка. Именно забота и преданность матери, чутко реагирующей на все нужды ребенка, хорошо понимающей его желания и страхи, является, по Винникотту, ведущим фактором развития отношений. В отношениях холдинга складывается первое ощущение собственного Я:
"Все элементы, частицы ощущений и действий, формирующие конкретного ребенка, постепенно соединяются, и наступает момент интеграции, когда младенец уже представляет собой целое, хотя, конечно же, в высшей степени зависимое целое. Скажем так: поддержка материнского Я облегчает организацию Я ребенка. В конечном счете, ребенок становится способным утверждать свою индивидуальность, у него даже появляется чувство идентичности... Мать идентифицируется с ребенком чрезвычайно сложным образом: она чувствует себя им, разумеется, оставаясь взрослым человеком. С другой стороны, ребенок переживает свою идентичность с матерью в моменты контакта, являющиеся скорее не его достижением, а отношениями, которые стали возможны благодаря матери. С точки зрения ребенка, на свете нет ничего, кроме него самого, и поэтому вначале мать — тоже часть ребенка. Это то, что называют первичной идентификацией" [10, с.13].
Обеспечивая первичную поддержку, мать выполняет эту функцию естественно и просто. Она, пишет Винникотт, буквально поддерживает окружающее младенца пространство, заботясь, чтобы мир "не обрушился" на него слишком рано или слишком сильно. Неуверенные в себе, тревожные или депрессивные матери не способны обеспечить такую поддержку, и ребенок может пронести свое раннее ощущение "шаткости" окружающего мира и отношений с близкими через всю дальнейшую жизнь. У описанной мною ранее клиентки (госпожа Б.) эта проблема была, по-видимому, основополагающей. С самого начала работы я интуитивно чувствовала необходимость
[173]
оказывать такую поддержку, однако г-жа Б. имела в ней ненасыщаемую потребность. Еще больше, чем поддержку, она ценила априорное восхищение собственным Я, причем "масштаб личности" того, кто воспринимал ее идеализированно, большого значения не имел.
В отношениях с людьми госпожа Б. проявляла не только выраженную потребность в поддержке и восхищении, но и своеобразную ревность к тем, кто выглядел иначе благодаря "хорошему старту", обеспеченному материнской заботой. Так, после совместной работы с устойчивым, уверенным в себе коллегой г-жа Б. высказала множество похвал в его адрес (он-де и компетентный, и умелый, и не теряется в трудной ситуации). В то же время она всячески обесценивала его как мужчину, с жаром доказывая, что в ее чувствах нет ничего трансферентного, а коллегу в этом качестве она "просто не воспринимает". Более того, г-жа Б. искренне полагала, что именно так (внешне непривлекательным и асексуальным) его видят и остальные женщины, и была немало удивлена тем, что ее оценка оказалась столь субъективной.
Холдинг или первичная поддержка матери — важный фактор психического развития и становления отношений в раннем детстве. В своих работах Винникотт описывает так называемую достаточно хорошую мать (good enough mother) — спокойную, заботливую, разумную и любящую, обеспечивающую, наряду с безопасностью и комфортом, возможность объектного удовлетворения. Такая естественная материнская способность складывается на основе специфической "одержимости" новорожденным ребенком: в большинстве случаев первый месяц мать полностью поглощена своим младенцем и практически игнорирует окружающий мир. Это состояние называется "первичной материнской озабоченностью" и представляет собой естественную адаптивную реакцию женщины.
Позднее для лечения детского аутизма38 на основе данных представлений была разработана холдинг-терапия — своеобразная имитация ранней фазы отношений младенца с матерью. Процедура такова: мать нежно, но крепко прижимает раздетого ребенка к своей обнаженной груди
[174]
и, не выпуская из объятий, говорит ему о своей любви, напевает ласковые песенки, укачивает и т.п. При этом важно сохранять постоянный контакт глаз. Ребенок поначалу яростно сопротивляется и стремится вырваться, но постепенно устает и затихает у матери на руках. Эта своеобразная регрессия к началу младенчества приносит хорошие результаты в работе с детьми в возрасте 5-10 лет.
Достаточно хорошая мать в процессе ухода за младенцем и общения с ним создает потенциальное пространство для развития его объектных отношений. Она знакомит малыша с новыми объектами (пищей, игрушками, живыми существами), сообразуясь с его желаниями и возможностями. Это пространство, указывает Винникотт, становится источником образования связей между ребенком и объектами. В нем осуществляется взаимодействие внешнего и внутреннего, реализуется способность к символической игре, творческому и эстетическому восприятию действительности. Блестящее описание такого материнского поведения приводит Маргарет Мид в своей работе "Пол и темперамент в примитивных обществах"39:
''Когда маленький ребенок лежит на коленях матери, согретый и сияющий от ее внимания, она закладывает в нем доверие к миру, дружественное восприятие пищи, собак, свиней, людей. Она держит кусочек таро (тропическое овощное растение — Н.К.) в руке и, пока ребенок сосет грудь, повторяет нежным, певучим голосом: "Хорошее таро, хорошев таро, съешь его, маленький кусочек таро". А когда ребенок на мгновение выпускает грудь, она кладет ему в рот кусочек таро. В это время собака или поросенок суют свой вопрошающий нос под руку матери. Их не отгоняют, кожа ребенка и шерсть собаки соприкасаются, а мать нежно поглаживает их обоих, бормоча: "Хорошая собака, хороший ребенок, хорошие, хорошие" [с. 262].
Для объяснения того, как у ребенка формируется способность к самостоятельному, отделенному и отдельному от матери существованию, Д.В.Винникотт вводит понятие переходного объекта. Так называется любая вещь, которую младенец ценит и любит, поскольку с ее помощью справляется ситуациями, когда мать уходит и оставляет
[175]
его в одиночестве. Он сосет пеленку или собственный палец, прижимает к себе край одеяла и т.п. "Переходный объект, — указывается в авторитетном психоаналитическом словаре, — это момент подступа к восприятию объекта, строго отграниченного от субъекта, и к собственно объектному отношению, однако его роль не упраздняется с развитием индивида. Переходный объект и переходные явления изначально дают человеку нечто такое, что навсегда сохраняет для него значение, они открывают перед ним нейтральное поле опыта" [37, с.294].
Такие объекты (наряду с переходным, Винникот и его ученица Р. Гаддини описали также предшествующий объект, связанный с первым опытом тактильных и вкусовых ощущений — им может быть пустышка, собственные пальцы или волосы ребенка и т.п.) не только помогают младенцу комфортно переносить отсутствие матери, но и служат опорой развития его представлений о внешней реальности. На взрослой стадии развития объектных отношений характеристики переходных объектов часто определяют индивидуальный выбор и предпочтения личности. Их символические характеристики могут воспроизводиться в широком контексте социально значимых ситуаций.
Иногда из-за различных нарушений раннего детско-родительского взаимодействия переходный объект становится абсолютно необходимым, приобретая статус фетиша. Филлис Гринейкр пишет, что при этом объекты утрачивают свои здоровые (способствующие развитию) качества и становятся "клочками" Самости или образа тела ребенка. Во взрослом возрасте поиск объекта-фетиша и взаимодействие с ним приобретают навязчивый (компульсивный) характер и часто включаются в структуру психической патологии.
Винникотт полагает, что переходный объект является лиминальным (пороговым) феноменом, сочетающим в себе функции внутренней и внешней реальности. Он структурирует опыт, связанный с соответствующими переживаниями, в которых причудливо переплетаются индивидуальные фантазии и групповые нормативные предписания (религиозные чувства, восприятие произведений
[176]
искусства, понимание архетипической символики и т.п.). Можно предполагать, что переходный объект символизирует переход от Воображаемого регистра психики к Символическому (см. об этом в следующей главе).
Маргарет Малер сосредоточила свое внимание на том, как младенец постепенно освобождается от материнской опеки. Процесс разделения/индивидуации, в результате которого ребенок становится автономным и независимым, она назвала "психическим рождением человека" [117]. Разделение Малер рассматривала не как установление пространственной дистанции (самостоятельная ходьба и т.п.), а как развитие способности быть (играть, радоваться, удовлетворять потребности) независимо от матери. Индивидуация же — это восприятие собственной уникальности и попытка ребенка выстроить свою идентичность не как отдельного (отделенного) от матери, а как непохожего, отличного от нее.
Малер выделила четыре стадии процесса разделения/индивидуации. Начальная фаза — дифференциация — наступает в возрасте 4-5 месяцев и связана с первыми попытками младенца изучать окружающий мир, опираясь на одобрение и поддержку матери. Так, он тянется к различным предметам или к другим людям, но поощряющая улыбка или запрещающий возглас матери влияют на это поведение. В первом случае младенец продолжит знакомство с объектом, во втором — расплачется и вернется к маме.
Вторая стадия — фаза практики, она связана с прямо-хождением. "Ребенок обретает способность уходить от матери и возвращаться к ней, исследует все более расширяющийся мир и знакомится с переживанием физической разлуки и ее психологическими последствиями" [117, с. 132]. Третья стадия — воссоединение (rapprochement) — характеризуется выраженной амбивалентностью ребенка. Он уходит и возвращается, капризничает, присутствие матери далеко не всегда снимает напряжение и тревогу. Малер полагала, что первые самостоятельные действия и поступки ребенка приводят к осознанию своей беспомощности, а уверенная и компетентная мать вызывает двойственное чувство восхищения и зависти. На этой
[177]
стадии формируется первичная способность разрешать противоречия между отстраненностью, потребностью в уединении, и желанием близости. Дети, которые "плохо справились" на стадии воссоединения, вырастая, могут испытывать тревогу в ситуациях, связанных с регулированием дистанции между собой и другими людьми.
Четвертая стадия — стадия постоянства объекта. Она связана со способностью и умением ребенка самостоятельно регулировать эмоциональные переживания, возникающие в связи с отсутствием любимого объекта. Малер говорит о постоянстве "внутреннего объекта" (воспоминания или образа) который может быть лучше реального и служить утешением и поддержкой. Внутренний объект, соединяя в себе желание и представление, обеспечивает устойчивое отношение к людям, которые бывают то добрыми и любящими, то агрессивными и сердитыми. Личность, страдающая от неумения переживать неприятные черты или поведение близких и любимых людей, являет собой пример проблем этой стадии.
Британские психоаналитики весьма подробно исследовали детско-родительское взаимодействие. Так, У.Р.Бион описал проективный характер отношений ребенка с матерью. По его мнению, в общении с младенцем мать выполняет функции своеобразного "контейнера" — она вбирает непонятные и вызывающие тревогу переживания и чувства, делает их осмысленными и безопасными и возвращает по назначению. Такое контейнирование широко используется в терапевтическом анализе: подобно матери, психотерапевт разумно и спокойно интерпретирует направленные на него и во внешний мир проекции клиента, избавляя последнего от безотчетного страха и бессознательной вины.
Р.Спитц исследовал генезис тревожности, связанной с приближением к ребенку незнакомого человека. У.Р.Фэйрберн описал три стадии развития объектных отношений, в основании которых лежит видоизмененная зависимость от матери.
Первая из них — стадия инфантильной зависимости — определяется абсолютной зависимостью младенца от
[178]
ситуации кормления и материнской груди. Она всецело нарциссична, тогда как следующая, переходная стадия псевдонезависимости, допускает существование внутренних (интернализованных) объектов. Ребенок может их различать, принимать или отвергать. Наконец, на стадии зрелой независимости достигается полное разделение Я и объекта. Формируются отношения "брать и давать", путем взаимодействия с внешними объектами индивид развивает кооперативное поведение, которое в дальнейшем выступает как прототип взрослых объектных отношений.
Психоаналитические исследования ранних форм объектных отношений не только обогатили детскую психологию, но и внесли существенный вклад в развитие аналитических техник. Идея М. Кляйн относительно того, что в анализе воспроизводятся и повторяются отношения матери и младенца, оказалась очень плодотворной. С этой точки зрения получили объяснение многие аспекты переноса и контр-переноса, феномен негативной терапевтический реакции, различные формы регрессии и т.д.
В моей собственной практике структурирование терапевтических отношений по типу ранних отношений с матерью встречалось достаточно часто. Как правило, молодые люди (в возрасте до 25 лет) чувствуют себя в них совершенно естественно, а клиенты постарше демонстрируют амбивалентное отношение: они смущаются и тревожатся при проявлении и осознании собственных инфантильных реакций, и в то же время агрессивно реагируют или уходят в себя в тех случаях, когда поведение аналитика расходится с "материнской" моделью. Соответствующие интерпретации существенно облегчают установление терапевтического альянса.
[179]
5.4. Развитие теории объектных отношений
Развитие теории объектных отношений позволило прояснить множество аспектов того, как у детей и взрослых складываются взаимоотношения с себе подобными, как формируется система социальных связей индивида, а также выделить и описать различные формы деструктивного и патологического взаимодействия людей. Особенно велико значение объектной теории для терапии очень нарушенных пациентов, страдающих от тяжелых форм психических и личностный расстройств. Большинство глубинных психологов считают, что высокая степень психических нарушений связана с расстройством ранних стадий объектных отношений. Так, Анна Фрейд полагает, что шизоидная и шизофреноподобная симптоматика развивается у лиц, чье психическое развитие остановилось на стадии детского аутизма, тогда как расстройство симбиотических отношений с матерью может приводить к тяжелым формам депрессии.
Мелани Кляйн связывает с объектными отношениями два основных типа тревоги, которую может переживать личность, Персекуторная тревога (страх преследования, боязнь враждебного отношения со стороны окружающих) развивается у людей, для которых характерна описанная выше параноидно-шизоидная спутанность, а депрессивная тревога (страх потери любимого объекта) свойственна тем, кто не сумел сформировать представления о позитивном и устойчивом собственном Я (описанное выше преодоление депрессивной позиции). В первом случае человек не умеет отделять позитивные и хорошие черты и свойства от негативных, и испытывает сильный страх того, что объект (возлюбленная, начальник, приятель) в любую минуту может стать враждебным, агрессивным. Отношения с людьми выглядят пугающими в силу непредсказуемости поведения последних. Если же субъект не уверен в том, что заслуживает внимания, одобрения и любви, ему трудно ответить взаимностью на симпатию
[180]
другого человека. С другой стороны, разрыв отношений оказывается совершенно невыносимым — депрессивная личность винит себя в каждой утрате и обесценивает собственное Я во всех случаях, когда имеется хотя бы малейшее подозрение, что партнер предпочел другого.
Интересную дихотомию базовых типов объектных отношений предлагает М.Балинт. В работе "Трепет и регрессия" [103] он вводит понятия окнофилии, означающей потребность держаться за надежный, устойчивый объект, гарантирующий защиту и безопасность, и филобатии40 — радости от оставления объекта, "трепета наслаждения, смешанной тревоги и удовольствия", который испытывает личность в пустом, лишенном объектов, но дружественном (не враждебном) пространстве.
Окнофил — это человек, который нуждается в прочных, устойчивых отношениях с объектом. Ему нужно держаться за что-то надежное, чтобы чувствовать себя в безопасности. Первоначально такую зону комфорта обеспечивает любящая и заботливая мать. Покидая ее, ребенок ощущает беспомощность и тревогу, а возвращаясь — успокаивается. Мир окнофила, по Балинту, состоит из объектов, разделенных устрашающе пустыми пространствами. Во время перехода от объекта к объекту окнофил испытывает страх, и такое же иссушающее предчувствие охватывает его вблизи любимого объекта — страх утраты, страх оказаться брошенным и покинутым.
Филобат не боится покинуть объект, он получает удовольствие от перемещения в пространстве человеческих отношений. Такой человек уверен в себе, он может свободно приходить и уходить, радуясь встрече и не особенно печалясь из-за расставания. Поэтому филобат отчасти ведет себе как нарциссический ребенок, его "героическое" поведение вдохновляется, по Балинту, инфантильной уверенностью в том, что все закончится хорошо.
В реальном человеческом поведении окнофилические и филобатические черты смешаны, в различных ситуациях могут преобладать то одни, то другие импульсы. Источником межличностных проблем являются крайности или одностороннее развитие черт. Так, у окнофила навяз-
[181]
чивое желание безопасности приводит к тому, что ближайшее окружение оказывается вынужденным удерживать его, заранее отвечая "да" на невысказанную мольбу о любви. А такая ситуация почти всегда чревата унижением. Во всех иных случаях он страдает и, кроме того, отказывается признать самостоятельность объектов — право других на свободу выбора.
Проблемы окнофила связаны с представлением, что люди, в которых он нуждается, сами по себе надежны, могущественны и всегда обеспечивают безопасность. Окнофил путает свои потребности с объективными характеристиками социального окружения и, кроме того, страдает от скрытой амбивалентности. Он нуждается в объекте, который избавляет от страха. Но поскольку окнофил стыдится и презирает себя за слабость, то может переместить эти чувства на объект и начать презирать его, не переставая любить — ведь он по-прежнему доверяет и надеется. Такое двойственное отношение к любимому человеку встречается достаточно часто.
У филобата проблемы возникают в связи с выраженным окнофилическим отношением партнера. Независимо от этого он может сталкиваться с упреками в неверности, ненадежности, холодности и черствости. Филобатическое предпочтение безобъектного пространства нередко выглядит обыкновенным эгоизмом. Любитель "ходить по краю" родственных и дружеских привязанностей рано или поздно рискует сделать шаг за грань и остаться в полном одиночестве.
Американский психоаналитик Филлис Гринейкр рассматривает формирование чувства собственной идентичности как процесс, всецело зависящий от развития объектных отношений. По ее мнению, сознавание собственного Я развивается через понимание того, как его представляют и оценивают другие люди. Дети и взрослые присваивают, интроецируют образ собственной личности, складывающийся у значимых и близких. Другие авторы, например, Теодор Рейк и Джозеф Сандлер, полагают, что объектные отношения влияют прежде всего на формирование Супер-эго. Отто Кернберг на основе интегра-
[182]
ции ряда объектных теорий разработал эффективную систему психотерапевтической помощи пограничным и психотическим пациентам.
5.5. Объектные отношения и Самость
Хайнц Кохут выделил и описал специфический тип объектных отношений, непосредственно участвующий в формировании Я. Самость, личностное Я41, понимаемое в широком смысле как естественная подлинная сущность конкретного индивида, нуждается во внешних объектах, с помощью которых развивается и переживает свою целостность. Сэлф-объекты — это люди из ближайшего окружения ребенка (чаще всего мать и отец), удовлетворяющие его потребности в личностном росте. Таких потребностей, по мнению Кохута, три: грандиозно-эксгибиционистская (желание младенца ощущать свое величие и совершенство, потребность в том чтобы родители "отражали" это величие как в зеркале, восхищаясь ребенком, подчеркивая, что он самый лучший, самый умный, самый красивый и вообще самый-самый); потребность в идеагьном имаго (идеализированном родительском образе, во всемогущих и никогда не ошибающихся маме и папе) и потребность в альтер-зго (в том, чтобы быть похожим на других, в схожести с окружающими)*.
Кохут пришел к выводу, что развитие объектных отношений личности и развитие ее сущностного ядра (сэлф) совпадают лишь относительно, и в некоторых случаях оба направления конкурируют друг с другом. Используя фрейдовские представления об ограниченном количестве энергии либидо у отдельного индивида, можно сказать, что, чем больший объем энергии направляется на объектные отношения, тем меньше ее остается для нарциссических состояний и переживаний. Зрелая здоровая лич-
* Более подробное описание этих потребностей и динамики личностного развития при их фрустрации можно найти в прекрасной, просто написанной книге М. Кана "Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения" [25].
[183]
ность находится скорее в объектной зависимости, нежели в состоянии нарциссизма. Последний, однако, необходим для развития Самости.
Нарциссизм у Кохута — естественный и нормальный процесс, посредством которого либидо "вкладывается" в развитие Самости. Эта часть психической энергии, называемая нарциссическим либидо, используется как для личностного роста, так и для взаимодействия со значимыми другими, удовлетворяющими сэлф-потребности. Развитие Самости во многом определяется интернализацией (усвоением) связей с людьми, обеспечивающими любовь, поддержку, принятие, позитивную самооценку.
В раннем детстве нормальное развитие могут обеспечить лишь хорошие сэлф-объекты, то есть родители, удовлетворяющие перечисленные выше потребности личностного роста. Такие объекты называют инфантильными или архаическими, подчеркивая примитивный характер объектных отношений младенца. Фрустрация всех трех базовых сэлф-потребностей, по Кохуту, ведет к тяжелым расстройствам личности (self-disorders, "неупорядоченная Самость"), но если хотя бы одна из них удовлетворялась достаточно, то человек имеет возможность компенсации.
Тем не менее, зависимость от людей, которых мы воспринимаем как идеальных или от тех, кто, в свою очередь, воспринимает нас в качестве идеальных и замечательных, существует в любом возрасте. Она в той или иной степени присуща всем, однако у лиц с расстройствами Самости она выходит на первый план и становится ненасыщаемой. Идеализируемые, отражающие, соперничающие сэлф-объекты определяют восприятие окружающих людей, а сильное напряжение соответствующих потребностей видоизменяет мотивацию общения и межличностных взаимодействий.
Дальнейшее развитие сэлф-теорий позволило уточнить и конкретизировать природу ядерного личностного образования, называемого Самостью. Последняя рассматривается не только как динамическая структура психических свойств, но и как устойчивая конфигурация объектных отношений и связанных с ними потребностей.
[184]
Кохут говорит о биполярной природе Самости, развивающейся между полюсом потребностей и влечений и полюсом идеалов и норм. Первоначально ожидания и предпочтения родителей формируют виртуальную Самость — идеальный образ будущего Я ребенка. На втором году жизни в качестве устойчивой организации психических структур возникает ядерная Самость, на основе которой развивается связная Самость взрослого человека. "Термином грандиозная Самость принято описывать нормальную эксгибиционистскую Самость младенца, в структуре которой преобладают переживания беззаботности и средоточия всего бытия" [53, с. 162].
Кохут предлагает развернутую классификацию патологических форм Самости, хорошо приспособленную к нуждам психотерапии. Архаической Самостью называют проявления младенчески-грандиозного Я у взрослых людей. Таким клиентам и в зрелые годы свойственен детский эгоцентризм, неумение представлять себе чувства и переживания окружающих, примитивно-эгоистические, потребительские формы взаимодействия с людьми. При этом сами они жалуются на холодность и равнодушие, требуют усиленного внимания и заботы.
Иногда от людей с архаической Самостью можно услышать весьма оригинальные объяснения собственного поведения. Так, один из клиентов, рационализируя причины неудач в общении, заявил: "Да, конечно, я очень эгоистичен в отношениях с окружающими. Но мне сейчас в жизни очень плохо, навалились всякие неприятности. Поэтому я не могу думать о людях, я думаю только о себе. Когда ситуация изменится, я буду общаться с коллегами и близкими иначе, а сейчас эгоизм для меня — жизненная необходимость".
Фрагментированная Самость — это нарушение связности, чреватое распадом Самости на отдельные части. Фрагментация может быть следствием регрессии, одиночества; "раздробленное Я" возникает из-за плохого удовлетворения сэлф-потребностей. Это состояние сопровождается тревогой, в критических ситуациях переходящей в панику. Поведение подростка, перешедшего в другую
[185]
школу и с трудом адаптирующегося к новым условиям, неуверенность и депрессия безработного эмигранта — вот типичные примеры. Иногда к фрагментации Самости может привести неумелая групповая гештальт-терапия, использующая диссоциативные техники (т.наз. выделение субличностей и работа с ними).
В отличие от фрагментированной, опустошенная Самость связана с более длительной депрессией, при которой человек уже не способен радоваться развитию и утверждению собственного Я. Он разочарован и утомлен, жизненные силы утекают и, как выразился один клиент, "нет настроения — оно упало, как строение".
Перегруженная и перевозбужденная Самость развиваются из-за фрустрации эмоциональных потребностей личности. В первом случае человек неспособен облегчить свои страдания (воссоединиться со всемогущим сэлф-объектом и успокоиться), во втором — неадекватная (чрезмерная или искаженная) зеркализация держит Я в постоянном напряжении, заставляя искать все новые и новые ситуации эмпатии и межличностного оценивания. Это явление часто наблюдается в терапевтических группах — один или несколько участников ненасытно требуют обратной связи, сосредотачивая остальных только на своих собственных переживаниях и блокируя групповую динамику.
Несбалансированная, неупорядоченная Самость (ее, собственно, чаще всего и описывают как self-disorders) является результатом дисгармоничного развития объектных отношений в раннем детстве и, в свою очередь, порождает множество проблем в межличностном общении и взаимодействии. Кохут описывает три типа личностного дисбаланса:
"Несбалансированная Самость есть состояние непрочности составных частей Самости. При этом ода из них, как правило, доминирует над остальными. Если слабый оценочный полюс не может обеспечить достаточного "руководства", Самость страдает от чрезмерной амбициозности, достигающей уровня психопатии. При чрезмерно развитом оценочном полюсе Самость оказывается скованной чувством вины, стесненной в своих проявлениях. Третий тип несбалансированности Самости характеризуется выраженной дугой напряже-
[186]
ния между двумя относительно слабыми полюсами (полюсом идеалов и полюсом притязаний — Н.К.). Такой тип Самости является, так сказать, отстраненным от ограничивающих идеалов и личностных целей, в результате чего индивид отличается повышенной чувствительностью к давлению со стороны внешнего окружения" [53, с. 163].
Психология Самости рассматривает психические конфликты в качестве главных факторов, определяющих развитие объектных отношений. В зависимости от типа конфликта поведение личности и ее взаимоотношения с окружающими описываются в рамках моделей, которые Кохут называет "виновной" и "трагичной". Виновная личность целиком сосредоточена на удовлетворении влечений и характеризуется многочисленным противоречиями в системе психики (главным образом, конфликтами с участием Сверх-Я). Это классический фрейдовский невротик с высоким уровнем объектной фрустрации, особенно в сексуально-эротической сфере.
Трагичная личность характеризуется проблемами на уровне Самости — желанием выйти за пределы поведения, регулируемого принципом удовольствия, высокой чувствительностью в сфере сэлф-потребностей, неудовлетворенным желанием трансцендировать собственную сущность в объектных отношениях. Такие люди недовольны собой и окружением в несколько ином плане.
Принято считать, что развитие сэлф-психологии в целом было инициировано дальнейшими нуждами психотерапии в 60-70-е годы. Ни фрейдовская теория влечений, ни представления о психологических защитах Эго, ни кляйнианские идеи не могли объяснить проблемы клиентов определенного типа — хорошо приспособленных, адекватных и вполне успешных, но страдающих от внутренней пустоты, экзистенциальной неустойчивости и формулирующих свой запрос примерно так: "вроде все в жизни есть, а чего-то не хватает, неизвестно чего... жизнь не та". Н.Мак-Вильямс описывает их следующим образом:
"Складывалось впечатление, что проблемы подобных пациентов заключались в их чувствах относительно того, кто
[187]
они такие, каковы их ценности и что поддерживает их самоуважение. Они иногда могли говорить, что не знают, кто они такие, и что для них имеют значение только уверения в том, что они сами что-то значат. Эти пациенты часто вовсе не казались действительно "больными" с традиционной точки зрения (контролировали свои импульсы, обладали достаточной силой Эго, стабильностью в межличностных отношениях и так далее), но они не ощущали радости от своей жизни и от того, кем являются" [41, с.57].
Помогать клиентам подобного типа сложно прежде всего потому, что аналитические отношения рассматриваются и переживаются ими как компенсация сэлф-потребностей. Терапевт в качестве сэлф-объекта ценится за возможность заполнить эмоциональную пустоту собственного Я и фактически представляет собой нарциссические расширение личности клиента. Сэлф-переживания структурируют терапию, зачастую превращая ее в серию однообразных попыток подтверждения ценности и самоуважения пациента. Их количество не имеет значения (потребность ненасыщаема), а уставшего, недовольного собой и ходом терапии аналитика можно поменять на другого, третьего, пятого...
Расстройства самости всегда сказываются на отношениях с людьми. В "тяжелых" случаях развивается картина, сходная со злокачественным нарциссизмом (см. ранее, гл. 3, с. 106-107). Часто межличностное взаимодействие пытается компенсировать ту из сэлф-потребностей, которая не удовлетворялась в детстве. Всем знакомы люди, настойчиво и ненасытно требующие подтверждения собственной значимости или исключительности (плохая зеркализация в детстве), навязывающие друзьям и родственникам всемогущество и всезнание (тоска по идеальным образам), наконец, личности, чувствующие себя "странными", особенными, не такими как другие. Такие проблемы часто служат "крючками", на которые ловят людей опытные манипуляторы. Как говорится, ловкая женщина может женить на себе почти любого мужчину, если будет достаточно часто повторять ему всего четыре слова: "Какой ты замечательный человек!" Другие при-
[188]
меры можно найти в книгах пресловутого Дейла Карнеги и многочисленных пособиях аналогичного плана.
В моей практике был случай, связанный с чрезмерно акцентированной потребностью в зеркализации и тоской по идеалу. Клиент, господин Н., обратился ко мне потому, что, по его словам, "много слышал о том, какой Вы замечательный психотерапевт". На первой встрече он заявил, что проблемы как таковой у него нет, а поводом для обращения послужило желание "пообщаться" с хорошим профессионалом. Господин Н. был успешным бизнесменом и поначалу вел со мной вполне светские разговоры на различные темы. Когда количество комплиментов в мой адрес трижды превысило норму обычной вежливости и благожелательности, я поинтересовалась, не скрывается ли за таким поведением конкретная тревога. Г-н. Н. хорошо воспринял интерпретацию о возможной защитной природе своего поведения и, немного поразмышляв, сказал примерно следующее:
"Понимаете, мне всегда было очень важно, чтобы мною восхищались, завидовали мне. Действительно, я зависим от оценок окружающих людей, и даже не обязательно значимых. Я могу не уважать человека, считать его ничтожным и мелким, но мне все равно нужно, чтобы он был от меня в восторге. В деловых отношениях мне это мешает, но я научился "не ловиться" на лесть. И тем не менее, всегда переживаю — а что Х или У обо мне думают? Не то, чтобы я действительно зависел, но мне это очень нужно — просто для себя. Успех успехом, но если никто не восторгается, радости мало. Хотя я и понимаю, что успешно сделал то или другое. Идеальный вариант — это "кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку". Мне приятно общаться с людьми, которым я нравлюсь, и я всегда рад сказать им что-нибудь приятное".
В дальнейшем, когда мы подробно разобрались в глубинных основах его потребности в признании и восхищении, господин Н. стал настойчиво требовать похвалы и одобрения, подчеркивая, что аналитик — "это не кто попало", и моя позитивная оценка его стараний очень важна. Я прокомментировала это в свете сэлф-психологии и
[189]
высказала догадку, что первоначальная любезность г-на Н. — типичная тоска по идеалу. Клиент принял интерпретацию.
Терапевтическая работа с господином Н. продолжалась недолго, но была вполне успешной. Интересно, что клиент, осознав причины столь сильной потребности в восхищении и пересмотрев под этим углом свои отношения с людьми, все же оставил себе некоторое количество сэлф-объектов для ее удовлетворения. Так, случайно встретившись со мной после выхода в свет моей очередной книги по психотерапии, он заметил: "Вы блестяще описали случай с X, я знаю этого человека. Жаль, что я не попал в число Ваших "кейзов". Ну ничего, я еще приду к Вам с какой-нибудь сногсшибательной проблемой". Я оценила шутку господина Н. и выполняю его желание быть позитивно отраженным на этих страницах.
Современный психоанализ предлагает множество концептуальных схем и теорий возникновения межличностных проблем, обусловленных ранними стадиями развития объектных отношений. Основные из них представлены ниже:
[190]
5.6. Интерперсональные подходы
Большинство рассмотренных ранее подходов к изучению объектных отношений рассматривают их как важный фактор формирования и развития личности или ее отдельных подструктур (Эго, Суперэго, Самости). Концепция Г.С.Салливана имеет (в какой-то степени) прямо противоположную направленность, поскольку этот американский психиатр трактует личность как некую гипотетическую сущность, с помощью которой удобно описывать межличностное взаимодействие. "Личность обнаруживается только тогда, когда человек так или иначе ведет себя по отношению к одному или нескольким другим людям" [122, р. 76]. Вместо изучения раннего опыта душевных переживаний Салливан прямо рассматривает устойчивые паттерны (последовательности, сценарии, формы) межличностного взаимодействия как основные составляющие личности.
Базовая основа межличностного взаимодействия по Салливану — это тревога. Возникновение тревоги он связывает с эмоциональными нарушениями или проблемами значимой личности (мать), а часто повторяющееся тревожное переживание способствует формированию примитивного (первичного) страха. Позже опыт примитивного страха и первичной тревоги воспроизводится вновь и дает начало шизофренической симптоматике.
Все переживания, которые может испытывать человек, образуют пространство, крайними точками которого являются полная эйфория (состояние полного счастья и удовлетворенности) и невыносимое, вызывающее ужас напряжение. Неудовлетворенные потребности тоже ощущаются как психическое напряжение:
"Активность младенца, которую мы имеем возможность наблюдать, порождаемая напряжением потребностей, вызывает напряжение у материнской фигуры, переживающей это напряжение как заботу и воспринимающее его как стимул к деятельности, направленной на удовлетворение потребностей
[191]
младенца... Так можно определить заботу — безусловно, очень важное понятие, принципиально отличающееся от многозначного и по сути бессмысленного термина "любовь", использование которого вносит неразбериху в решение множества вопросов" [60, с.65].
Как видим, Салливан решительно отказывается от привычных понятий, характеризующих межличностные отношения. Сущность тревоги он также понимает по-своему. В отличие от эмоций, вызванных потребностями, или заботой, смла тревоги неконтролируема (первичная тревога обусловлена действиями матери, влиять на которую младенец не может). Тревога подавляет все другие виды напряжений, возникающие параллельно с ней, это чувство является всеобъемлющим и неуправляемым. Защитой от тревоги первоначально являются апатия и сонная отчужденность, позднее эту роль начинает выполнять взаимодействие ребенка с другими людьми. Первой, базовой формой интерперсонального (межличностного) переживания является грудное кормление.
Постепенное развитие ребенка, его социализация, по мнению Салливана, происходит под влиянием поощрений (так формируется персонификация Я-хорошии), возрастания тревоги (Я-плохой) и внезапной сильной тревоги (ужаса), персонифицирующейся в форме не-Я. Эти три Я-репрезентации формируют вторичную систему самости, которую человек переживает как свою личность и демонстрирует окружающим в различных ситуациях.
В детстве у ребенка складываются множество форм взаимодействия с людьми, среди которых наиболее важными являются требуемое (правильное) поведение, а также необходимость скрывать свои действия и вводить в заблуждение окружающих. Каждая из них усиливает соответствующие персонификации, малыш "учится" сопровождающим переживаниям (радость, раздражение, негодование, недоброжелательность, гнев, злоба и т.п.).
Ключевое значение для развития отношений с окружающими имеет ювенильная эра — период с 6-7 до 12-13 лет, включающий, в привычной для нас периодизации, младший школьный и младший подростковый возраст.
[192]
"Именно в этот период, — пишет Салливан, — ребенок вступает в систему социальных взаимоотношений. Те, кто задержался в ювенильной эре, позднее не смогут адаптироваться к жизни среди своих ровесников" [60, с. 214]. В этом возрасте присутствие других людей сильно усложняет окружающий ребенка мир, так что он вынужден выработать индивидуально-своеобразную концепцию ориентации в среде. Степень адекватности ориентации в жизни отражает то, что принято называть зрелой личностью с хорошим, плохим или индифферентным характером.
Интерперсональный подход Салливана является хорошей основой для понимания тяжелых форм нарушения отношений (шизофрения, аутизм). В терапевтической работе удобно использовать его представления о различных формах Я. Интересными и полезными являются описанные им устойчивые формы психической и личностной активности (динамизмы), однако в целом взгляды Салливана, насколько я знаю, мало используются отечественным психотерапевтами, особенно вне психиатрии.
Близким к салливановской концепции является интерсубъективный подход, предложенный рядом американских аналитиков [65] в рамках преодоления "отчуждающих тенденций" психоаналитической терапии. Подчеркивая необходимость эмпатического взаимодействия с клиентом и противопоставляя активную эмпатию классической позиции "бесстрастного зеркала", Д.Этвуд и Р.Столороу полагают фокусом терапии межличностное взаимодействие в форме встречи — особого экзистенциального события. Это встреча двух различных субъективных миров, по-разному организованных субъективных истин, представляющая высокую ценность для обоих участников.
Ключевое для данного подхода понятие интерсубъективности заимствовано из работ Э.Гуссерля, рассматривавшего ее как особую часть (или структуру) субъекта, благодаря которой возможно общение и взаимопонимание различных, непохожих друг на друга индивидов: "Посредством интерсубъективности трансцендентальное Я удостоверяется в существовании и опыте Другого... Другой во мне самом получает значимость через мои собственные
[193]
воспоминания и переживания" [62, с. 115]. Иными словами, интерсубъективность помогает человеку понять, "как устроены" мысли и чувства других людей при том, что все мы разные и непохожи друг на друга. Это понятие очень важно и для других психотерапевтических школ, в частности, для структурного психоанализа (см. далее, гл. 6).
Этвуд и Столороу соединили эти феноменологические представления с идеями Хайнца Кохута о важности удовлетворения сэлф-потребностей в раннем детстве и в процессе психоанализа и разработали продуктивную форму терапии нарушений, связанных с отчуждением и одиночеством.
О различиях с классической парадигмой сами авторы пишут следующим образом:
"Концепция интерсубъекгивности отчасти является реакцией на достойную сожаления тенденцию классического психоанализа рассматривать патологию в терминах процессов и механизмов, локализованных исключительно внутри пациента. Такой изолирующий фокус не позволяет уделить должное внимание не поддающейся упрощению связанности (engagement) каждого индивидуума с другими человеческими существами и ослепляет клинициста, толкая на запутанные тропы. Мы пришли к убеждению, что интерсубъективный контекст играет определяющую роль во всех формах психопатологии: и психоневротических, и явно психотических" [65, с. 17].
Рассматривая психоаналитический процесс как интерсубъекшвный диалог между двумя жизненными мирами, Этвуд и Столороу связывают его этапы и терапевтические факторы со становлением межпичностного пространства особого типа — интерсубъективной реальностью. Последняя через в процессе взаимопонимания артикулируется, выражается в речи (психоаналитическом дискурсе) и способствует тому, что пациент узнает и заново переживает те смыслы и организующие жизненные принципы, которые были сформированы внутренними бессознательными стремлениями. Аналитик может помочь в изменении отдельных сторон или свойств субъективной реальности пациента, но при этом исходит из того, что его собственное знание и понимание — точно такая же субъективная реальность.
[194]
Позицию аналитика авторы интерсубъективного подхода определяют как непрерывное эмпатическое исследование, а осознание бессознательных содержаний и процессов происходит с помощью взаимной рефлексии в рамках интерсубъективного диалога между терапевтом и клиентом. Ключевую роль в терапии играет анализ трансфера и сопротивления. Цель анализа переноса — изучение субъективной реальности клиента по мере ее кристаллизации в интерсубъекгивном поле терапии, а анализ сопротивления позволяет установить моменты травматических срывов в раннем детстве, в ходе которых разрушались значимые для клиента отношения с близкими и любимыми людьми.
Уделяя большое внимание трансферу как особой форме организации опыта, Этвуд и Столороу рассматривают различное понимание переноса, сформулированное в работах их предшественников, в зависимости от его роли и функций в психоаналитическом процессе. В терапевтическом анализе также полезно различать:
• перенос как регрессию к ранним стадиям психосексуального развития;
• перенос как перемещение и навязчивое повторение чувств и переживаний, при котором "пациент смещает эмоции, относящиеся к бессознательной репрезентации вытесненного объекта, на его психическую (ментальную) репрезентацию во внешнем мире" [65, с.55];
• перенос как проекцию объектных конфликтов на фигуру терапевта;
• перенос как искажение объективной реальности в форме ее специфического объяснения и понимания;
• перенос как организующую активность, в рамках которой пациент ассимилирует аналитические взаимоотношения и интерпретации и использует их для трансформации личного субъективного мира.
Терапевт, внимательный к возникновению различных форм трансфера, может целенаправленно использовать его динамику для самых разных целей. Например, для того, чтобы прояснить бессознательные желания и потребности клиента, обеспечив для него в то же время возможность
[195]
морально самоограничивать себя. В рамках организующей активности переноса можно "содействовать адаптации к трудной реальности; сохранить или восстановить ненадежные, склонные к дезинтеграции образы Я и объекты; защитно отразить те конфигурации опыта, которые переживаются как конфликтные или угрожающие" [65, с.61].
В ходе терапевтического анализа одна из описанных ранее клиенток, госпожа Б., последовательно проходила через различные формы трансферентных отношений. Сначала она стремилась к навязчивому удовлетворению инфантильных нарциссических потребностей, используя меня в качестве сэлф-объекта, способного подтвердить уникальный характер ее личности, потребностей и стремлений. На этой стадии г-жа Б. бурно радовалась во всех случаях, когда замечала, что наши с ней вкусы, ценности и жизненные принципы одинаковы или хотя бы похожи. Она охотно раскрывала свой внутренний мир, пыталась обсуждать со мной свои любимые книги, фильмы, активно интересовалась моим прошлым.
Затем произошла сильная регрессия на оральную стадию — клиентка страстно желала быть "накормленной" любовью, вниманием и заботой аналитика. В то же время она испытывала сильную тревогу по поводу моего отношения к ней, обесценивала похвалу и отвергала мою поддержку, явно ревновала к другим пациентам. В ходе анализа постепенно выяснилось, что госпожа Б. спроецировала на отношения со мной мощный конфликт с матерью, ставший частью ее видения родительской семьи. Госпожа Б. родилась недоношенной, и ее мать (как она сама считает) была уверена в том, что девочка не выживет. Выхаживала ребенка бабушка, и ее образ всегда был для г-жи Б. главным воплощением родительской любви и заботы.
Бессознательные проекции клиентки превратили меня в противоречивую фигуру. Любимая и любящая бабушка была медиком и "простой женщиной", а отстраненная и холодная мать (олицетворявшая интеллектуальные достижения) — критикующей и отвергающей. Трансферентный образ аналитика сочетал в себе эти черты, так что клиентка в конце концов прибегла к расщеплению. Чем более
[196]
позитивной была терапевтическая динамика, тем сильнее нарушались отношения интеллектуального сотрудничества со мной, и наоборот — трудности в отношениях научного руководства вели за собой лавинообразный рост нуждающегося в аналитической проработке материала. (Замечу в скобках, что именно на этом примере я убедилась в необходимости тщательного соблюдения одного из важных принципов психоаналитической подготовки: преподаватель психоанализа ни в коем случае не должен быть аналитиком своих студентов.) В конечном итоге эта проблема была вскрыта и проработана, и госпожа Б. перестала видеть во мне манифестацию родительских фигур.
Однако трансформация субъективной реальности отношений переноса была достигнута только в результате бурного конфликта. Г-жа Б., столкнувшись с неуклонно проводимой мною стратегией четкого разделения аналитических и неаналитических отношений, смогла, наконец, уяснить, что участливая доброта терапевта не распространяется на достаточно суровую позицию научного руководителя. Она временно прервала анализ и попыталась достичь согласия со мной, активно работая над темой своего научного исследования. И лишь значительно позже, научившись не путать трансферентные аспекты наших отношений с объективно заданными отношениями субординации, клиентка перестала испытывать трудности в общении и продолжила анализ.
Разумеется, для зрелой взрослой личности наиболее важными среди различных типов объектных отношений являются отношения дружбы и любви. Существует устойчивое предубеждение, что психоаналитическое понимание любви сводит ее к простому удовлетворению сексуального влечения. Нередко приходится слышать, что глубинно-психологические исследования любовной жизни неспособны внести конструктивный вклад в понимание тонких, духовных аспектов этой стороны человечес-
[197]
кой природы, что психоанализ занимается исключительно извращениями и патологией любовной сферы.
Между тем существует целый корпус аналитических работ, в которых проблемы любви рассматриваются подробно и фундаментально, и объектом изучения служат как раз нормальные, естественные любовные отношения, чувства и переживания [см. 29, 31, 42]. Правда, угол зрения при этом остается психоаналитическим (классическим, объектным, структурно-аналитическим и т.п.).
Первая и главная особенность такого рассмотрения — это трактовка любви как зрелых сексуальных отношений, в ходе которых происходит обоюдное удовлетворение эротических желаний. Естественно, принимаются во внимание как биологические (инстинктивные) корни сексуального опыта и поведения, так и психосоциальные и индивидуальные особенности человеческой эротики. Именно своей научной объективностью, логикой и беспристрастностью психоаналитический дискурс отчасти противостоит общепринятым условностям дискурса любви.
Последний является гораздо более мифологизирующим, чем кажется на первый взгляд. Еще Платон заметил42, что два могучих мифа убеждают нас эстетизировать любовь, сублимируя ее в творчестве: сократический миф (согласно которому любовь является источником прекрасных и мудрых речей) и миф романтический: описывая свою страсть, можно создать бессмертное произведение — роман, поэму, картину. С того времени было создано бесчисленное множество описаний любви и ее отдельных сторон, форм, разновидностей. Семиологической вершиной, упорядочивающей эти описания в рамках словарно-энциклопедического принципа, являются "Фрагменты речи влюбленного" Ролана Барта [2].
Интересно и показательно, что прекрасным рассказчиком любовных историй был сам Зигмунд Фрейд. Полученная им в 1930 году премия имени Гете свидетельствует о высокой оценке литературных аспектов фрейдовского наследия. Образцовыми описаниями перипетий любовной жизни являются не только знаменитые случаи (case) в истории психоанализа, но и такие работы, как "Бред и
[198]
сны в "Градиве" Иенсена", "Типы характера в аналитической практике", "Мотив выбора ларца".
В психоанализе основной миф, структурирующий любовные отношения — это, конечно, миф об Эдипе. Какими бы ни были зрелые сексуальные отношения любящей пары, их бессознательная основа определяется содержанием и динамикой основных стадий психосексуального развития (инфантильная сексуальность, латентный период и пубертат). На первой стадии ребенок сначала существует сам по себе, отрезанный от других — это называют полиморфно-перверсным состоянием; затем он вступает в двойственные симбиотические отношения с матерью;
и, наконец, на эдиповой стадии эти отношения прерываются запретом отца (угроза кастрации).
Мужчины, у которых в детстве плохо складывались эдиповы отношения с отцом, могут развивать инфантильную манеру сексуального обольщения женщин. Такое поведение иногда называют донжуанством. Характерным примером будет случай с клиенткой, которая обратилась за помощью в связи с "общей неустроенностью жизни" (ее собственное выражение). Госпоже Ф. было трудно сформулировать конкретную жалобу. Первые несколько сеансов она пересказывала свои сны и сама же пыталась их анализировать. Перед этим она прочла книгу, посвященную юнгианскому анализу сновидений, так что результаты сводились к одному и тому же заключению: "Судя по всему, процесс индивидуации у меня находится в запущенном состоянии".
В конечном итоге выяснилось, что основную причину своих жизненных неудач (связанных с невозможностью выстроить удовлетворительные отношения с мужчиной, за которого потом можно выйти замуж) г-жа Ф. видит в следующем. Около трех лет она общается с парнем, которого характеризует следующим образом:
К: Он точь-в-точь такой, как в известной песне — "ты мой ночной мотылек, порхаешь, летаешь". Знай себе порхает от подружки к подружке, а когда у него что-нибудь не ладится, приходит ко мне. Я уже тысячу раз давала себе слово гнать его в шею — и не могу.
[199]
В ходе работы выяснилось, что у клиентки есть сильное навязчивое желание — привести этого парня ко мне, "потому что это ему, а не мне, давно нужен хороший психоаналитик". Я высказала в связи с этим осторожное сомнение и подчеркнула, что одно из главных условий успешной терапии — самостоятельно принятое решение о ее начале.
Наши встречи шли своим чередом. А через какое-то время ко мне обратился молодой человек (назову его X.) и попросил дать ему одну или две консультации, "помочь разобраться в себе". Господин X. рассказал буквально следующее:
К: Знаете, я решил посоветоваться с Вами, потому что время от времени думаю — может быть, я какой-то монстр? Это касается отношений с женщинами. У меня было множество романов — таких легких, ни к чему не обязывающих. Ну, знаете, встречаешь девушку, она тебе нравится и видно, что она сама не против. Я никогда над этим особо не задумывался — жизнь есть жизнь. А потом как-то подумал — ничего себе, время идет, друзья почти все уже переженились. Но так ничего и не стал предпринимать.
Т: Такая легкая жизнь Вам по душе?
К: Да как сказать, не очень-то. Просто я не привык об этом размышлять. А тут так случилось... (мнется). В общем, у меня есть одна подруга, постоянная. То есть раньше она была... ну, любовницей, а теперь мы скорее друзья. Хотя и это тоже осталось. Она меня хорошо понимает, я всегда могу к ней прийти, если что... У меня есть и другие девушки, а эта — правда подруга. В смысле друг, понимаете?
Т: Конечно, понимаю.
К: Ну вот, и я подумал, что если жениться — то скорее всего на ней. Она красивая, мне нравится. Но не только поэтому. Она разумная такая, разбирается в жизни. И тут я понял, что не могу.
Т: Что именно?
К: Да все это всерьез — делать предложение, заводить семью. Вы не подумайте, я не ответственности боюсь,
[200]
или там того, что семью надо содержать. Просто не могу себе представить — как это. Как-то это все не по мне...
Т: И что же дальше?
К: Короче, я взял и все Алене рассказал. А она мне и говорит — ты, мол, просто псих, и тебе надо к психоаналитику сходить. Ну, я и пришел.
Инфантилизм г-на X. был вполне очевидным. В то же время налицо был неподдельный интерес к терапии, открытость и желание разобраться в себе. Госпожа Ф. (та самая Алена) перестала приходить на терапию — судя по всему, ее цель (привести X. к психотерапевту) была достигнута.
В ходе работы с этим клиентом выяснилось, что X. бессознательно наслаждался инфантильной зависимостью женщин, с которыми у него были романы. Причем он "коллекционировал" преимущественно дам, которые были постарше и более социально зрелыми (материнские фигуры). После того, как г-н. X. в ходе анализа сумел понять и проработать свои бессознательные эдиповы мотивы (соревнование с отцом за любовь матери и влечение к женщинам, провоцирующим его на нарушение социальных запретов), у него установились устойчивые взаимоотношения с Аленой Ф. К настоящему моменту они уже два года живут в гражданском браке.
В процессе развития примитивное первичная инфантильность замещается нарциссической любовью, после чего вступает в сипу второй период (форма) сексуальности. На данном этапе (латентном) защитные функции вытеснения и подавления позволяют индивиду отделить себя от состояния инфантильной сексуальности. Таким образом, латентный период является антитезисом по отношению к инфантильной сексуальности, противостоит ей.
На третьем, пубертатном этапе происходит возврат вытесненного состояния инфантильной сексуальности в связи с осознанием половых различий и началом сексуального экспериментирования. Последнее отчасти обусловлено примитивным этапом развития, когда индивид был свободен в выборе сексуального объекта безотноси-
[201]
тельно к его полу. При этом подросток (юноша или девушка) испытывают меньшие ограничения в выборе объекта по сравнению со взрослыми, так как свойственные им влечения еще не прошли закономерный для нормального (конвенционального) человека путь от ауто-эротического субъекта сексуальности к "альтруистическому" акту социальной репродукции, в котором сексуальное влечение начинает служить функции продолжения рода.
Становление зрелой сексуальности в типичном случае предполагает последовательное достижение двух целей, связанных между собой. Первая касается индивидуализированных форм удовлетворения эротических желаний, вторая — выбора сексуального объекта (партнера).
Эротическое желание, по мнению ведущего современного психоаналитика Отто Кернберга, характеризуется, во-первых, стремлением к близости и слиянию с объектом, в который проникаешь (вторгаешься) и который, в свою очередь, вторгается и овладевает тобой; во-вторых, идентификацией с сексуальным возбуждением партнера и оргазмом, удовольствием от двух дополняющих друг друга переживаний слияния; и в-третьих, чувством выхода за пределы дозволенного, преодолением запрета на сексуальный контакт, происходящего из эдиповой структуры сексуальной жизни [29]. Говоря о действиях, сопровождающих удовлетворение эротического желания, Кернберг пишет:
"Это стремление к близости и слиянию, подразумевающее, с одной стороны, насильственное преодоление барьера и, с другой — соединение в одно целое с выбранным объектом. Сознательные или бессознательные сексуальные фантазии выражаются во вторжении, проникновении или овладении и включают в себя соединение выпуклых частей тела с естественными впадинами — пениса, сосков, языка, пальцев вторгающейся стороны, проникающих или вторгающихся во влагалище, рот, анус "принимающей" стороны. Получение эротического удовольствия от ритмических движений этих частей тела снижается или исчезает, если сексуальный акт не служит более широким бессознательным функциям слияния с объектом. Роли принимающего (container) и отдающего (contained) не следует смешивать с маскулинностью и феминин-
[202]
ностью, активностью и пассивностью. Эротическое желание включает фантазии активного поглощения и пассивного состояния, когда в тебя проникают, и наоборот" [29, с.40].
У большинства клиентов с сексуальными проблемами существует типичный страх, связанный с воплощением подобного рода бессознательных фантазий. Причем пугающими являются не эротические привычки сами по себе, а именно бессознательная детерминация последних, их скрытая от сознания связь с ранними (преэдиповыми) формами удовлетворения влечений. Получение доступа к соответствующей информации (самое простое — посоветовать прочесть фрейдовские "Три очерка по теории сексуальности") существенно снижает такой страх.
Для зрелой сексуальной любви также характерна идеализация партнера, его личности и тела. Эротическая идеализация (проекция Я-идеала на любовника или любовницу) повышает самооценку и степень удовлетворенности отношениями, создает ощущение гармонии. Фрейд полагал, что такая идеализация необходима для преодоления первичного состояния мастурбаторной сексуальности (влечения к себе), она представляет собой необходимое повышение ценности сексуального объекта:
"Высокая оценка распространяется целиком на тело сексуального объекта и охватывает все исходящие от него ощущения. Такая же переоценка распространяется на психическую область в целом и проявляется как логическое ослепление (слабость суждения) По отношению к душевным качествам и достоинствам сексуального объекта, равно как и готовность поверить всем его суждениям. Доверчивость любви становится, таким образом, важным, если не первейшим источником авторитета" [108, vol.5, p. 11 б].
Большинство психоаналитиков склонны считать, что зрелая объектная любовь — это своеобразная попытка возврата к утраченному состоянию нарциссизма. Полная объектная любовь (анаклитического типа, т.е. к человеку, отличному от меня и потому привлекательному) свидетельствует о переоценке детского нарциссизма и переносе либидо к сексуальному объекту. Эта позитивная пере-
[203]
оценка сексуальности обусловлена специфическим состоянием влюбленности, невротически-компульсивного принуждения, посредством которого "обедневшее" эго отказывается от либидо в пользу объекта любви. Для взрослой личности объект любви репрезентирован идеальным образом партнера, служащим заменой утраченного нарциссизма через идеализацию. Человек полагает, что "если я не совершенен, то мне, по крайней мере, позволено иметь отношения с тем, кто может быть совершенен". Однако этот совершенный Другой — всего лишь замена раннего идеализированного отношения с матерью
Фрейд замечает, что представительницы женского пола имеют тенденцию отказываться от этой анаклитической формы любви и оставаться фиксированными на нарциссическом уровне: "У женщин появляется самодостаточность, компенсирующая социальные ограничения в самостоятельном выборе объекта. Строго говоря, женская любовь обусловлена только интенсивностью, с которой ее любит мужчина; при этом желание женщины относится не к самой любви, но к желанию быть любимой; и расположение завоевывает тот мужчина, который выполняет это условие" [108, vol.10, p. 70]. Женщина стремится занять положение объекта желания. Иными словами, здесь основоположник психоанализа утверждает, что женщины могут любить себя, только находясь в мужской позиции. Феминистки до сих пор яростно оспаривают этот тезис, однако наблюдение Фрейда, по большому счету, весьма справедливо.
Принято считать, что женщина демонстрирует мужчине утраченное состояние его собственного нарциссизма. "Очевидно, нарциссизм притягателен для тех, кто в какой-то степени отказался от него, но не удовлетворен и объектной любовью; обаяние ребенка заключается в значительной степени в его нарциссизме, его самодостаточности и недоступности" (там же). Для большинства мужчин женская нарциссическая позиция в любви выглядит самодостаточной, непонятной и потому весьма привлекательной.
Такие нюансы, обусловленные различными формами нарциссизма у влюбленной пары, могут создавать массу
[204]
трудностей, приводить к обидам, ревности, взаимному непониманию. С другой стороны, тонкая материя любовного чувства не может существовать без подобного рода невысказанных, недосказанных, утонченно-причудливых моментов. Влюбленные любят разбирать и исследовать их сами, это может превратиться в весьма эротическое занятие, предваряющее близость. Так что какую-то часть бессознательных компонентов объектной любви можно и должно оставлять без аналитического вмешательства.
Любовь в анализе — особая проблема. Отношение, скрывающееся за индифферентным понятием "трансфер" в большинстве случаев есть отношение любовное (если, конечно, трансфер позитивный). Не будет преувеличением сказать, что гениальная догадка Фрейда о природе симпатии, возникающей у пациента к врачу (см. с. 48 наст. книги) определила всю дальнейшую судьбу психоанализа. Идея превратить трансфер из одиозной помехи в ведущий фактор психотерапевтического лечения оказалась не просто плодотворной — она была и остается одним из главных "изобретений" человеческого разума в гуманитарной сфере.
Психотерапевты различных направлений (кроме, разумеется, психоаналитического) склонны обходить молчанием моменты, связанные с эротическими компонентами терапии. Даже работы авторов, в той или иной степени знакомых с аналитической парадигмой (К.Витакер, К.Роджерс, И.Ялом), изобилуют примерами нарушения принципа воздержания43. Нейтральность в качестве позиции аналитика предполагает постоянное внимание к трансферентным и контртрансферентным чувствам, необходимое для успеха терапии. Это позиция, равноудаленная от требований Оно, Я и Сверх-Я. Клиент может рассчитывать на то, что аналитик будет ориентироваться на его возможности, а не на собственные желания, и не станет приписывать пациенту свои ценности.
История и теория психотерапии, равно как и мой личный опыт работы, показывают, что стоит внимательно и настороженно отнестись к любой форме терапевтической работы, заканчивающейся идеализацией или любовью. Еще Фрейд заметил, что невротики часто пытаются иде-
[205]
ализировать аналитика, защищаясь от потери собственного достоинства и нарциссизма:
"Это имеет особое значение для невротика, Я которого умаляется из-за чрезмерной привязанности к объекту и не способно достичь своего идеала. Тогда он возвращается к нарциссизму, избавляясь от расточительного расхода либидо. Нарциссический тип выбора сексуального идеала предполагает наличие у последнего качеств, которые для самого невротика недостижимы. Это и есть излечение через любовь, которое он обычно предпочитает аналитическому" [108, vol.10, p. 81].
Здесь Фрейд противопоставляет идеализирующее нарциссическое лечение любовью правильному аналитическому процессу. Идеализируя аналитика, невротик пытается преодолеть собственную несостоятельность. Фрейд настаивает, что аналитический процесс есть полная противоположность тенденции к идеализации, он основан на фундаментальной "де-идеализированной" любви и вынуждает аналитика противостоять желанию стать идеалом для своих пациентов.
Терапевт, утверждающий себя в позиции Я-идеала клиента, просто меняет у него одну невротическую зависимость на другую. "Если лечение до известной степени помогло пациенту осознать вытесненное, часто наступает неожиданный успех, состоящий в том, что больной отказывается от дальнейшего лечения и выбирает объект любви, предоставляя завершение лечения влиянию жизни с любимым человеком. С этим можно было бы примириться, если бы не опасность удручающей зависимости от этого нового спасителя в беде" — пишет Фрейд в статье "Введение в нарциссизм" [108, vol.10]. Мне пришлось наблюдать один такой случай.
Молодая женщина активно заинтересовалась глубинной психологией. Этот интерес совпал с началом профессиональной карьеры и в значительной степени был обусловлен влюбленностью в коллегу, чуть более продвинутого в этой сфере. В служебных и личных отношениях с ним, включавших изучение и "дикую" практику психоанализа, развился интенсивный положительный перенос,
[206]
наличие которого отмечали все окружающие. Сама же госпожа Ц., периодически устраивая дискуссии на тему "Нет, вы скажите, чем любовь от трансфера отличается?", в конечном итоге решила, что ничем.
Она развелась с мужем и стала жить с упомянутым коллегой. Ее психологическая зависимость от этих отношений была столь сильной, что превратилась в препятствие для профессиональной карьеры обоих. Коллега, в свою очередь пытавшийся самоутвердиться в смешанной роли аналитика и Я-идеала, начал совершать все более серьезные ошибки в своей профессиональной деятельности. В конечном счете, он не сумел вовремя заметить прогрессирующий трансфер у одной из своих клиенток, в результате чего у той случился психотический срыв. Профессиональная несостоятельность сильно идеализируемого г-жой Ц. партнера стала предметом публичных пересудов. В результате она и ее возлюбленный перессорились с большинством коллег и вынуждены были сменить место работы.
Завершая настоящую главу, я хочу заметить, что в ней рассмотрены лишь основы, азы теории объектных отношений. Эти общие представления могут сориентировать психотерапевта в выборе подходящей модели для понимания природы и сущности межличностных трудностей и проблем клиента, подобрать для них подходящий язык описания. Я убедилась, что в разговоре с клиентами психоаналитические и иные научные термины можно свободно употреблять в роли метафор — следует только в общих чертах объяснить их значение. Что же касается более тонких различий в терминологии и теоретических представлениях, то их анализ поможет психотерапевту выработать более ясное понимание глубинных психических процессов и переживаний.
Глава 6. Структурно-аналитический подход в терапии
В этой главе я попытаюсь изложить основные принципы структурного психоанализа Ж.Лакана. Точнее, свое понимание лакановской теории и возможностей ее приложения в терапевтической работе. В полной мере осознавая собственные ограничения, я все же хочу привлечь внимание отечественных психотерапевтов к парадигме, существенно отличающейся от классической. Предлагаемые Лаканом и его школой методы сокращают время, необходимое для анализа, и позволяют получить необычные результаты. Конечно, пересказ лакановской теории будет несколько упрощенным, но другого способа излагать по-настоящему сложные идеи пока что не придумали.
Так уж повелось, что немногие российские специалисты по структурному психоанализу (прежде всего Н.С.Автономова) неоднократно подчеркивали недоступность лакановского подхода — высокую сложность теории, невозможность полноценного знакомства с практическими приложениями, языковые трудности и т.п. Однако в последние годы ситуация изменилась: появились квалифицированные переводы трудов Лакана [33-36], Россия получила представительство в Ассоциации Фонда Фрейдовского Поля (профессиональное сообщество структурных психоаналитиков), да и психологическая культура обрела необходимую степень готовности воспринять теорию и практику лакановской школы.
Немалую роль в этих процессах сыграло и знакомство наших ученых с достижениями современного постструктурализма и постмодернизма. Идеи Лакана трудно по-
[208]
нять, не зная работ Р.Барта, Ж.Бодрийяра, Ж.Делеза, Ж.Дерриды, П.Клоссовски, Ю.Кристевой, Ж.-Ф.Лиота-ра, Ж.-Л.Нанси, М.Фуко и других известных мыслителей последней четверти XX века. Я намеренно перечисляю исключительно французские имена, потому что структурный психоанализ — это, помимо всего прочего, очень французская психоаналитическая школа.
Французская философская мысль, вероятно, составляет главное "открытие" расширяющегося пространства постсоветского гуманитарного знания. К сожалению, отечественные психологи (в отличие от философов, литературоведов, лингвистов, социологов) оказались в стороне от этого мощного направления. Кроме того, как замечает И.М.Чубаров, пониманию структуралистских и постмодернистских идей очень мешает столь свойственное нашей ментальности стремление критиковать, "разоблачать" чужие тексты, особенно необычные или трудные для восприятия:
"Действительно, наша ситуация такова, что не способствует никакой передаче кодов, смыслов западной европейской мысли, тем более делезовской. Она всячески препятствует такого рода передаче, диалогу. У нас нет того, что в последней делезовской книге (совместно с Гваттари) описано как ситуация общения друзей. В случае обмена мнениями у нас преобладают интонации разоблачения, приговора, даже уничтожения оппонента. У нас нет основы, позволившей бы общаться на уровне какого-то реального соперничества, то есть на уровне экспериментов мысли. А именно это помогло бы нам не только понять Делеза, но и принять его дискурс в нашу ситуацию, в нашу культуру, хоть как-то соотнести с другими работающими здесь способами мысли и письма" [70, с.316].
Тем не менее, отсутствие у большинства отечественных психологов интереса к структурному психоанализу для меня остается трудно объяснимым. Ведь это "выносит" психологическую теорию и практику "за скобки" европейской традиции познания. К.Апель [102] показал, что в истории западной философии можно выделить три периода: онтологический, эпистемологический и лингвистический. По Апелю, онтологический период в философии
[209]
простирается от Платона до Декарта и связан с интересом к пониманию объектов самих по себе и отсутствием такового к познающему субъекту. Следующий период в философии — эпистемологический — длится от Декарта до Канта. В течение него центральный интерес философии переместился с существования объектов к познающему субъекту или Эго. В философском дискурсе преобладают вопросы сознания и его интенциональности, психологические теории представлены работами У.Джеймса, В.Вундта, гештальт-психологов.
В начале двадцатого века фокус философии сдвинулся на проблему языка, произошел так называемый "лингвистический поворот", признавший язык первичной сферой философского анализа. На данном этапе знания сами по себе становятся объектом, влияние которого необходимо учитывать. Именно в течение этого периода усилиями Л.Витгенштейна и других представителей лингвистической философии возникают предпосылки для развития структурализма, "вершинной точкой" которого в психологии и стал психоанализ Лакана.
Благодаря лакановским идеям стало очевидно, что взаимодействия между объектами, субъектами и языком существенны* не только для психоанализа и философии, но и для всех людей в их повседневной обыденной жизни. Психоаналитики заимствуют эти философские представления и пытаются проработать их в аналитической теории и практике. Мой собственный опыт в данной области ограничен анализом дискурса и превращением симптома в фантазм.
В этой главе я хочу остановиться не столько на методах и приемах структурного анализа психотерапевтического дискурса, общие принципы которого подробно описаны в других работах [см. 23, 27] и в конце данной книги, сколько на специфическом для лакановского психоанализа приеме — конструировании фантазма. Фантазм — совер-
* Так и хочется сформулировать в духе незабвенной ленинской теории отражения: язык первичен, а сознание — вторично. Именно язык определяет бытие, а сознание - всего лишь эпифеномен "поля речи и языка".
[210]
шенно уникальный психический феномен, значение которого для психотерапии трудно переоценить. Использование фантазмов — их создание, разыгрывание иди "развинчивание" — столь же часто используется в практике терапии, как и метафорическая коммуникация. Причем это делают не только психоаналитики — трудно назвать школу или подход, свободные от фантазматических представлений. И в то же время о фантазме почти никто (за исключением, может быть, постыонгианцев) не говорит и не пишет.
Для того, чтобы у читателя сложилось правильное представление о фантазматическом характере некоторых форм психотерапевтической работы, придется изложить основные положения Лакана, касающиеся структуры и функций психического. По мере необходимости будут кратко пересказаны и другие постмодернистские идеи и представления — разумеется, в той степени, в какой мне удалось их понять. В процессе письма я все время помнила, что "в силу исключительной сложности понятий, которыми в данной области приходится оперировать, всякий, высказывающий в ней свое суждение, рискует обнаружить истинный масштаб своих умственных способностей" [36, с.9].
Начнем с основных положений Лакана, касающихся строения и работы психики. Последняя включает три регистра — Реальное, Воображаемое и Символическое. Их удобно рассматривать в качестве трех измерений44 человеческой жизни — экзистенциального (чувственный опыт), феноменологического (индивидуальное сознание) и структурного (социальные отношения). Во фрейдовской теории аналогичное разделение на Оно, Я и Сверх-Я сделано на основе различия между чисто инстинктивными ощущениями (Ид), осознаваемыми переживаниями (Эго) и социальными устоями (Супер-эго).
[211]
Разумеется, соответствие между фрейдовскими категориями и регистрами структурного психоанализа весьма приблизительное. Многообразие психических явлений, как индивидуальных, так и коллективных, невозможно втиснуть в жесткие рамки даже самой совершенной классификационной схемы. Такие феномены, как инсайт, сновидение, трансперсональные переживания, синхронистичность, вообще трудно описывать на языке отдельно взятой психологической теории (не говоря уже о том, что, скажем, теория деятельности для этого совершенно на подходит — она хорошо вскрывает сущность навыков и умений, но практически беспомощна перед фантазмом или архетипическим образом мира). Понимание относительности, приблизительного характера любого описания, представление о том, что любая отрасль научного знания оперирует своими рассказами (recit), созданными по определенным правилам, и есть то, что Ж.-Ф.Лиотар называет "состоянием постмодерна" [116].
В духе постмодернистских представлений, т.е. с учетом того, что любой рассказ (ведется ли он от имени Фрейда, Лакана, Юнга или A.H-Леонтьева) руководствуется собственными критериями истинности и точности, основные описательные категории глубинной психологии удобно соотнести друг с другом следующим образом:
|
Измерение / Подход
|
Экзистенциальное
|
Феноменологическое
|
Структурное
|
|
Классический психоанализ
|
Ид (Оно)
|
Эго (Я)
|
Супер-эго (Сверх-Я)
|
|
Структурный психоанализ
|
Реальное
|
Воображаемое
|
Символическое
|
|
Аналитическая психология
|
Инстинкты Комплексы
|
Эго
|
Самость Архетипы
|
Реальное — это доязыковое бессознательное, "до-опытный опыт", нечто невыразимое, исконное, неизгладимое. Это недоступный именованию хаос впечатлений, ощущений, состояний, влечений и чувств, в котором живет новорожденный младенец до того времени, когда под кон-
[212]
тролем взрослых, под влиянием культуры и при участии языка он научается, наконец, выражать свои переживания с помощью специально усвоенных семиотических (знаковых) средств — жестов, осмысленных слогов, слов-наименований, слов-понятий и культурных образцов поведения. Реальное у Лакана, как и у Фрейда, — изначально телесно-сексуальное, нечто бесформенное и аморфное. Оно постепенно осознается в форме целостного образа в возрасте полутора лет.
Момент такого осознания, стадия зеркала (la stade du miroir) — один из важнейших этапов формирования личности*. Начальная точка этого процесса описывается Лаканом как усвоение образа собственного тела. Функция стадии зеркала заключается в установлении связей между организмом и его реальностью. На этой стадии формируется регистр Воображаемого, Я (эго) — как инстанции, в которой субъект себя отчуждает.
В отличие от большинства психоаналитиков Лакан считает эго, сознательное представление человека о себе, мнимой, воображаемой сущностью. Он рассматривает эго как сумму всех психологических защит и сопротивлений, свойственных индивиду, как некую вымышленную конструкцию, иллюзорный образ, указывая на который, субъект говорит: "Это я". Произнося эту фразу перед зеркалом, малыш (а позже и взрослый) указывает в действительности не на, а от себя, на целостную и завершенную иллюзию своего тела. Так формируется основополагающее заблуждение человеческого сознания: представление о том, что подлинная природа и сущность желаний и влечений субъекта доступна рациональному познанию и пониманию.
Это изначальное отчуждение составляет, по Лакану, первичный опыт, лежащий в основе воображаемого нарциссического отношения человека к собственному Я. "Стадия зеркала, — пишет он, — представляет собой драму, стремящуюся от несостоятельности к опережению —
* Как и большинство психоаналитиков, Лакан почти нс пользуется этим словом, предпочитая термин "субъект". Отношения "субъскт-Другой" составляют основную экзистенциальную дихотомию человеческого существования.
[213]
драму, которая фабрикует для субъекта, попавшегося на приманку пространственной идентификации, череду фантазмов, открывающуюся расчлененным образом тела, а завершающуюся формой его целостности, которую мы назовем ортопедической, и облачением, наконец, в ту броню отчуждающей идентичности, чья жесткая структура и предопределит собой все дальнейшее его умственное развитие" [33, с. II]. Как видим, развитие сознания у Лакана не продолжает или дополняет бессознательное существование ребенка, но противостоит ему как нечто иллюзорное, ирреальное, воображаемое.
Психотерапевты часто сталкиваются с воображаемым самопредъявлением. Мнимая природа собственного Я, которое люди демонстрируют друг другу в интимно-личностном общении или в социально значимых ситуациях, — типичный источник многих трудностей и психологических проблем. Однако действительные сложности, обусловленные воображаемым существованием личности, лежат намного глубже.
Дело в том, что отчуждение от Реального чаще всего затрагивает ситуацию удовлетворения потребностей, в том числе и тех, что связаны с самостью (сэлф-потребности, см. ранее, с. 182). "Ложная самость" интенсивно поддерживает себя за счет действий и поступков, рассчитанных на восхищение аудитории, а подлинные экзистенциальные потребности не просто фрустрируются, но все реже и реже дают о себе знать — с каждым актом воображаемого само-конституирования человек отдаляется от своей настоящей природы. Хорошим примером является описанный мексиканским поэтом и критиком Октавио Пасом дохляк — маргинальный тип личности латиноамериканца, не сумевшего ни интегрироваться в американскую культуру, ни сохранить собственную этнокультурную идентичность45.
Размышляя над этим и другими литературными примерами воображаемого конституирования, я поняла, что представить конкретные описания терапии в рамках данной проблемы очень сложно. Налицо классический парадокс: воображаемое самоконституирование (в своей развитой форме) исключает обращение за психотерапевтиче-
[214]
ской помощью, и наоборот — признание необходимости последней (а, значит, того факта, что в жизни не все так уж хорошо) способствует разрушению данного паттерна поведения. Настоящие "воображалы" никогда не признаются в этом ни себе, ни другим.
Люди, страдающие от засилья Воображаемого, засоряющие Воображаемым свое и чужое жизненное пространство, воспринимаются окружающими очень специфически. Они и раздражают (своей агрессивной неадекватностью, примитивно завышенной самооценкой), и в то же время вызывают жалость и желание помочь. А помогать без запроса не принято, да и нельзя. Кроме того, ситуация самораскрытия для таких лиц — предельно дискомфортная, особенно в случаях, когда собеседник является человеком проницательным.
Одним словом, остается позаимствовать изображение данного феномена в литературе. Вот как описывает своего дохляка Октавио Пас:
"Их отличает какой-то опасливый и взбудораженный вид — вид людей, переодетых в чужое и боящихся постороннего взгляда, который может их вдруг раздеть, пустить нагишом. Разговаривая с ними, я понял, что настроение у них — вроде маятника, потерявшего ритм и болтающегося теперь, не жалея сил, то туда, то сюда. Такое вот состояние духа — или уж, точней, полное его отсутствие — и породило тех, к кому приклеилось словечко "дохляк"...
Неспособные усвоить окружающую цивилизацию, которая, со своей стороны, их попросту выталкивает, дохляки не придумали иного способа противостоять всеобщей враждебности, чем обостренное самоутверждение... Дохляк знает, что высовываться опасно, что его поступки раздражают общество, — наплевать, он как будто сам ищет травли, манит преследователей, нарывается на скандал... Безответный и презрительный, дохляк не мешает все этим чувствам сгущаться, пока они, к его болезненному удовлетворению, не выплеснутся в драку у стойки, налет или вспышку сокрушительной злобы. И тогда, в минуту затравленности, он находит себя, свое подлинное Я. свою неприкрытую суть, удел парии, человека, который — никто" [50, с.11-14].
[215]
Тут схвачена очень характерная для обилия Воображаемого особенность — саморазрушительные тенденции, то, что в психоаналитической классификации называется аутодеструктивной (self-defeating) личностью. Какая же связь между Воображаемым и агрессией извне?
В конце 70-х годов, уточняя ряд конкретных аспектов своей теории, связанных с психозами и социально-психопатическим поведением, Лакан предложил еще одно понятие со сходной семантикой — кажущееся (нарочитое) — по-французски semblant. Этим словом принято обозначать все, что субъект делает невзаправду, понарошку и, хорошо понимая "невсамделишность" полученного результата* (будь то научный результат, социальный ритуал или собственный имидж), яростно требует от окружающих его уважения и признания.
Посягательство на кажущееся вызывает взрыв негодования. В равной степени чужое кажущееся выглядит покушением на собственные "мнимости", делает уязвимым воображаемое самоконституирование как таковое. Именно этот момент отражен в тексте Октавио Паса.
Следует заметить, что расхожие, общепринятые представления о природе собственного Я в истории психоанализа пересматривались не однажды. Достаточно революционными для своего времени были взгляды на Эго, изложенные Фрейдом в работе "Введение в нарциссизм" (1914). Через двадцать лет защитная функция Я была подробно описана Анной Фрейд и, наконец, лакановский психоанализ выразил свою точку зрения в экстремальной форме: наше собственное Я, мыслящий субъект (cogito) есть иллюзия разума, созданная им в попытке защититься, ускользнуть от воплощения своей подлинной экзистенциальной природы.
Классический психоанализ еще позволяет сохранить представление о Я как о некоторой оболочке или коконе,
* Интересно, что создание концепции кажущегося совпало по времени с острыми разногласиями между Лаканом и сторонниками классического направления. В ряде статей (например, "Варианты образцового лечения"), написанных много раньше 1968 г., Лакан очень язвительно клеймит "правоверных фрейдистов" за кажущиеся успехи в терапии и дутый личный авторитет.
[216]
защитной поверхности, работающей одновременно на два фронта — против травм, причиняемых внешним миром, и против побуждений, идущих изнутри самого человека. Лакан в своей теории исходит из того, что Воображаемая природа Я создается другими людьми и навязывается индивиду в том возрасте, когда он еще не способен ни критически относиться к своему восприятию, ни сосредоточиться на осознании собственных внутренних импульсов. Одним словом, наше Я — нечто совсем другое, вовсе не то, чем мы его привыкли считать:
"Чем дальше следуем мы за мыслью Фрейда на третьем этапе его творчества, тем яснее предстает у него Я в качестве миража, в качестве суммы идентификаций. Конечно, Я действительно располагается в месте того достаточно бедного синтетического образования, к которому субъект сводится в собственном о себе представлении, но оно в то же время являет собой и нечто иное, оно находится и в другом месте, оно имеет и другой источник" [35, с. 297, курсив мой — Н.К.].
Крылатое выражение Артюра Рембо "Я — это Другой" часто фигурирует в роли своеобразной эмблемы взглядов Лакана. Кто же этот Другой, или, на языке признанного мастера литературы нонсенса Эдварда Лира, — мнезнакомец, ты кто?
Лакан говорит о дискурсивной природе Другого. Он исходит из того, что место Другого — общепринятые формы речевой практики, дискурс большинства, способы выражения (артикуляции) Реального, предлагаемые языком и культурой. Общее пространство культуры, "русла возможной речи", выстраивающие универсум человеческого бытия, образуют третий регистр психики, Символическое.
Символическое — это структурный уровень языка и социальных отношений. На этом уровне субъект больше не является Бытием-в-себе (Реальным) или Бытием-для-себя (Воображаемым), а скорее — Бытием-для -других. Символическое формируется на фаллической стадии развития. Узловым моментом является исходная эдипова ситуация, от которой зависят первые формы социальных взаимодействий ребенка. Сама природа Символического
[217]
состоит в том, что это структурирующее начало, некий порядок, место культуры, где осознаются и распутываются "судьбы влечений". Структурированное, упорядоченное бессознательное (желания Реального) обретает символические формы для выражения, или, в терминологии Лакана, невыразимая реальность бессознательного, означаемое, находит для себя означающее.
Пожалуй, одним из самых темных (и часто поэтому толкуемых превратно) мест лакановской теории является связь между Воображаемым (Я) и Символическим, имеющая природу смерти. В отличие от Воображаемого субъекта (отчуждающей иллюзии, набора идентификаций), субъект Реального, по Лакану, есть субъект, испещренный зияниями — провалами, отверстиями бесконечных полиморфных беспредметных желаний, желаний sui generis, "нехватки ничто". Этот бессознательный субъект обретает [ощущение] себя в моменты Символического означивания желаний, противоположные по своей природе Воображаемому удовлетворению. Для личностного Я восприятие таких моментов маркировано удовольствием, однако последнее слишком часто повергается вытеснению, на месте которого остается аффект. Страх смерти (не рационализированные Воображаемые представления типа "вот-умру-тогда-пожалеете!", а подлинный смертный ужас) — аффект, помечающий главное зияние, ту самую "нехватку ничто", которая и составляет экзистенциальную основу нашего Бытия-к-смерти46.
Может быть, для лучшего понимания стоит обратиться к первоисточнику. Лакан писал об этом неоднократно;
нижеследующий текст — это прямое разъяснение данного тезиса, ответ участнице семинара на вопрос о связи между Я и смертью:
"Как определить место Я по отношению к общей речевой практике и тому, что лежит по ту сторону принципа удовольствия?... В конечном счете, между субъектом-индивидом, с одной стороны, и субъектом, смещенным по отношению к центру, субъектом по ту сторону субъекта, субъектом бессознательного, с другой, устанавливаются своего рода зеркальные отношения.
[218]
Само Я является лишь одним из элементов той общей для всех речи, которая и есть речь бессознательная. Именно в качестве самого себя, в качестве образа, включено оно в цепочку символов. Оно представляет собой необходимый элемент введения реальности символической в реальность субъекта, оно связано с зиянием, которое налицо в субъекте с самого начала. В этом, первоначальном своем смысле оно оказывается в жизни человеческого субъекта ближайшей, интимнейшей и самой доступной формой, в которой является ему смерть.
Связь между собственным Я и смертью исключительно тесна, так как собственное Я представляет собой точку пересечения между общей для всех речью, в плену у которой оказывается отчужденный субъект, с одной стороны, и психологической реальностью этого субъекта, с другой.
Воображаемые связи у человека искажены, ибо в них возникает то зияние, посредством которого обнаруживает свое присутствие смерть. Мир символа, в самой основе которого лежит явление настойчивого повторения, является для субъекта отчуждающим — точнее говоря, он служит причиной того, что реализует себя субъект лишь там, где его нет, и что истина его всегда в какой-то части от него скрыта. Я лежит на пересечении того и другого" [35, с.298-299].
Мне пришлось привести весьма обширную цитату, чтобы продемонстрировать не только сложную диалектику означивания желаний Реального в Символическом регистре, но и преемственность между идеями Лакана и мыслями Фрейда, изложенными в книге "По ту сторону принципа удовольствия". Эта работа, относящаяся к третьему, наиболее зрелому периоду научного творчества великого психолога, не может похвастаться такой популярностью у практикующих аналитиков, как "Я и Оно" или "Три очерка по теории сексуальности". Может быть, потому, что в ней Фрейд весьма осторожно, если не сказать — скептически, относится к возможностям психоанализа как метода лечения глубоких психических расстройств. "Все дело в том, что глубоко вытесненное не возвращается," — говорил Фрейд. "Если за именуемым что-то есть, то оно не именуемо. И в силу неименуемости своей (во всех оттенках смысла, которые в слове этом можно расслышать)
[219]
сближается с неименуемым по преимуществу — со смертью," — вторит ему Лакан [35, с. 301].
Но вернемся к Символическому. Несколько упрощая, можно считать, что на первичном уровне, в Реальном, психическое развитие определяется экзистенциальными категориями аффекта и чувственного опыта. Далее, на уровне Воображаемого, феноменология сознания превращает чувственный опыт субъекта в идеальный образ самого себя, и, наконец, на Символическом уровне социальных отношений основной упор делается на отношения между субъектом и другими людьми.
С развитием Символического несмышленый младенец становится другим. Точнее, попадает под власть Другого. Для обозначения человека в структурном психоанализе используется понятие "субъект". Субъект у Лакана — это человек, субъект психики и одновременно индивидуальная личность, субъект деятельности, восприятия и осмысления действительности. Другой — это субъект бессознательного, для которого регистр Реального является естественным и привычным, а Воображаемого не существует вовсе (или, по крайней мере, оно не принимается во внимание).
Другой — это иной, инако- мыслящий, видящий, чувствующий. Это ключевое понятие в европейской философии второй половины XX века, в частности, в постмодернизме. У Лакана Другой определяется строго психоаналитически, как источник (и одновременно результат) процессов вытеснения и сопротивления. Я и Другой диалектически связаны между собой, а истоки этой связи коренятся в невозможности осознать и принять истину своего существования (Реальное). Лакан пишет: "Референтом собственного Я является Другой. Собственное Я устанавливается в отнесенности к Другому. Оно является его коррелятом. Уровень, на котором происходит переживание Другого, в точности определяет уровень, на котором, буквально, для субъекта существует собственное Я" [34, с.б9].
Иными словами, формирование (конституирование) субъекта вбирает различные типы опыта его со-бытия с Другим. Хочу привести пример такого события, экстремальной жизненной ситуации, в которой взаимодействие
[220]
с Другим заложило основы экзистенциального мировосприятия личности. Этот случай из практики произошел во время работы обучающего семинара по глубинной психологии, после лекции, на которой обсуждалась лакановская трактовка симптома и фантазма. Анализ в качестве ко-терапевтов проводили две участницы семинара, а я сопровождала терапию супервизорским комментарием.
Клиентка (назову ее Айше) — молодая женщина лет двадцати пяти. Свою проблему она сформулировала как систематические трудности в чтении выразительных мимических реакций при общении с незнакомыми людьми. Если мало знакомый значимый человек (преподаватель вуза, руководитель) в разговоре с Айше проявляет живую мимику, то она сразу теряется, испытывает речевые затруднения и переживает сильный страх. Сама клиентка рассказывает об этом так (сохранены авторские особенности речи — слегка неправильный русский язык):
Айше: Я ничего не понимаю. Если человек говорит, волнуется, хмурит брови или смотрит на меня — очень боюсь, от страха забываю, что надо сказать. Даже если учила и все знаю, я думаю, он сердится. Даже необязательно, чтобы кричал — если смотрит строго и молчит, тоже страшно. А когда задает вопросы — я их совсем не понимаю, боюсь переспросить, даже посмотреть на человека.
После пятиминутного обсуждения проблемы и нескольких попыток разъяснить Айше, что в такой ситуации нечего бояться, она рассказала следующую историю:
Айше: Когда мне было 4 года, однажды вечером, когда уже темнело, я шла мимо разрушенных домов, и один человек (это был молодой парень, высокий, с черными волосами) сказал мне: "Пойдем, я тебе что-то покажу". Я не хотела, но он взял меня за руку и завел в полутемный подвал. Там плохо пахло, а на стенах были какие-то рисунки. Этот парень говорит: "Посмотри!", но было плохо видно. А потом он сказал: "Я хочу, чтобы ты плакала, мне нравится, когда дети плачут". А я сказала: "Не буду плакать", и тогда он стал меня пугать. Начал что-то быстро и гром-
[221]
ко говорить, кричал, смотрел на меня. Я видела его лицо, очень боялась, но все равно не заплакала.
Тогда он схватил меня за волосы и ударил об стенку, но я решила, что не буду плакать, и не плакала. Я понимала, что он нарочно пугал — то смеялся, то кричал на меня. А потом достал из кармана нож или бритву, что-то блестящее, было плохо видно, и стал резать себе лицо и руки. Кажется, разрезал бровь или веко {показывает на себе), сделал порез на щеке, а потом разрезал на руке вену, потекла кровь, и он этой кровью пытался рисовать на стене что-то. Я тогда поняла, что эти картины нарисованы кровью, и запах тоже крови. Он упал, закричал, попытался встать, а я убежала, сильно испугалась. Родителям ничего не сказала, сказала, что упала на лестнице в темноте, они меня поругали, чтоб я вечером не ходила, где не надо.
Я после этого несколько лет плохо говорила по-русски, но случай на всю жизнь запомнила. Вот, например, я совсем не ем мясо, не могу даже смотреть на сырое мясо, потому что в нем кровь. Я потом, когда выросла (мне лет 14 было), стала нарочно ходить вечером одна, надеялась его встретить. Потому что боялась, что он там умер, в подвале, из-за этого. Я стала интересоваться абстрактной живописью, всегда на выставки хожу, читаю о ней книги. Те картины на стенах, мне кажется, были абстрактными.
Случай этот я никому никогда не рассказывала, сама пыталась понять. После школы пошла санитаркой в операционную, хотела понять, как хирург режет человека и все равно добро делает. Хотя и крови боялась, но работала почти год. (Пауза. Явно Айше пытается высказать связь между детской травмой и своей нынешней жизнью). Я из-за этого с людьми теперь почти не спорю и не ссорюсь, никогда другого человека не обвиняю, а хочу его понять. Вот недавно мы с подругой разговаривали, она на меня обиделась, потому что не поняла. А я на нее обиделась, что она не понимает. И сразу почувствовала себя виноватой, понимаете? Я очень хочу людей понять, поэтому пошла на психологию. И мне трудно, когда я человека не понимаю, страшно. Такая проблема у меня.
[222]
Во время рассказа Айше стояла абсолютная тишина, все напряженно слушали и сопереживали. ("Создалось впечатление, как будто пересказывается фильм гениального режиссера", — говорили позже участники семинара). Экзистенциальный статус ситуации был столь очевидным, что начинающие ко-терапевты в своем стремлении помочь забыли о привычных опасениях, связанных с недостаточным уровнем собственных психотерапевтических навыков и умений. Они сразу попытались прояснить связь между непониманием маленькой Айше действий маньяка и актуальной проблемой взрослой женщины.
В ходе работы стало понятно, что Айше идентифицирует выразительную мимику незнакомого собеседника с угрожающим поведением маньяка, гримасы и крик которого навсегда "впечатались" в опыт клиентки, образовав специфическую матрицу, структурирующую сложности межличностного взаимодействия. Одна из ко-терапевтов, мать двоих маленьких детей, заняла непримиримую осуждающую позицию, в рамках которой пыталась жалеть и утешать Айше, резко критикуя поведение парня, "по вине которого произошел весь этот ужас".
Не отрицая ужасный и травмирующий характер эпизода, Айше воспротивилась идее виновности маньяка. В ходе диалога с первым ко-терапевтом стало очевидно, что виноватой она считает себя, и вина эта носит экзистенциальный характер, поскольку Айше в течение жизни много раз пыталась искупить ее и пришла к убеждению, что искупление невозможно. Одновременно стало понятно, почему сам рассказ о случившемся имел столь выраженный катартический эффект. Вот фрагменты этого диалога:
Т (терапевт): Айше, Вы понимаете, что он, возможно, хотел убить Вас?
Айше: Не знаю. Я потом, когда выросла, много думала — зачем он меня позвал в этот подвал? Может быть, если бы я посмотрела на те картины, он бы не стал себя резать. Я очень хотела его встретить, потому что боялась, что он .умер там, в подвале, из-за меня. Столько крови...
[223]
Т: Ведь Вы испугались, особенно когда он достал нож. Он мог Вас зарезать, изнасиловать — все, что угодно, может сделать ненормальный человек с маленькой девочкой.
Айше: Но он порезал себя, потому что я его не поняла, даже не захотела посмотреть. Эти картины были для него очень важными, он специально искал, кто может их понять. Наверное, поэтому он позвал маленькую девочку, что его взрослые не понимали. Он надеялся — может, дети поймут.
Т: А зачем он заставлял Вас плакать?
Айше: Он сам заплакал, когда упал. Я только потом поняла, что он рисовал эти картины своей кровью и плакал, что они никому не интересны, никому не нужны. Я бы хотела иметь у себя дома абстрактные картины. Просила одну свою подругу, художницу, нарисовать так. Я бы купила такую картину за любые деньги, не пожалела бы.
Второй ко-терапевт пытался проверить догадку о том, не связан ли страх в общении у взрослой Айше с ужасом, испытанным ею в детстве:
Т: Ты тогда сильно испугалась, когда он кричал и делал гримасы. Поэтому и сейчас боишься, когда собеседник жестикулирует и громко говорит?
Айше: Да, и теперь я боюсь, если человек, мужчина, высокого роста и с черными волосами. Я долго привыкнуть не могу, должно пройти полгода, год, пока не привыкну.
Т: То есть ты боишься собеседников и черноволосых мужчин, как того маньяка? Боишься, что они могут причинить тебе вред?
Айше: Нет. Я сейчас расскажу, как на самом деле. Я не боюсь, что он мне плохо сделает, я боюсь, что его не пойму. Я в детстве много думала, что с тем художником потом стало. Я не боялась, что он меня убьет, а что он сам умрет. Поэтому ходила вечером, хотела его встретить, увидеть, что он живой. И сейчас не человека боюсь, а что не пойму, как тогда, в детстве. Из-за этого может очень плохо быть людям. Я всегда хочу понять, потому что это самое плохое — когда человека не понимают.
[224]
Терапевт в замешательстве обращается к супервизору и группе:
Т: Я сама ничего не могу понять. Такое ощущение, что Айше этого маньяка не боится, а жалеет. Как будто она даже сейчас не понимает, чем все могло кончиться. (Подключается второй ко-терапевт): А какое описывает виктимное поведение! В четырнадцать лет ходила по вечерам одна, надеясь встретить маньяка.
Айше: Его никто не понимал, не хотели смотреть его картины, поэтому он стал таким. Конечно, мне его жалко. Он себя так ужасно порезал, а я никому тогда не сказала. Если бы рассказала, могли бы его спасти. Пусть даже в тюрьму посадили, но человек бы живой остался. Я понимаю, что маленькая не виновата была, и все равно знаю, что виновата. Я боялась, что родители будут ругать, а он, может, умер там, в подвале.
Догадка ко-терапевтов о том, что причиной проблемы клиентки является бессознательный страх, пережитый в детстве, оказалась не совсем верной. Привычные психоаналитические представления о вытеснении, проекции неосознанного и непроработанного страха мешали понять экзистенциальную природу вины, испытываемой Айше, и вторичности чувства страха, связанного с этой виной и обусловленного ею. Супервизор мог бы дать более точную интерпретацию, однако тут возникла еще одна проблема, связанная с обучающим характером работы семинара.
Дело в том, что в качестве ко-терапевтов на сей раз выступали студенты с высокой тревожностью по поводу своих терапевтических способностей и умений. Если бы я сама продолжила работу с клиенткой, ко-терапевты восприняли бы это не просто как неудачу, но, скорее всего, как полный крах собственных усилий. В то же время успех в оказании помощи Айше рассматривался бы ими как незаурядное достижение. Он мог стать настоящей инициацией, и не только для двух участников, но для всей группы, большинство членов которой поглядывало на меня, ожидая вмешательства "настоящего профессио-
[225]
нала". Напряжение, и без того высокое, все возрастало. Поэтому я поступила так:
С (супервизор): Давайте попробуем разобраться в подлинной природе проблемы, а также в том, как эта природа связана с ситуацией терапии. Айше не понимает выразительной мимики, в детстве она не поняла картин и поведения высокого черноволосого парня. Ко-терапевты не понимают ее восприятия травмирующего эпизода и поэтому не понимают, как помочь Айше. Если Айше поймет их трудности, терапевты поймут, в чем заключается помощь. И тогда будут решены сразу две проблемы: та, о которой рассказывает Айше, и проблема самих терапевтов — они станут более уверенными в своих профессиональных возможностях.
Таким образом, перед ко-терапевтами встала та же проблема экзистенциального понимания, которую пыталась решать в течение жизни их клиентка. Именно страх не понять другого человека, экзистенциальная вина перед "художником" (Айше не случайно называет его так), а не страх перед маньяком, страх насилия, лежит в основе трудностей клиентки. Этот страх преобразован теперь в задачу объяснить другому свой внутренний мир, глубинную природу переживаний. Терапевты знают, что если они поймут Айше, то тем самым поймут, что делать дальше и преодолеют свой собственный страх непонимания операциональной стороны психотерапевтического воздействия.
Посовещавшись, ко-терапевты (соответственно первый обозначен ПТ, и второй — ВТ) пробуют снова:
ВТ: Мы не можем понять чего-то очень для тебя важного, Айше, хотя и очень стараемся. Что-то от нас ускользает.
ПТ: Что-то важное для Вас, а для нас, наверное, второстепенное, я так думаю.
ВТ: Что было самым важным тогда, в детстве?
Айше: Эти картины на стенах. Если бы я их посмотрела, все, может быть, было бы по-другому.
С (обращаясь к ко-терапевтам): А для Вас что в рассказе Айше самое важное, самое главное?
[226]
ПТ: Ну, сам рассказ... он такой, мороз по коже. ВТ: Не каждый клиент переживает в детстве эпизод встречи с маньяком.
С: Для Айшг этот страшный эпизод — встреча с художником, а для большинства присутствующих — рассказ о встрече с маньяком. Продумайте, почему возникло такое отличие?
Оба терапевта, наконец, понимают Айше и ее видение ситуации:
ВТ: Ты не виновата, что не рассмотрела картины тогда! Любой четырехлетний ребенок просто испугался бы, и все.
ПТ: Да и что можно понять в абстрактной картине в четыре года!
ВТ: Раз ты не поняла тогда, то сейчас ты как бы запрещаешь себе понимать мимику — из-за того, что в детстве мимика этого парня помешала тебе понять его картины.
ПТ: Но сейчас Вы это поняли? Вы согласны с нами?
Айше: Да, наверное.
ПТ: Если Вы сейчас поняли, что в детстве были ни в чем не виноваты, то, значит, Вы поняли все, чего не понимали раньше в этой ситуации — и тогда, в детстве, и сейчас, когда о ней думали.
ВТ: Теперь ты поняла все про ту встречу — и можешь не бояться больше. Можешь не бояться, а понимать!
Заключительные слова клиентки показывают, что смоделированное ко-терапевтами разрешение (проблемы) через понимание (происшедшего в детстве) есть действительно разрешение понимать:
Айше: Я думаю так, что теперь понятно. Я не могла об этом случае никому рассказать — боялась, что меня не поймут, осудят. То есть что другие люди будут как я тогда — не захотят прислушаться ко мне, присмотреться. Но если люди меня не поняли — они не виноваты, я не стану сердиться. И я не виновата, если кого-нибудь не пойму. Просто надо стараться больше понимать, и не осуждать никого, если не получается.
[227]
ВТ: Когда я поняла Айше, я не только поняла, в чем ее проблема, но и в чем моя тоже. Так что мы квиты — она помогла мне, а я ей.
ПТ: Ее проблема решилась, когда она поняла, что мы ее поняли. Теперь она сможет понимать и дальше.
Айше: Да, я согласна. Все правильно, спасибо большое.
Анализируя этот случай, можно выделить два взаимосвязанных между собой аспекта, над которыми стоит поразмышлять. Первый — способ взаимодействия Айше с парнем, которого она называет художником, и второй — способ переработки детской травмы. Начну со второго как более наглядного и лучше отраженного в ходе терапевтической работы. Айше восприняла и поняла встреченного субъекта как экзистенциального Другого, она не стала (или не смогла) маркировать его в качестве маньяка, насильника, психопата.
Поведение черноволосого юноши можно рассматривать как адресное. Айше — адресат, получившие своеобразное послание от Другого, означенного как художник. Девочка, хотя и была сильно испугана, пыталась понять странного человека. Экзистенциальная природа понимания проявилась в том, что для Айше ведущими концептами, организовавшими восприятие Другого, стали одиночество творца, трагизм непризнания, скорбь. Вполне возможно, что окажись на ее месте человек, воспринявший ситуацию как эпизод встречи с маньяком, последняя закончилась бы намного хуже.
Ко-терапевты правильно рассматривали основную проблему Айше (непонимание мимики) как результат переработки детской травмы. Они ошиблись лишь в понимании того, какая это травма — ущерб, но ущерб, нанесенный себе (а не другим). Другие не поняты, а не неправые. Когда стало понятно, то наступил момент утверждения экзистенциального статуса себя как способной к пониманию Другого. И действительно, Айше в общении очень эмпатийна, человечна, стремится понять людей, встав на их точку зрения. Она производит впечатление совсем не эгоистичного человека, доброго и участливого.
[228]
Удивительно, что к экзистенциальному пониманию оказалась способна маленькая четырехлетняя девочка. Хотя, с другой стороны, именно ребенок, не обладающий запасом общепринятых социальных стереотипов восприятия, смог понять Другого, а не только испугаться.
Это пример показывает, что бессознательный Другой (субъект бессознательного) может захватить контроль над сложной жизненной ситуацией и вполне успешно справиться с ней. Ведь Другой — это еще и некая персонификация Символического, формирование личности, ее конституирование всегда происходит "перед лицом Другого". Социокультурная реальность является для бессознательного субъекта главным источником означающих и целиком определяет процесс означивания. Символический Другой, понимаемый как субъект бессознательного, дополнительный к сознаваемым намерениям и интенциям личности, ее глубинное альтер-эго, оказывается воплощением рафинированных форм социальности, а выражаемые при его содействии глубоко интимные аспекты внутреннего опыта — укорененными в культурном универсуме смыслов и значений. Далее я покажу, что этот парадокс (один из многих у Лакана) является ключевым для терапевтического анализа.
Символический порядок есть условие существования субъекта, но устанавливает этот порядок Другой. Хорошее описание природы Символического Другого дает Рената Салецл:
"В лакановском психоанализе другой — символическая структура, в которую субъект оказывается постоянно вовлеченным. Эта символическая структура не является позитивным социальным фактом, она носит квази-трансцендентный характер и формирует структурирующую рамку нашего восприятия реальности. Ее природа нормативна. Ее мир — мир символических правил и кодов. Сама по себе она не принадлежит психическому уровню: это радикальным образом внешний непсихологический универсум символических кодов, регулирующих наш психический опыт. Ошибочно пытаться как интернализовать Большого Другого и редуцировать его до психологического факта, так и экстернализовать
[229]
Большого Другого и редуцировать его до институций социально реальности" [59, с.32].
На эдиповой стадии ребенок учится подчиняться социальным нормам и запретам, удовлетворять свои желания в соответствии с правилами культуры. Главную роль в этом процессе социализации играет инстанция, которую Лакан называет "Имя Отца". Отец (в широком смысле этого слова — старший, субъект власти и закона) выполняет функцию Символического Другого: упорядочивает действительность и учит ребенка жить в обществе и соблюдать его законы. Неоформленные, бессознательные желания Реального выражаются и формулируются под влиянием Другого, объясняющего нам, как именно хотеть того, чего хочется.
Мысль о том, что наши желания — не такие уж и наши, исконно собственные, может показаться странной. Однако с самого детства родители и воспитатели, равно как и всевозможные связанные с ними интроекты — будь то Имя Отца, Сверх-Я, Я-Идеал или ангел-хранитель — упорно и настойчиво учат ребенка, что он должен хотеть, как правильно выражать (артикулировать) свои желания, и какие желания можно иметь, а какие — нет. Искушенный педагог не станет прямо запрещать ребенку недозволенные вещи, он мягко заметит, что "хорошие девочки не хотят водиться с грубыми, невоспитанными, плохо одетыми драчунами". Показательный диалог приводит в одной из своих повестей Сергей Довлатов:
— Мужчина ты или кто? Ты должен желать меня. В смысле — хотеть. Понятно ?
— Да не желаю я тебя хотеть! Вернее, не хочу желать.
Откуда же берутся наши желания? По Лакану, желания — это влечения Реального, измененные и преобразованные экзистенциальным присутст-
[230]
вием Символического Другого. В качестве фундаментальной предпосылки следует рассматривать отношения между желанием, свободой и Другим. Человек утверждает свою свободу в акте противостояния Другому, делая его объектом своего желания. "Я направляю свой взор на Другого, который смотрит на меня. Но взгляд не может быть увиден... С этого момента Другой становится существом, которым я владею и который признает мою свободу" [114, v.2, р.84]. Здесь Лакан использует гегелевскую диалектику хозяина и раба, чтобы ясно выразить фундаментальные отношения между субъектом и Другим. В отношении к Другому хозяин пытается отстоять свою свободу, контролируя свободу Другого. Это требует превращения другого субъекта в пассивный объект обладания и манипуляции, который признает власть хозяина и его свободу. На ту же тему иронизирует в приведенной выше цитате и Довлатов.
Лакан считает, что субъект может стать хозяином Другого только в связи с сексуальным желанием последнего. "Моя первая попытка стать свободной субъективностью Другого через его объективность-для-меня — это сексуальное желание" [там же, р. 81]. Для этого в сексуальном желании Другой преобразован в объект внутри определенной ситуации. Более того, желание превозмогает нарциссические интенции субъекта и позволяет ему вступить в отношения с доминирующим Другим (раз уж я побежден своими желаниями и не могу ими управлять). "Позвольте любому человеку руководствоваться своими переживаниями; уж он-то знает, до чего сознание засорено сексуальными желаниями" — пишет Ж.-Л.Нанси.
О дискурсе сексуального желания в связи с актом ласки говорит и Ж.-П.Сартр: "Когда я ласкаю ее тело, Другой рождается под моими пальцами. Ласка — это ансамбль ритуалов, воплощающих Другого" [121, р. 506-7]. Ласка репрезентирует влечение, определяемое серией ритуалов, источник которых — желание Другого существовать внутри Символического порядка языка и закона. "Поэтому жесты влюбленных — это язык, на котором можно говорить и которому можно обучиться" [там же, р.507]. Изучая влече-
[231]
ние, можно изучить также и язык желания и, в конечном счете, понять, как он включен в структуру человеческой сексуальности. Исторические аспекты этой проблемы, историю власти, наказаний, безумия и сексуальности, подробно исследовал М.Фуко [84, 85].
Еще одна оригинальная теория желания предложена единомышленниками Лакана Жилем Делезом и Феликсом Гватгари. В своей работе "Анти-Эдип (капитализм и шизофрения)" (1972) они предприняли фундаментальное структурно-аналитическое исследование желания. "Анти-Эдип" — сложный, типично постмодернистский текст, однако содержание его стоит того, чтобы приложить усилия к пониманию результатов авторской мысли.
Желание у Делеза и Гваттари, как и у Лакана, трактуется как желание реального, о котором субъект ничего не знает. Желание бессознательно, это нечто, отчуждаемое от потребности вытеснением, оно не может выразиться в запросе, обращенном к другому человеку. Лакан говорил о расколе (Spaltung) между желанием и потребностью: простое сексуальное влечение жаждет удовлетворения, в то время как любовь — это желание Другого (мы желаем, чтобы нас желали). Идеальный возлюбленный — тот, кто всегда желает меня как объект своей любви. В то же время желание Другого производит меня как некоторую субъективность — этот процесс называется актом конституирования субъекта.
Делез и Гватгари предметом своего исследования сделали способы конституирования субъекта желания, выработав для него особый стиль изложения, одновременно психиатрический и политический, и отказавшись в то же время от первенства дискурса над другими предпосылками языка. Последнее связано с попыткой ускользнуть от того, что они называют "диктатом означающего"; выразить невыразимое, оставшись за пределами ограничений, накладываемых любыми средствами выражения — вот задача, которую сами авторы декларируют следующим образом: "Означающее? Да оно нам просто ни к чему... Принудительная и исключительная оппозиция означающего и означаемого одержима империализмом означающего,
[232]
возникающего с появлением машины письма... Эта гипотеза объясняет тиранический, террористический, кастрирующий характер означающего" [106, р. 402].
Иными словами, "Анти-Эдип" есть попытка описать глубинную психическую реальность субъекта с помощью языка, в котором означающее не работает. Бессознательное не означивается ("для нас бессознательное ничего не значит, равно как и язык"). Для этого авторы пытаются выйти за пределы разрыва между субъектом высказываний и субъектом высказываемого. В высказывании клиентки "Не могу сказать, что я своего мужа ненавижу" первый субъект — та, что не может сказать, второй — та, которая ненавидит. Все высказывание в целом иллюстрирует раскол между желанием и потребностью, о котором было сказано ранее.
Описанное Делезом и Гваттари положение дел создано тем властным характером, который приобретают в любом обществе или культуре способы выражения желания и, соответственно, формы его удовлетворения. Любой способ выражения, любое означающее определяет желание. Желание реального, о котором субъект ничего не знает, превращается в желание чего-то (общество через свои социально-экономические, политические и культурные институты конкретно указывает — чего именно). Тогда единственный способ утвердить индивидуальную субъективность — это ускользнуть от любых означивающих систем, помочь своему реальному "просочиться" сквозь мельчайшие фильтры социальной власти. Для этого необходимы "активные и позитивные линии ускользания, которые ведут к желанию, к машинам желания и к организации субъективного поля желания... Давать потокам проскользнуть под социальными кодами, пытающимися их канализировать, преградить им путь" [106, р. 399-400].
Совокупность всех возможных форм проявления и реализации желания Делез и Гваттари называют производством желаний, оно образовано действиями машин желания. Субъект же — это просто связь между "машинами-органами", носителями (точнее, производителями) безличных желаний и "телом без органов" — своего рода потенци-
[233]
альной возможностью различных желаний. Это может быть, например, тело власти, капитала, дискурса, пищи и т.п., соответственно субъект, установивший с ними связь, желает высокого социального статуса, денег, говорить, есть и пр. Таким образом, у Делеза и Гваттари субъект предельно бессознателен, он есть момент связи механизма желания с возможностью, сама эта связь, а не то, что возникает, оформляется, конституируется в момент осознания и удовлетворения влечений.
Более того, субъект не производится отдельными актами связывания, посредством них процесс желания записывается на поверхности тела без органов. В форме записи таких возможностей конституируется само тело без органов. Так возникают принятые в культуре схемы вожделения, предопределяющие, кого (или чего), как и в каких ситуациях может возжелать субъект. В силу своей не-осознаваемости, скрытости, абстрактности они обладают поистине зачаровывающей силой: человек знает, чего он хочет, и ощущает силу своего желания, но сплошь и рядом не способен ответить на вопрос, почему хочет именно этого, именно такого. Так "машина желаний" превращается в "машину волшебства".
Другой, альтернативный путь — это упомянутая выше траектория ускользания. Субъект скользит по "телу без органов", не прикрепляясь к нему своими желаниями. Желание как бы просачивается сквозь "тело без органов", в любой момент времени субъект может удовлетворить желание, испытывая при этом наслаждение не от того, что он получил, приобрел, усвоил или проявил, а от ощущения "Это же я...", "это мое...". Такое бессознательное удовлетворение от своей истинной сущности свойственно "холостой" или "безбрачной" машине — чистому желанию субъекта. Бессознательное само себя воспроизводит, а человек при этом испытывает ни с чем не сравнимое ощущение своей подлинности. "Это же я, никакой, ничей, равный лишь себе самому..." Бытие человека естественно, он просто живет — подобно тому, как природные явления и процессы не преследуют никаких специальных целей, они просто есть. Так же и субъект в качестве "без-
[234]
брачной машины" просто есть, в качестве "желающей машины" хочет быть, а под властью "машины волшебства" должен и вынужден быть таким, как культурный образец, записанный каком-нибудь "теле без органов".
Приведенные рассуждения могут показаться слишком сложными. Но это не мешает им хорошо и точно отражать действительное положение дел. В терапевтической работе всегда нужно четко представлять себе диалектику бессознательных желаний участников анализа, иначе психотерапевт может легко втянуться в бесконечное производство желающих машин, в роли которых попеременно будут выступать субъекты, конституирующие себя в аналитическом процессе.
Иногда проекции бессознательных желаний создают немалые трудности. Приведу пример. Однажды клиентка У., привлекательная женщина лет 35, в групповой работе высказала довольно необычную жалобу:
К: У меня есть одна проблема, на самом деле очень серьезная. Дело в том, что я просто не могу смотреть по телевизору программу "Поле Чудес". Там ведущий, вы все знаете, такой... хитрый... как же его зовут... (забыла фамилию). Одним словом, он мне ужасно неприятен. Я просто отворачиваюсь и выхожу из комнаты, если идет эта передача.
В процессе групповой терапии выяснилось, что за неприязнью к телеведущему Л. Якубовичу скрываются сложные, амбивалентные чувства г-жи У. к ее знакомому. Один из членов группы попытался понять, чем Якубович напоминает этого приятеля. Оказалось, что внешне они совсем не похожи, у них разный рост, совершенно отличающаяся манера одеваться и разговаривать, одним словом — ничего похожего. Тогда я высказала предположение, что, может быть, этот знакомый (назову его Сергеем) напоминает Якубовича стилем своего взаимодействия с клиенткой. Она горячо с этим согласилась, а затем расплакалась и отказалась обсуждать проблему в группе.
В индивидуальной работе госпожа У. признала, что отношения с Сергеем, очень значимые для нее, зашли в тупик.
К: Я понимаю, что он просто использует меня. Как будто играет в очень хитрую игру — и всегда в выигры-
[235]
ше. Знаете, как Якубович — видно, что он умнее и хитрее всех этих гостей в студии, и он всегда выставляет их полными дураками. А те все равно смотрят ему в рот и ждут призов, выигрышей. Подарки ему дарят, заискивают, и еще пытаются взять верх. Я просто не могу на это смотреть — так и хочется закричать: вы что, не понимаете, что вас дурят?!
Было очевидно, что игровая ситуация взаимодействия телеведущего с участниками "Поля Чудес" представляет собой своеобразную миметическую копию отношений г-жи У. с ее возлюбленным. Поэтому телепередача стала постоянным напоминанием о неблагополучии в личной жизни, своеобразным "фантомом" проблемы, вызывавшим сильное отторжение. В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что клиентка сильно идеализирует Сергея. Попытка помочь взглянуть на ситуацию более объективно вызвала сильное сопротивление:
Т: Что Вас особенно задевает в поведении приятеля?
К: Нужно все время прятаться, скрываться. В конце концов, мы же не дети малые.
Т: Он скрывает роман с Вами?
К: Ну, он, знаете ли, занимает довольно высокое положение. Ему неприлично ко мне приходить. Послушайте, Вы понимаете, что я хочу сказать... (прямое указание клиента аналитику, что для правильного понимания последнему надо внимательно слушать).
Т: А Вас это устраивает?
К: Не то чтобы нет, скорее не совсем. (Линия ускользания проходит через дискурс). Мне бы хотелось не быть больше... Нет, скорее не хотелось, а так получается, что я значу... могу... одним словом я меньше, чем остальные.
Т: Поясните, пожалуйста, в чем тут дело.
К: Не скажу, что мне это нравится, но это жизнь. Такая жизнь меня не устраивает, а другой нет. Я совсем запуталась, как телезрители в студии. Особой радости нет, но жить по-другому — не выходит. Я с ним чувствую себя маленькой и глупой, и ничего не меняется. А он это устраивает... сильно устраивает это... это его... (Клиентка на-
[236]
чинает лепетать, как маленькая девочка, и в конце концов умолкает).
Слушая этот довольно бессвязный монолог, я обратила внимание на сниженную критичность восприятия жизненной ситуации. Применив лакановский принцип анализа "означающее как означающее"47, я поняла, что речевое поведение г-жи У. на сеансе — тоже миметическая копия: она ведет себя как маленькая девочка, и такой же предстает в ситуациях взаимодействия с Сергеем. Подчеркнутые выражения указывают на бессознательное желание быть меньше (быть маленькой). Очевидно, что возлюбленный использует это желание в своих интересах, поэтому госпожа У., с одной стороны, недовольна, а с другой — в качестве желающей машины — находит в сложившейся ситуации бессознательное удовлетворение.
Стало понятно, почему сложившаяся ситуация — дискомфортная, неудовлетворительная с многих точек зрения — остается неразрешенной. Фактически в отношениях с Сергеем клиентка чувствует себя юной, неискушенной, неопытной девушкой, почти девочкой. Ей по душе такая ипостась, а партнер, в свою очередь, прельщен возможностью иметь в одном лице и опытную любовницу и наивную, беспомощно-привлекательную. Они взаимно поддерживают совместную инфантильную фантазию, неподходящую для внешнего социального мира (где г-жа У. должна вести себя по-взрослому). Телепередача "Поле Чудес" и ее ведущий в качестве игровой миметической копии реальных отношений затрудняют "встраивание" этого паттерна в Символический регистр и напоминают о воображаемом характере взаимодействия.
Структурно-аналитическая парадигма предлагает неограниченные возможности для понимания бессознательного. По мере того как терапевт усваивает эту непростую, но уникальную по своей эффективности теорию, у него начинает формироваться более адекватное представление о сущности психотерапевтического взаимодействия. В большинстве случаев хорошая терапия имеет природу фантазма. Но прежде чем рассматривать его подробнее, следует остановиться на различных формах конституиро-
[237]
вания субъекта, главным образом воображаемых, поскольку именно они, как в предыдущем примере, лежат в основе психологических проблем невротического уровня.
6.4. Воображаемое. Симулякр. Порнография
Регистр Воображаемого всем хорошо знаком. Этот способ конституирования лежит в основе того, что принято называть социальной действительностью. Воображаемое, "ряд фикций, для отдельного индивида принципиально неустранимых", является проблемой не само по себе (это обычная, нормальная жизнь, работа, общение), а лишь в тех случаях, когда в качестве артефакта изолирует, отчуждает субъекта от его собственного уникального внутреннего опыта. В равной степени это касается и процессов искажения действительности (психологические защиты и т.п.).
Впервые специфику такой воображаемой подмены описал еще Фрейд в работе "Утрата реальности при неврозе и психозе" (1924). Позднее Лакан с раздражением говорит о типичной ошибке психоаналитиков и психиатров, отождествляющих психоз с засильем воображаемого, а не с отсутствием этого регистра: "Проблема состоит не в потере реальности, а в силе, вызывающей к жизни то, что заступает ее место. Но что проку говорить с глухими {психоаналитиками классического толка — Н.К.) — проблема ведь у них уже решена: склад бутафории находится внутри, и по мере надобности ее достают оттуда" [33, с.98].
Невроз у Фрейда представлен попыткой субъекта заменить потерю реальности воображаемыми объектами фантазии и идеализированными нарциссическими отношениями. Лакановскую теорию Воображаемого в какой-то степени можно вывести из представлений о неврозоподобном характере культуры и морали [79]. Однако идеи, высказанные Фрейдом в "Недовольстве культурой", в структурном психоанализе подверглись радикальным изменениям.
По мнению постмодернистов, стратегия подмены, имитации, симуляции является главной осью современного
[238]
общества. Человеческая жизнедеятельность почти не представляет Реальному возможностей для проявления, а большая часть наших социальных занятий и обязанностей описывается категорией гиперреального. Последнее, как пишет Ж.Бодрийяр, состоит из призраков реальности, которые он называет симулякрами. Симулякр — это замена реальных вещей (или чувств) подделками, причем область фальсификации затрагивает скорее смысловую сторону вещей и событий, нежели их онтологию.
Например, типичным для нашего социума проявлением супружеской любви являются подарки (цветы, парфюмерия, драгоценности). Если муж дарит все это жене вместе со своей любовью, выражая и символизируя (означивая) ее таким способом — перед нами естественная форма отношений. Если же он делает такие подарки вместо подлинного чувства, это симулякр. Любой психотерапевт неоднократно слышал подобные жалобы и взаимные претензии супругов.
Симулякры обладают определенной властью, прежде всего в сфере регулирования ценностей. Бодрийяр пишет:
"Симулякры — это не просто игра знаков, в них заключены также особые социальные отношения и особая инстанция власти... Имеется тесная связь между иезуитской покорностью души (perinde ас cadaver) и демиургическим замыслом избавиться от природной субстанции вещей, заменив ее субстанцией синтетической. Как и подчиненный организации человек, вещи обретают при этом идеальную функциональность трупа. Здесь уже заложена вся технология и технокра-тия — презумпция идеальной поддельности мира, которая находит себе выражение в изобретении универсального вещества и в универсальной комбинаторике веществ" [7, с. 116].
В сфере душевной жизни симулякр особо сильно стремится представить себя более реальным, чем сама реальность. Главное здесь — не столько имитация, сколько претензия на бытие. Истерические личности сплошь и рядом непомерно раздувают "мифы об истоках" и знаки (стигматы) реальности, осуществляют бешенную эскалацию вторичной истины, объективности и аутентичности. Терапевтическая конфронтация не всегда может остано-
[239]
вить, пресечь симуляционное моделирование, ибо, как уже говорилось, в нашем обществе симуляция широкомасштабна, обычна и типична.
Настолько, что сама реальность вынуждена совпадать с моделями симуляции. Симулякры уже давно более реальны, чем вещи, более значимы, чем слова. Они ценятся больше, чем действительность, и более желанны, поскольку просто люди (ценности, желания, чувства) далеко не так красочны, престижны и вездесущи, как рекламируемые повсюду симулякры. У естественного, природного человека нет потребности в абсолютно свежем дыхании. Более подробно о таких вещах можно прочесть хотя бы у В. Пелевина в "Generation П."
Одним из наиболее массовых симулякров современности (наряду с поп-искусством, рекламой, дайджестами и т.п.) служит порнография. Первоначально порнографию объясняли как результат сублимации сексуальных инстинктов, однако место, занятое ею в современной культуре, заставляет пересмотреть эту слишком простую теорию. По мнению постмодернистов, основной фантазм, реализующийся в порнографии (Сьюзен Зонтаг использует понятие "порнографическое воображение"), — не фантазм секса (Реального), а поглощение его гиперреальностью, симулякром. Вуайеризм48 порнография, говорит Бодрийяр, — это не сексуальный вуайеризм, но вуайеризм представления и его утраты, головокружение от утраты сцены и вторжения непристойного:
"Непристойность выжигает и истребляет свои объекты. Это взгляд со слишком близкого расстояния: вы видите то, чего никогда не видели, — вы никогда не видели, как функционирует ваш пол; вы не видели этого со столь близкого расстояния, да и вообще не видели — к счастью для вас. Все это слишком правдиво, слишком близко, чтобы стать правдой. И как раз это-то и зачаровывает: избыток реальности, гиперреальность вещи" [5, с.333].
Лакан помещает порнографию среди феноменов Реального, вписанных в психотический дискурс. Поскольку "бесполезно заниматься поисками того, какие фантазмы
[240]
(перверсивные49, фетишистские, первосцены) таятся в порнографии, ибо они блокированы ею же вследствие переизбытка реальности", порнографию можно рассматривать как вторжение реальной сексуальной экзистенции в регистр Воображаемого — по аналогии с перверсией, которая есть вторжение сексуального в Символическое. В работе "Перверсия, влечение и дискурс" (1963) Лакан пишет:
"Перверт — структуралист в глубине души, ибо он постоянно пытается привнести себя в сексуальную сферу Другого, символизирующего не только закон, но и любовь. Преобладание в садомазохистских отношениях униформы, сценариев и договоров выражает желание перверта отнести собственную сексуальность на уровень социо-Символического порядка, бросая вызов существованию Другого.
Перверсии, реализуя стремление выполнять роль отца, чаще всего используют эротизацию закона и языка. Можно сказать, что садист на Символическом уровне пытается подтвердить заключение: "Это я — Другой закона и желания" [114, р.171].
Иными словами, порнография — это "ручная" перверсия, которую может себе позволить нормальный (невротический, а не психотический) субъект. В своем эссе, посвященном порнографическому воображению, Сьюзен Зонтаг определяет порнографию "как общепринятый симптом сексуальной ущербности либо отклонения у ее производителей и потребителей" [22, с.65]. Поэтому встреча с элитными образцами психотического конститу-ирования, которые могут проходить по ведомству порнографии (например, романы Ж.Батая или "Мальдорор" Лотреамона) оборачивается для "нормального невротика" не удовольствием, а культурным шоком.
В отличие от порнографических или рекламных симулякров (часто совпадающих друг с другом) символизированное Реальное — та же порнолатрическая (блудопоклонническая) проза Ж.Батая или повести М-Лейриса — только начинают вторгаться в постсоветское культурное пространство. Так что фантазм как форма символического конституирования по-прежнему продолжает ассоциироваться с психической патологией, а психотерапевты все еще путают его с симптомом.
[241]
Способы истолкования в психоаналитических словарях термина "фантазм" выпукло отражают историю развития исследований психических реалий бессознательной душевной жизни. В англо- и немецкоязычных глоссариях этого слова нет вообще, зато Лапланш и Понталис начинают соответствующую статью следующим образом:
"Французское слово fantasme было заново введено в употребление психоанализом, и потому оно более нагружено собственно психоаналитическими смыслами, нежели немецкое Phantasie, причем это слово не соответствует немецкому в точности и имеет ограниченное употребление: fantasme — это особый продукт воображения, а вовсе не мир фантазий и не деятельность воображения в целом" [37, с.551-552].
Действительно, структурные психоаналитики широко используют слово "фантазм", помещая его в такие соблазнительные контексты, как "фантазм первоначальный, фантазм первоначал, первоначало фантазма", "фантазм как опора действительности", "фантазм: молчание женского наслаждения" и т.п. Чего стоят одни только названия работ — "Логика фантазма", "Возлюби свой симптом", "Все, что Вы хотели знать о Лакане, но боялись спросить Хичкока"!
Фантазм — это бессознательный сценарий получения удовольствия, план и способ удовлетворения желаний Реального, о которых субъект ничего не знает. Простейшая иллюстрация психологической природы фантазма — любое аутоэротическое удовольствие: автоматическое действие, вполне невинное (ковыряние в носу, в ушах, почесывание, пощипывание губы и т.п.). Почему эти бесцельные (с виду) действия приятны и успокаивают, так что люди машинально выполняют их в затруднительных ситуациях жизни? А самое главное — почему человек конфузится и краснеет, если обратить на них внимание, спросить, зачем он это проделывает?
[242]
Ответ достаточно прост. Все эти ковыряния и почесывания на самом деле — всецело сексуальные действия, приносящие субъекту аутоэротическое удовлетворение. Поэтому он краснеет, будучи публично застигнут в момент сексуального акта. Он знает, что делает (знает бессознательное), но сама связь с базовым уровнем полиморфно-перверсной сексуальности, в котором укоренены аутоэротические действия, вытеснена. Даже у тех, кто смутно понимает, что природа упомянутого поведения суть онанизм. Таким образом, даже простейший аутоэротический фантазм позволяет нам, что называется, и невинность соблюсти, и капитал (удовольствие) приобрести.
Конечно же, большинство наших фантазмов более сложны. Существует огромное множество воображаемых событий, посредством которых (в более или менее искаженном психологическими защитами виде) исполняются бессознательные желания, желания Реального. Фантазм — как бы окошко, открытое в Реальное, это своеобразный компромисс между принципом удовольствия и принципом реальности, посредством которого человек может хоть что-то узнать о своих подлинных желаниях.
Многие фантазмы относятся к самым ранним этапам психического развития (первоначальный фантазм), они повествуют о желаниях, которые человек не способен вспомнить, но в то же время и не может забыть (первосцена, детские фантазмы о совращении). Фантазм и перверсия сходны друг с другом, только извращение — это вторжение Реального в Символический порядок, а фантазм — экспансия Символического в экзистенцию Реального.
В этом — корни привлекательности фантазма. Он зачаровывает и обольщает, поскольку (на какое-то время) возвращает взрослого человека в давно утраченный, блаженный рай нарциссического удовольствия. Будучи продуктом воображения, фантазм противостоит воображаемой феноменологии социальной жизни, красочно описанной Лаканом: "Он (человек — Н.К.) примет деятельное участие в этом общем деле своим повседневным трудом и заполнит свой досуг всеми щедрыми благами культуры, которые — от детектива до исторических мему-
[243]
аров, от общеобразовательных лекций до ортопедии группового общения — дадут ему все необходимое, чтобы забыть о своем существовании" [36, с.51].
Лакановский вариант аналитической психотерапии основывается на фантазме. Последний присутствует в любых формах терапии, но крайне редко становится предметом изучения и осмысления. В какой бы форме не выражался сознательный запрос, бессознательное взаимодействие терапевта и клиента основывается на фантазме. Фантазм — это особый продукт Воображаемого удовлетворения посредством символизации запроса, обращенного к аналитику-Другому. Содержание запроса, обусловленное аналитической фрустрацией, символически приравнивается к успешной попытке означить желание.
Приведу пример достаточно простого фантазма в терапии. Одна из моих клиенток, госпожа Т., на очередном сеансе захотела обсудить со мной сексуальные претензии ее мужа. Она подробно рассказала о его запросах, подчеркнув, что сексуальные аппетиты мужа намного превышают норму. В частности, г-жа Т. с возмущением заявила, что муж настойчиво уговаривает ее заняться сексом втроем. "Приведи какую-нибудь свою подругу, и ты увидишь, как это замечательно. А мне не нужно будет идти к любовнице всякий раз, когда захочется чего-нибудь необычного".
Пересказывала это все клиентка очень эмоционально, то и дело подчеркивая, насколько такое поведение для нее неприемлемо, а желание мужа — попросту чудовищно. В какой-то момент я поняла, что фактически г-жа Т. бессознательно, но весьма настойчиво уговаривает меня поучаствовать в проекте ее супруга. В рассказе звучали вожделение и страсть, она, что называется, прямо облизывалась.
Соблазняющий характер ее поведения открылся мне в тот момент, когда я почувствовала, что и у меня тоже полный рот слюны. Почему я бессознательно откликнулась на это нехитрое совращение? Ведь мои фантазмы (насколько я их знаю) не включают идею "menage a trois".
[244]
Фантазм госпожи Т. попросту индуцировал мой собственный. Я представила себе, как буду описывать все это — и соблазнение свершилось.
Предложив клиентке интерпретацию случившегося, я с трудом остановила ее расспросы. Как, у меня тоже есть фантазии? И такие необычные? Пришлось предпринять специальные усилия по восстановлению стандартной ситуации аналитической фрустрации.
Последняя имеет место в случае, когда позиция аналитика маркирована избытком означающих, тогда как клиент испытывает их недостаток. Деятельность терапевта фактически представляет собой конструирование фантазма. Поскольку фантазм представляет собой не действие и не событие, а эффект смысла50 в чистом виде, то различие целей участников терапии проходит не в плоскости Воображаемого и Реального, а в семиотических стратегиях, определяющих желание.
Аналитик в ходе терапии занимает то место в Символическом, с которым клиент отождествляется. Это положение, из которого субъект видит себя таким, каким ему хочется, чтобы его видели другие. В качестве места проекции Я-вдеала он может понять желание клиента и обеспечить ему доступ к этому пониманию — за счет эффектов смысла, обусловленных интерпретирующей речью. "Когда субъект приносит свое желание в жертву идеалу (аналитическая фрустрация — Н.К.), когда он полностью подчиняется символической идентичности, когда надевает на себя символическую маску, то именно в этой маске и можно разглядеть его желание" [59, с. 26].
Идеал, посредством которого присваивается Символический Другой — это и другой желания субъекта. Или, как пишет Ж.-А.Миллер, "то, что субъект скрывает, и то, посредством чего он это скрывает, является и формой разоблачения скрываемого" [118, р. 37]. Любой опытный психотерапевт хорошо ориентируется в таких маскирующих стратегиях дискурса клиента и видит за истерическими проявлениями — вытесненное ядро бессознательной сексуальности, эдиповы проблемы, за навязчивостями — анальную симптоматику и т.п. И конечно же, свободно
[245]
плавающее внимание аналитика, выделяющее в путанице образов сновидения или цепи свободных ассоциаций патогенное ядро, опирается прежде всего на собственные ощущения и переживания — в качестве трансферентного объекта желания клиента.
В качестве универсальных "отмычек" Лакан описывает также метафору и метонимию — лингвистические тропы, посредством которых вытесненный объект желания означивается в дискурсе. Метафора: (вытесненное означаемое связано сходством с означающим, похоже на него). Например, вся фрейдовская — фаллическая и вагинальная — символика сновидений. Метонимия: (означаемое и означающее связаны, но не сходством, а смещением, они рядом). Лакановский пример — "я вижу тридцать парусов на горизонте" (вместо "тридцать кораблей с парусами"). Природу метафоры имеет также и симптом: он похож на объект желания. Лакан пишет:
"Двойной спусковой механизм метафоры и есть тот механизм, с помощью которого получает определенность симптом (в аналитическом смысле). Между загадочным означающим сексуальной травмы и термином, заменившим ее в цепочке означающих, пробегает искра, фиксирующаяся в симптоме — а он представляет собой метафору, включающую плоть или функцию в качестве означивающего элемента — значение, недоступное для субъекта, обладающего сознанием, у которого симптом этот можно снять" [36, с.75, перевод отредактирован мною — Н.К.].
Интересно, что инициатором включения фантазма в терапевтический процесс почти всегда бывает клиент. Собственно, именно клиенты, продуцирующие многочисленные фантазмы, побуждают терапевта обратить внимание на эти специфические феномены душевной жизни. Разумеется, это не значит, будто терапевты не создают фантазмов — наоборот, лучшие из них занимают почетные места в анналах психотерапии. Фрейдовская "История болезни Доры", "Пигля" Д.В.Винникотта, "Человек из Февраля" Милтона Эриксона, блестящие работы К.Ясперса, посвященные Стринбергу и Ван-Гогу, — этот список можно продолжать до бесконечности51. Но
[246]
обычно именно фантазмы клиентов имеют приоритет — в том смысле, что они чаще становятся объектом анализа и размышлений.
Одна из клиенток, госпожа Щ., в ходе длительного терапевтического анализа периодически возвращалась к детскому воспоминанию о серии разрозненных эпизодов, в которых она играла с песком, а затем оказывалась погребенной под ним. Я много раз пыталась интерпретировать это воспоминание в различном ключе — как иллюстрирующее динамику терапии, имеющее отношение к первосцене, трансферентное, покрывающее и т.п. Ни одна из интерпретаций не была ассимилирована, и я сама чувствовала, что дело здесь совсем в другом. К тому же память клиентки не сохранила почти никаких подробностей.
На одном из сеансов, когда у меня возникло хорошо знакомое многим аналитикам ощущение тоскливой неподвижности анализа и полного застоя в терапии, я попросила г-жу Щ. рассказать мне что-нибудь другое. "Нет уж, — возмутилась она, — теперь Ваша очередь". Я собралась было в очередной раз мягко объяснить клиентке, кто кого анализирует и кто кого должен слушать, но вместо этого вспомнила рассказ из книги Итало Кальвино "Незримые города" и почти дословно пересказала его госпоже Щ. Рассказ этот короткий, так что я позволю себе привести здесь его полностью:
Аргия совершенно отличается от других городов тем, что в ней вместо воздушного пространства — земля. Ее улицы полностью похоронены под землей, комнаты в домах до самого потолка засыпаны мелкой глиной, на каждую лестницу, словно негатив, накладывается лестница из земли, а вместо неба с облаками ее крыши придавлены каменистыми слоями почвы. Неизвестно, удается ли жителям передвигаться по городу, расширяя прорытые червями ходы и трещты, из которых пробиваются корни растений: влага изнуряет тело, и вряд ли у них есть много сил; должно быть, они неподвижно лежат в темноте.
Наверху, где мы находимся, не видно никакого следа Аргии; однако есть такие, что говорят: "Это здесь, под нами", и им приходится верить, потому что эти места пустынны. По ночам, приложив ухо к земле, можно услышать, как внизу захлопывается дверь52 [26, с.161].
[247]
Утром на следующий день г-жа Щ. позвонила и попросила ее немедленно принять; мне с трудом удалось уговорить ее прийти к полудню, когда у меня закончились занятия в университете. Она торопилась рассказать мне свое сновидение:
Мне снится старый пейзаж из моего детства, дорога от кирпичного завода к дому. Это крутой спуск в довольно глубокую балку, а затем — более пологий подъем. Невдалеке — дом моей первой учительницы, в сновидении он сдвинут ближе к заводу, чем на самом деле. Примерно в первой трети спуска есть пещера с глиняным полом, даже скорее щель, но довольно большая. Я не то чтобы иду или нахожусь в этой пещере, а скорее знаю, что она там, и вижу, как она устроена.
Дальше Вы предлагаете мне нарисовать топографическую карту этой пещеры, а я отвечаю, что лучше, чтобы это был рекламный буклет на глянцевой бумаге, и начинаю рассказывать, что в нем должно быть. И тут во сне пещера как-то сливается с образом Каменной Могилы — археологического памятника эпохи верхнего палеолита, который находится в окрестностях города. Я там бывала несколько раз.
Рассказывая, я вижу на стенах пещеры наскальные изображения, очень четкие — могу нарисовать их хоть сейчас: круги, звезды, фигуры людей и животных. Там еще есть нечто, похожее на ассирийскую клинопись, осколки керамики, птичьи следы на глине... Кое-что из этого всего действительно есть на Каменной Могиле, но никак не в пещере, которая снится, и я это хорошо знаю. Я думаю, что все это надо умело составить — и тогда все будет в порядке.
И тут я начинаю ощущать неудобство из-за того, что дом учительницы так близко. И еще понимаю (там, во сне), что могу застрять в пещере и чувствую, как ноги вязнут в глине. Это очень страшно, как в детстве, когда меня засыпало песком в большой яме.
Я вхожу в пещеру и вижу, что ее пол как-то разрастается, он тоже глиняный, и на нем появляются следы, но не такие, как в буклете и на стенах, а человеческие — следы босых ног, маленькие, женские, и след мужской обуви — размера 45-го. Босые следы — это точно мои, и я снова пугаюсь, так как понимаю, что была в этой пещере, когда ее еще не было (?) Это Глиняная Могила, думаю я, и назад мне уже не выбраться. И тут появляется надежда, что придет тот мужчина, который
[248]
оставил следы обуви. Он действительно входит (я вижу силуэт на фоне освещенного входа в пещеру), я не знаю точно, кто он, но знаю, что — не тот. Это самое ужасное место в сновидении. Последнее ощущение, очень смутное — я же не смогу убить его, у меня в руках только буклет, бумажный листок. Проснулась я в тягостной тоске и сразу стала Вам звонить, чтобы рассказать все это.
Я не стала интерпретировать это сновидение в рамках какой-либо традиционной схемы анализа, а вместо этого объяснила клиентке лакановские представления о страхе смерти в Реальном (см. выше, с. 217 настоящей книги). "Концовка сновидения, — сказала я, — иллюстрирует известную мысль Лакана о том, что последнее слово человека в отношениях с неведомой ему речью — это смерть".
После этого случая у госпожи Щ. исчезла мучившая ее до этого клаустрофобия (боязнь замкнутых помещений). Совершенно неожиданно я на собственном опыте поняла, что представляет собой знаменитый лакановский итог терапии — "исчезновение симптома как сюрприз". Он достигается за счет конструирования фантазма на месте симптома. Обычно терапевт предлагает клиенту другой сценарий получения удовольствия, символически удовлетворяя и реально фрустрируя его желание быть объектом желания Другого (=аналитика). В данном случае большую часть работы выполнило мое Символическое, вовремя "вспомнившее" подходящую историю, и бессознательное клиентки, трансформировавшее ее симптом в исцеляющий фантазм. Интересно, что анализ после этого продолжался куда более динамично. Г-жа Щ. смогла рассказать на терапии о своем страхе смерти — это и было ее основной проблемой.
Специфика фантазма как психического феномена определяется также его чрезвычайной динамичностью, подвижностью. Он не только "с легкостью покрывает расстояние между психическими системами, переходя от сознания к бессознательному и обратно" (14, с. 285), но и способен легко смещать, изменять позицию клиента, предоставляя множество возможностей для символического конституирования. Поэтому клиент склонен идеали-
[249]
зировать терапевта, использующего конструирование фантазма, приписывая ему всемогущество и всезнание. Такая позиция ощутимо модифицирует трансферентные отношения и становится объектом анализа уже в самом конце терапии, на стадии сепарации-индивидуации, которую Лакан называет "переходом за грань желания".
6.6. Конец анализа: Переход за грань желания или По ту сторону речи
Окончание терапии — одна из наиболее интересных проблем как классическом, так и в структурном психоанализе. Я уже касалась этого вопроса во второй главе (параграф 2.2.), но там рассматривались преимущественно технические вопросы и освещалась формальная сторона: как правильно заканчивать терапию, как лучше это сделать и т.п. Содержательный аспект — что при этом происходит? — как мне кажется, фундаментальнее всего разрешен у Лакана.
Классическая фрейдовская формулировка — анализ завершен, когда аналитик и пациент больше не встречаются на аналитических сеансах — прекрасный образец полной речи, несущей в себе всю полноту ассоциаций авторского дискурса. К счастью, отец психоанализа снизошел до разъяснений:
"Это происходит, когда выполнены два основных условия:
во-первых, пациента больше не мучают его симптомы, страхи и торможения, а во-вторых, аналитик уверен, что пациент осознал достаточно вытесненного и непонятного материла, так что патологическим процессам в его психике не на что опереться. Если это невозможно по чисто внешним причинам, то анализ лучше считать неполным, а не незавершенным" [108, vol. 16, р.237].
Лакан весьма скептически относился к возможности достижения столь идеальной цели. Объектом его критики, правда, был не столько фрейдовский лозунг, сколько
[250]
попытки М.Балинта, М.Кляйн и других представителей объектной школы воплотить его в жизнь. Кляйнианцы и эго-психологи полагали личностную интеграцию идеальным итогом конца анализа, но фактически понимали эту интеграцию как Воображаемую реализацию субъекта, сведенного к его собственному Я.
Последователи Фрейда рассматривали анализ скорее как синтез: аналитический пациент — это субъект во всей его целокупности, т.е. полный, завершенный, не фрагментированный защитами и вытеснением. По достижении такого результата анализ считался законченным. Лакан хорошо понимал мнимую, Воображаемую природу этого идеального гомункула:
"Нам все уши успели прожужжать разговорами о том, что субъект-де берется в его целокупности. Почему он, собственно, должен быть целокупным? Нам лично об этом ничего не известно. А вы — вы когда-нибудь таких целокупных существ встречали? Это, наверное, идеал. Я их не встречал никогда. Лично я не целокупен. Да и вы тоже. Будь мы целокупны, мы и были бы каждый сам по себе, а не сидели бы здесь вместе, пытаясь, как говорят, организоваться. Это не субъект в своей целокупности, это субъект в своей открытости. Он, как водится, сам не знает, что говорит. Знай он, что говорит, он бы здесь не был" [35, с.349, курсив мой — Н.К.].
Мы видим, что окончание анализа Лакан связывает с узнаванием субъектом себя, пониманием себя как субъекта высказанного, выговоренного в психотерапевтическом дискурсе. Очевидно, что разница между тем, что есть, и тем, что субъект о себе рассказывает, замечаемая сперва только аналитиком, постепенно становится доступной клиенту. По мере продвижения терапии эта "разность" уменьшается, и в конце анализа клиент в качестве экзистенциального субъекта не нуждается в подпорке Воображаемого Я его дискурса. Многие психотерапевты наверняка оценят по достоинству риторическое восклицание французского психоаналитика: "Неужели мы заставляем людей так много говорить с единственной целью заставить их в конце концов замолчать?"
[251]
Приближаясь к концу, терапия все чаще исследует динамику переноса в качестве ведущего бессознательного сценария психотерапевтического взаимодействия. В самом начале, когда трансфер только развивается, аналитик расположен в идеальной позиции "мнимого всеведения", тогда как в конце анализа происходит отказ от идеализации Другого и принятие аналитика как отвергнутого объекта влечения клиента.
Такой объект53 называется отвергнутым, ибо репрезентирует утраченную часть субъекта, вызывающую его желание и любовь. Как известно, Лакан определяет любовь как способность дать кому-либо то, чего он лишен. В анализе этому соответствует ситуация терапевтической фрустрации, когда аналитик не отвечает на либидный запрос пациента, но стимулирует его желание взаимодействовать и, следовательно, продолжать аналитическую работу.
Более того, отказываясь уступать либидному запросу пациента, аналитик вынужден занять позицию неизвестного объекта бессознательного желания, отсылающего к невозможности Символизации Реального. Объект 'а' репрезентирует присутствие аналитика, фантазматический объект желания и референт вытесненной инфантильной сексуальности.
По мере разрушения (демонтажа) фантазма трансферентной любви терапевт "встраивает" желание клиента в новый, в какой-то степени противоположный сценарий, предполагающий становление субъектности последнего в качестве объекта 'а' для Другого. Клиент смещается от позиции субъекта влечения к позиции объекта 'а', который является причиной влечения Другого. Лакан называет такую перемену позиции "пресечением фантазма" и связывает его с процедурой "перехода". Именно так клиент переходит от признания отсутствия аналитика к утверждению его присутствия.
Успешно завершившаяся терапия преобразует невротическую тревогу и различные страхи клиента в чистое удовольствие познания им собственной субъектности. Это не значит, что по окончании терапевтического анализа в кабинете сидят друг против друга уже два терапевта, и
[252]
один из них (бывший пациент) — начинающий. Как бы ни привлекала аналитика идея стать наставником, примером и идеалом для других людей и создавать их по своему подобию, он не должен забывать, что не это является его задачей в аналитических отношениях, и что, потакая себе, он попросту изменяет своим обязанностям. Если же это случится, аналитик лишь повторит ошибку родителей, которые разрушают своим влиянием независимость ребенка. Он просто поменяет одну зависимость на другую. Аналитик не должен замещать Супер-эго или становиться отцом для клиента, он всего лишь демонстрирует свою непричастность к зависимости субъекта от идеала и примера Другого.
Хорошо понимая всю справедливость этих положений, хочу заметить, что придерживаться их на практике не так-то просто. В своей работе мне, например, приходится совмещать терапию и преподавание глубинной психологии, поэтому навязчивое желание превращать клиентов в студентов — вполне устоявшийся симптом, который я надеюсь проанализировать в подходящей ситуации.
Лакан считает, что независимо от того, будет ли психоаналитическое вмешательство теоретическим или суггестивным, можно утверждать, что оно должно быть неопределенным (двусмысленным). Множественность смыслов, которыми оперирует терапевт, обуславливает специфику психотерапевтического дискурса, которую на языке структурного психоанализа можно определить как диалектику бесконечного порядка языка и конечности желания.
Терапевтический анализ придает смыслу статус события в той мере, в какой он отделяется и отличается от положения вещей, которые производят его и в которых он осуществляется. Не случайно становление фантазма выражается в игре грамматических трансформаций, а его самая существенная особенность состоит в том, что фантазм может быть облечен в слова, выражен предложением — Символизирован. При этом речевой акт аналитика, подбирающего означаемые, создавая фантазм, функционирует в качестве перформатива54. Это важный признак, отличающий сконструированный в терапевти-
[253]
ческих целях фантазм от фантазмов, порождаемых психотиками.
Посредством фантазма (точнее, череды фантазмов, сконструированных в ходе психотерапевтического общения) клиент переходит из образованного симптомами пространства Воображаемого в поле речи и языка, главенствующих в Символическом. Ведь именно система языка обеспечивает возможность выражения (артикулирования) желаний и влечений, а речь — это и есть попытка выразить бессознательную реальность, символизировать ее или хотя бы намекнуть. Лакан пишет об этом так:
"Чего бы ни добивался психоанализ — исцеления ли, профессиональной подготовки, или исследования — среда у него одна: речь пациента... Мы покажем, что речь, когда у нее есть слушатель, не остается без ответа никогда, даже если в ответ встречает только молчание. В этом, как нам кажется, и состоит самая суть ее функции в анализе.
Ничего об этой функции речи не зная, психоаналитик ощутит ее зов тем сильнее. Расслышав же в этом зове лишь пустоту, он испытает эту пустоту в самом себе, и реальность, способную ее заполнить, станет искать уже по ту сторону речи" [36, с.18].
Таким образом, в рамках лакановской парадигмы можно выделить два основных этапа психотерапевтической работы: интерпретацию бессознательного и переход за/через фантазм. Исследуя симптомы клиента, аналитик пытается увидеть за ними основной фантазм как сущность наслаждения, блокирующего понимание и дальнейшее истолкование (не надо забывать, что клиент, особенно поначалу, хочет не понимать, а наслаждаться). Далее нужно дистанцироваться от этого фантазма и создать новый, который станет для клиента не просто бессознательным сценарием получения удовольствия, но также и моментом истины — такой точкой совпадения Символического с Реальным, в которой субъект достигает окончательной идентичности себе самому.
Конечно, субъект, пребывающий в этой точке55, — всего лишь гипотеза. Однако Лакан предлагает специальную терапевтическую конструкцию, терапевтический
254
прием, который он называет синтомом. Синтом (sinthome), как указывает С.Жижек, — это синтез, гибрид симптома и фантазма, атрибут синтетического (synthetic) и в то же время святого (saint) человека, субъекта терапевтического фантазма. Он играет центральную роль в завершении терапии:
"Симптом как синтом есть некоторая конфигурация означающих, пронизанная наслаждением, — это означающее как носитель jouis-sense, "наслаждения со смыслом".
Важно помнить, что симптом обладает предельным онтологическим статусом: симптом, понимаемый как синтом, — это в полном смысле слова единственная наша субстанция, единственное позитивное основание нашего бытия, единственное, что придает субъекту устойчивость. Иными словами, только симптом позволяет нам — субъекту — "избежать безумия", выбрать нечто вместо ничто (психотического аутизма, разрушения символического универсума). Только симптом, связывая наше наслаждение с определенными означающими, с символическими образованиями, придает тем самым некий минимум устойчивости нашему бытию в мире" [20, с.80].
Такая формулировка может показаться слишком категоричной. Однако мой личный опыт терапевтической работы показывает, что способность произвольно конструировать фантазмы и, тем самым, противопоставить сознательный выбор символического конституирования себя как субъекта симуляционному моделированию, описанному в предыдущем параграфе, является важным критерием успешности терапии. Будучи осознанным, производство симулякров теряет свою ценность для клиента. Воображаемая нарциссическая самоидентификация не претендует больше на статус экзистенциального априори его жизни, а система личностных смыслов начинает более реалистично соотноситься со значимыми характеристиками внутреннего опыта.
Последнее, о чем стоит упомянуть в контексте обсуждаемой проблематики — это требования к аналитику, его личности и профессиональному мастерству. В отличие от других авторитетов, Лакан категорически настаивает на бессубъектности терапевта. Он жестко критикует исполь-
[255]
зуемые эго -психологами способ смягчения аналитической фрустрации, высмеивает балинтовский тезис о "живом зеркале"* и особенно непримиримо относится к идее интеграции Я посредством ассимиляции частичных объектов в процессе терапии.
Эта идея популярна среди аналитиков объектной школы. Исходя из представлений о характерной для невротика параноидно-шизоидной спутанности, они рассматривают терапевтический процесс как попытку "собрать воедино" все пережитое на прегенитальных стадиях, частичные объекты и влечения и т.п. И воссоздание этого воображаемого Я происходит вокруг некоторого центра, которым является Я аналитика. Попросту говоря, терапия, основанная на установлении значимых объектных отношений или личном примере ("делай, как я, и будешь счастлив"), по мнению Лакана, есть не что иное, как воссоединение фрагментов присущего клиенту воображаемого расчленения.
Таким образом, идеальный терапевт — это Другой как место в структуре Символического. Перефразируя известную поговорку, можно сказать: для того, чтобы быть святым, это место должно быть пусто; воображаемое Я аналитика начисто исключается из терапевтических отношений:
"Если аналитиков специально готовят, то делается это как раз с той целью, чтобы были субъекты, у которых собственное Я отсутствует. Это и есть идеал анализа, который, конечно же, остается чистой возможностью... Анализ состоит в том, чтобы позволить субъекту осознать свои отношения не с собственным Я аналитика, а с теми Другими, которые и являются его истинными, но не узнанными собеседниками. Субъект призван постепенно открыть для себя, к какому Другому он, о том не подозревая, обращается на самом деле..." [35, с.353].
* Фрейд писал, что аналитик должен быть для клиента бесстрастным зеркалом, в котором отражается личность последнего. "Живое зеркало" примерно соответствует интерсубъективной модели отношений "терапевт-пациент". См. об этом также работы М.Гилла [109].
[256]
Поэтому фантазм, в которым фигуры клиента, аналитика, субъекта, Другого, Иного могут переплетаться и сочетаться в немыслимых вариантах, представляет собой прекрасную форму артикулирования значений и смыслов, находящихся "по ту сторону речи". Психотерапевтический дискурс на уровне фантазма может обеспечить постулируемую Лаканом "связь с подлинным Другим, с Другим, чей ответ всегда оказывается неожиданным, и определяет собой окончание анализа" [35, с.353].
Глава 7. Современные представления об анализе сновидений
В глубинной психологии трудно найти более интересное и любимое всеми — и терапевтами, и клиентами — занятие, нежели анализ сновидений. Толкование сновидений — не просто "царская дорога к бессознательному", это настоящая Долина Царей, где покоятся огромные, неисчерпаемые сокровища. И хотя психоанализ фактически начинался с этого метода ("Толкование сновидений" — первая по-настоящему психоаналитическая и самостоятельная работа Фрейда и XX столетия, она вышла в 1899 г., но на обложке стояла дата "1900"), рано говорить том, что к 2000 году он (метод*) себя исчерпал.
Правда, как и реальная египетская Долина Царей, область анализа сновидений разрабатывается не только археологами (аналитиками)56, но периодически подвергается и налетам грабителей — авторов разного рода сонников, число которых со времен Артемидора сильно увеличилось. К сожалению, даже квалифицированным специалистам [61] бывает, увы, трудно удержаться от соблазна составить "краткий справочник" символики сновидений, нечто на уровне "потоп — это к пожару, а пожар к — потопу; если же снится милиционер то он символизирует контроль супер-эго над влечениями".
* Равно как и классический психоанализ. Несмотря на то, что библиография работ, где психоанализ объявляется ненаучным и устаревшим, может составить толстый том, в который войдут имена и уважаемые (Г.Ю.Айзенк, А.Маслоу, Э.Фромм), и малоизвестные, слухи о кончине фрейдизма, как говорится, сильно преувеличены.
[258]
Чем опасны такие грабежи? Bo-первых, авторы сонников (особенно если они настаивают на своей принадлежности к академическим и научным кругам) косвенно способствуют распространению и без того популярного нынче в нашей ментальности мнения, что психоанализ и психотерапия близки к гаданиям, колдовству, "диагностике кармы" и другим столь же одиозным формам практики. Паранаучная рациональность всегда пыталась нарядиться в академические одежды, и многие современные психологические исследования, пренебрегающие методологической рефлексией своих оснований, оказываются на грани фола. Яркий пример тому — онтопсихология А.Менегетги или психоистория Л.Демоза.
Во-вторых, и это гораздо важнее в контексте обсуждаемой проблематики, интерпретация сновидений в принципе не может опираться на сонник любого типа, в том числе и психоаналитический. Основная идея толкования снов, сформулированная Фрейдом и нашедшая логическое завершение у Юнга и Лакана, состоит в том, что сновидение — это некий текст на языке бессознательного, требующий перевода. Попробуйте представить себе переводчика, не знающего ни языка, с которого он переводит, ни проблематики, освещаемой в тексте, ни особенностей стиля автора — ничего. У него в руках только словарь, с помощью которого переводится слово за словом. Переведите таким образом несколько фраз сами, не используя при реконструкции смысла грамматических и синтаксических правил русского языка. Это и будет толкование снов по соннику. Рядом с таким "переводом" даже результат автоматического компьютерного переводчика покажется шедевром грамматики и смысла.
А ведь сновидение — не сообщение из Интернета и не инструкция на пакете быстрорастворимого супа. Это сложный текст, со своими стилевыми особенностями (=индивидуальность сновидца) и тончайшими нюансами смысла (=бессознательное видение проблемы в контексте жизненной ситуации). В рамках использованной выше аналогии сон, истолкованный по соннику (сколь угодно сложному, пусть даже с элементами алгоритма процеду-
[259]
ры интерпретации, как в "Словаре образов" А-Менегетти [44] — это роман Марселя Пруста или Генри Джеймса в виде дайджеста в автоматизированном переводе.
Характерно, что семиотическую специфику сновидения как сложного и неоднозначного текста, нуждающегося в переводе, с предельной ясностью выразил именно семиотик, исследовавший проблемы хранения и передачи информации в системе культуры. В статье "Сон — семиотическое окно" Ю.М.Лотман пишет:
"...власть эта (бессознательное — Н.К.) говорит с человеком на языке, понимание которого принципиально требует присутствия переводчика. Сну необходим истолкователь — будь это современный психолог или языческий жрец. У сна есть еще одна особенность — он индивидуален, проникнуть в чужой сон нельзя. Следовательно, это принципиальный "язык для одного человека". С этим же связана предельная затрудненность коммуникативности этого языка: пересказать сон так же трудно, как скажем, пересказать словами музыкальное произведение. Эта непересказуемость сна делает всякое запоминание его трансформацией, лишь приблизительно выражающей его сущность. Таким образом, сон обставлен многочисленными ограничениями, делающими его чрезвычайно хрупким и многозначным средством хранения сведений. Но именно эти "недостатки" позволяют приписывать сну особую и весьма существенную культурную функцию: быть резервом семиотической неопределенности, пространством, которое еще надлежит заполнить смыслами" [40, с.225-226].
Лучше, пожалуй, и не скажешь. Поэтому психотерапевты глубинных школ, всерьез относившиеся к интерпретации сновидений, считали эту деятельность вершиной профессионального мастерства психоаналитика. Известно ревнивое отношение Фрейда к В.Штекелю, который, по мнению современников, умел толковать сны лучше, чем сам основоположник психоанализа. Настоящими шедеврами аналитического мышления являются толкования, представленные в работах Ш.Ференци, Ж.Делеза и особенно К.Г.Юнга.
Так что начинающему психотерапевту к анализу сновидений нужно подходить ответственно и очень осторож-
[260]
но. С другой стороны, сновидения изобилуют важной для хода терапии информацией и часто являются "прямыми сообщениями" бессознательного клиента бессознательному аналитика. Их анализ — это, в сущности, "беседа" двух подсознаний, происходящая под контролем внимательного и сильного Эго аналитика. Что необходимо для успеха такого разговора?
Американский психоаналитик М.Масуд Кан сформулировал ряд требований к функционированию психического аппарата, которые обеспечивают возможность работать со сновидением. К их числу относятся:
• хорошее взаимодействие между Эго и Ид;
• внутренний бессознательный источник беспокойства (движущая сила сновидения);
• достаточная интегрирующая сила эго и хорошая способность к символизации;
• способность дистанцироваться от чересчур жесткого контроля со стороны Супер-эго;
• сохранение послеобразов сна в бодрствующем состоянии [63, с.54-56].
Если все эти условия соблюдены, то клиент будет хорошо помнить сновидения и станет охотно рассказывать о них терапевту (кажется, нет людей, которые не любили бы говорить о своих снах). Аналитику, в свою очередь, необходимо знание основных принципов работы со сновидениями, интерпретация которых может существенно продвинуть работу и позволяет хорошо контролировать течение психотерапевтического процесса.
7.2. Функции сновидения в терапевтическом анализе
Как правило, начало терапевтической работы сопровождается сновидениями, порожденными бессознательной тревогой, связанной с недоверием к аналитику. Иногда сильное сопротивление выражается в том, что клиент не видит снов или не способен их запомнить. После разрешения этой трудности (можно предложить вспомнить
[261]
более ранние сны, в которых, по мнению клиента, находили косвенное отражение его проблемы) могут появиться сновидения, связанные с темой возможного осуждения, преследования и контроля.
Аналитик в них не обязательно представлен в своем собственном обличье. Так, один из моих клиентов (господин Р., терапия с которым описана ранее в главе 4) видел сон, в котором неизвестные люди в униформе (их было несколько, трое или четверо) ловили его в парке, причем вся ситуация смутно напоминала не то военные учения, не то войну. Молодой человек в сновидении спасался от них, улетая на воздушном шаре. Клиент начисто отрицал возможную связь этого сна с началом терапии:
Т: Ну хорошо, пусть сновидение связано с конкретными особенностями Вашей жизненной ситуации. Но ведь Вы не отрицаете, что приснилось оно после первых сеансов, а рассказали Вы его существенно позже.
К: Просто я сейчас его вспомнил.
Т: Возможно, именно потому, что на предыдущем сеансе я использовала конфронтацию в работе с Вами. Мы немного "повоевали" — и это было дневным остатком57, вокруг которого организовался сюжет сновидения.
К: Да нет, просто мне действительно надо решать жизненную проблему, связанную со службой в армии. После окончания вуза снова встанет вопрос о том, как "откосить" от военной службы. Вот я и спасаюсь от солдат во сне.
Т (игнорируя непризнание и ориентируясь на оборот "да нет", признанный маркер амбивалентности): Скажите, а у кого из нас есть воздушный шар?
К: У Вас, конечно. Все эти психоаналитические штучки... (замолкает). Вот сейчас Вы скажете, что я опять проговорился.
Т: Точнее, Вы признали, что сновидение действительно имеет отношение в анализу. И теперь сможете принять его интерпретацию.
К: Ну, и?
Т: Столкнувшись с приемами психотерапевтической работы и оценив их эффективность, Вы захотели иметь
[262]
что-нибудь столь же могущественное и эффективное, чтобы при необходимости можно было удрать из некомфортной ситуации. Еще Фрейд говорил о том, что основное назначение снов состоит в исполнении желаний.
К: И что дальше?
Т: Рано или поздно Вы поймете еще две вещи: во-первых, от меня не надо убегать, я вовсе не "ловлю" Вас.
К: Еще как ловите!
Т: Во-вторых, воздушный шар, на котором Вы спасаетесь — прямое указание на инфляцию и регрессию...
К (перебивая): Почему?
Т: Потому что "раздутое". Семантика такая. А теперь можно подробнее остановиться на вопросе, который Вы мне только что задали — как еще я Вас ловлю.
Этот диалог существенно улучшил наше взаимопонимание с г-ном Р. Он убедился, что я хорошо понимаю язык его бессознательного (сновидения), и впредь мог успешнее справляться с тревогой, вызываемой интерпретациями. Клиент стал больше доверять моему пониманию и более эффективно усваивал аналитические истолкования, в том числе и те, что не были непосредственно связаны со снами. Однако этот паттерн стойко закрепился в работе с ним: если наши терапевтические взаимоотношения ухудшались, он рассказывал очередное сновидение, снова убеждался в том, что я его хорошо понимаю и, успокоенный, продолжал анализ.
Для удобства понимания и истолкования сновидений можно использовать представления Д.Анзье, Х.Сегал, Д.Гемайла и других современных психоаналитиков, полагающих, что сон — это своеобразное пространство, поверхность которого изоморфна структуре и содержанию терапевтического процесса. В описании анализа сновидений используются такие метафоры, как "пленка сновидения", "экран" и даже "сцена, на которой разыгрывается воображаемый театр сна" (С.Резник).
Самое интересное — это, конечно, преставление о сновидении как о тонкой защитной оболочке (pellicule), мембране, которая, с одной стороны, охраняет сновидца от
[263]
нежелательных воздействий, а с другой — несет на себе их отпечатки. Анзье пишет:
"Этот защитный экран является тонкой мембраной, помещающей внешние раздражители и внутренние инстинктивные побуждения на один и тот же уровень посредством сглаживания их различий. Таким образом, это не граница, способная разделить внешнее и внутренне, как это делает поверхностное Эго; это хрупкая, легко разрушающаяся и рассеивающаяся мембрана (отсюда — тревожное пробуждение), недолговечная пленка. Она существует, только пока длится сновидение, хотя можно предположить, что, бессознательно интроецировав ее, он (спящий — Н.К.) регрессирует до состояния первичного нарциссизма... а затем погружается в глубокий, лишенный сновидений сон " [63, с. 203-204].
Упомянутая здесь защитная функция — это залечивание нарциссической раны, нанесенной травматическим переживанием. Причем травма может быть как ранней (связанной с индивидуальной историей жизни и особенно детства сновидца), так и актуальной — нанесенной в анализе удачным толкованием, глубокой интерпретацией и т.п.
Как обычно, приведу пример. В числе участников постоянно действующего семинара по глубинной психологии и психотерапии была девушка (Галина Ч.) с очень высокими притязаниями на карьеру аналитического психолога. Обучение у нее шло медленно, и невысокий уровень способностей в сочетании с рядом невротических черт привели к тому, что чужие успехи или просто хороший результат (интересное сообщение, удачная интерпретация, даже удачно купленная другим психоаналитическая книга) она все чаще начала воспринимать как личную травму.
Однажды близкая подруга, выступая в роли супервизора ее терапевтической работы, дала несколько точных, но весьма жестких интерпретаций этого комплекса. После этого на протяжении ряда ночей Галина видела сны, связанные с медицинской тематикой (подруга была медиком). В сновидениях с различными сюжетами был один и тот же повторяющийся элемент: некто просвечивает ее с помощью рентгеновского аппарата, но на снимке вме-
[264]
сто обычной рентгенограммы — лицо подруги (иногда мое лицо). Защитно-проективная символика этой "пленки сновидения" вполне очевидна.
Пелликулярная теория сновидения хорошо согласуется с теорией складки, "сгиба в душе", сформулированной в одной из работ Ж-Делеза [17]. Отдельные сны — результат инфлексии (изгиба), в процессе которого внутренняя поверхность бессознательного и внешняя — Эго соприкасаются и происходит своеобразное вторжение образов действительности в психическую реальность сна. При этом возникают особые сингулярные точки, представленные фантазматическими образами сновидения. И даже самой удачной аналитической интерпретации, пробегающей по этим складкам, не удается полностью развернуть их — они, как пишет Делез, "уходят в бесконечность".
Терапевт, не пренебрегающий анализом сновидений, хорошо знаком с еще одной характерной особенностью последних: зачастую один и тот же сон приходится истолковывать несколько раз на различных этапах терапии. Появляются новые ассоциативные ряды, всплывают вытесненные переживания и эпизоды — все это создает новый контекст для прочтения скрытого смысла сновидения. Отдельные элементы (скажем, ужасные демоны снов-кошмаров) могут последовательно соотноситься то с личностью аналитика, то фигурами близкого социального окружения клиента, чтобы быть узнанными наконец как фрустрирующие образы раннего детства или проекции родительских фигур.
Вот что пишет по этому поводу французский психоаналитик Сесиль де Монжуа:
"Искушение поддаться упрощенному представлению, что латентное содержание, подобно "спящей красавице", ждет интерпретирующего поцелуя аналитика-принца, чтобы освободиться от проклятия сопротивления, препятствует научному любопытству относительно активных поступательных процессов превращения значения, наблюдаемого в ходе интерпретации сновидения. Когда случается, что в следующих друг за другом фазах психоанализа мы вновь просматриваем записи одного и того же сна, у нас остается мало сомнения в
[265]
том, что на другом конце недосягаемого не зарыто ничего похожего на латентное содержание" [63, с.287].
Иными словами, полное и окончательное толкование сновидения — не более чем фикция, даже если в процессе терапии создается несколько таких толкований, даже если клиент восторженно приветствует аналитическое мастерство и проницательность своего психотерапевта. Недаром один из ведущих специалистов в анализе сновидений, Карл Густав Юнг, предостерегал психотерапевтов от иллюзии, будто удачное понимание бессознательной символики снов является эффективной и успешной терапевтической акцией. В работе "Психология и алхимия", основу которой составляют толкования архетипической алхимической символики сновидений, он пишет: "Бессознательное есть автономная психическая сущность; любые попытки управлять им оказывают вредное воздействие на сознание. Оно остается за пределами субъективного контроля, в царстве, где природа и ее секреты не могут быть ни улучшены, ни извращены, где мы можем слушать, но не можем вмешиваться" [99, с. 64].
Это и есть, как мне кажется, наиболее разумный и взвешенный подход к толкованию сновидений. Мы можем поговорить с бессознательным, если знаем его язык (логику смысла сновидения), но не стоит испытывать иллюзию, будто в ходе такого разговора мы узнаем все о своем собеседнике. В лучшем случае мы лишь поймем, насколько он неисчерпаем. И, разумеется, ни один сонник — любого типа — не будет здесь полезен: это все равно, что использовать френологию или физиогномику для понимания неисчерпаемой природы человеческой индивидуальности.
Основные теоретические сведения о фантазме уже были изложены ранее, в главе шестой. В этом же параграфе мне бы хотелось дать целостное описание терапевтической работы, в процессе которой немалое место занимал
[266]
фантазм, в том числе и в первую очередь — в форме сновидения.
Я хорошо понимаю, насколько спорными и неоднозначными могут показаться и мои выводы, и — особенно — способ работы в этом случае, да и в других, где я использовала представления о фантазме в качестве рабочих схем терапии. Мой собственный фантазм на эту тему тоже заслуживает изложения, тем более, что облечен в классическую для фантазмов форму архетипического сновидения:
Я медленно — и одновременно очень стремительно — падаю (или погружаюсь) вниз, в темноту. Но есть нечто вроде золотой сетки, которая меня поддерживает, хотя больше всего это похоже на летящих вниз птиц,. Очень характерное ощущение наслаждения и страха. Страх связан с тем, что я понимаю — необходима будет вернуться, а как?
Потом я пробую вернуться, выбраться оттуда. Это получается, но я последовательно оказываюсь во многих местах, некоторые их них напоминают реальные пейзажи, некоторые — совершенно фантастичны. Они захватывают меня, и я неопределенно долго перехожу из одного места в другое. А потом понимаю, что иду по кругу. И последняя мысль — если у меня была подходящая (нужная? правильная? та самая?) книга, то нашелся бы человек, который вывел бы меня на поверхность.
Данное сновидение не относится к периоду работы с описанной далее клиенткой, оно отражает состояние бессознательного автора в процессе письменного изложения происходившего, при работе над книгой. Некоторые моменты, связанные с его интерпретацией, содержит параграф 7.5.
А теперь — описание случая. Клиентка, госпожа Ш., была скромной и застенчивой молодой женщиной, привыкшей держаться в тени своей более активной старшей сестры. По совету последней она посетила несколько семинаров по структурному психоанализу, после чего начала индивидуальную терапию. Своей основной проблемой г-жа Ш. считала зависимость от сестры и других старших родственников (она была младшей дочерью в семье с четырьмя детьми). Их мать умерла, когда девочке было полтора года, и
[267]
детей воспитывала вторая жена отца. Отношения с мачехой у клиентки были хорошими, из родительской семьи к сестре Ш. ушла в возрасте четырнадцати лет.
Госпожа Ш. была замужем, развелась, у нее трехлетний сын. В настоящее время живет с мальчиком одна, хотя фактически — вместе с семьей сестры (их квартиры находятся в соседних подъездах, сестры ведут общее хозяйство, вместе присматривают за детьми — у старшей их двое, мальчик и девочка).
В начале терапевтического анализа клиентка высказала несколько конкретных претензий к старшей сестре. Последняя "слишком вмешивается" в жизнь г-жи Ш. — принимает за нее решения, выбирает занятия и приоритеты, указывает, как воспитывать ребенка, ит.п. "Она даже распоряжается моей личной жизнью, — жаловалась клиентка. — Не то, чтобы Ирина (для удобства назову так старшую, а младшую, клиентку, — Татьяной — Н.К.) мне прямо запрещала с кем-нибудь встречаться. Но, знаете, она может слегка поиронизировать — и мне уже неудобно. Мне как-то неловко общаться с человеком, которого сестра не одобряет. К тому же она почти всегда потом оказывается права".
В процессе работы стало понятно, что зависимость госпожи Ш. — прежде всего социальная. Это материальная зависимость (деньги зарабатывает старшая сестра), а также привычные отношения "родитель-ребенок", установившиеся между сестрами в то время, когда младшая была еще подростком. Клиентка не раз подчеркивала, что такого рода "сестринская власть" ее не тяготит — проблема заключается скорее в непризнании сестрой ее индивидуальной субъективности в качестве взрослой и автономной. "Я не спорю, когда сестра распоряжается деньгами, планирует, что нужно купить, и так далее. Она всегда очень щедрая, и даже странно, что скупость проявляется в мелочах — например, она не дает мне книг".
Дойдя в своем рассказе до этого момента, г-жа Ш. по-настоящему разволновалась. Изменилась ее спокойная и сдержанная манера поведения, в речи зазвучали истерические ноты, связный рассказ превратился в поток отры-
[268]
вистых восклицаний, где жалобы на сестру перемежались с агрессивными выпадами в ее адрес. Было похоже на то, что в процессе терапии создалась миметическая копия какого-то актуального конфликта.
Однако говорить об этом конфликте клиентка не хотела. Немного успокоившись, она продолжила рассказ о своих взаимоотношениях с сестрой, акцентируя внимание на том, как Ирина заботится о ней, как хорошо и дружно они живут, и т.п. Речь пустая грозила захлестнуть терапевтическую работу. В конце госпожа Ш. заметила: "Получается, что никаких проблем с сестрой у меня и нет".
Поэтому следующий сеанс я начала с того, что предложила клиентке рассказать какое-нибудь сновидение, в котором участвует старшая сестра. В ответ г-жа Ш. рассказала сон, который, по ее словам, впервые приснился ей еще в детстве, и продолжает периодически сниться до сих пор:
Во сне я вижу себя маленькой девочкой, которая бредет по лесу. Знаете, маленькой — как в сказках. Речь не о том, что мне там три года или пять лет — просто я маленькая, а вокруг много опасностей. Затем, опять как в сказках, меня начинает преследовать какая-то ведьма ужасная. Я ее не вижу, а просто знаю, что она подкрадывается ко мне. Я бегу, очень быстро, а потом падаю в яму, проваливаюсь куда-то. Но самое страшное — когда ведьма подходит к краю этой ямы и смотрит на меня. А потом начинает забрасывать меня в яме — ветками, травой, листьями какими-то. Яма наполняется, она становится вровень с землей. Я знаю, что там, по верху, люди ходят, я чувствую, что они не знают ничего — что тут на самом деле яма. А я лежу внизу, живая. И знаете, есть ощущение, что все правильно. Правильно, что я в этой яме лежу — я хорошо спряталась. И страха уже нет.
Первое, что подчеркнула клиентка в процессе анализа этого сновидения — его "авторский", сугубо индивидуальный характер. Она понимала, что сюжет и мотивы сна очень близки к фольклорным, однако настойчиво твердила, что сказки и детские книжки здесь ни при чем:
"Я знаю, что все это очень похоже на сказку, но это мой сон, на самом деле мой".
[269]
Кульминацией сновидения является сцена, в которой ведьма смотрит на девочку, лежащую на дне ямы. Г-жа Ш. указала, что во сне страх уменьшался по мере того, как яма наполнялась ветками и травой. На вопрос о том, с кем ассоциируется ведьма, клиента ответила, что раньше, в детстве, это была ее мачеха, потом — старшая сестра, а теперь, скорее всего, ведьма — это я, ее аналитик.
Для понимания сна используем ряд структуралистских и постмодернистских представлений, в частности, идеи Ю.Кристевой, Ж.Лакана и М.Фуко. Сновидение в качестве целостного дискурса я буду рассматривать как сочетание факта и фантазма; структура этого дискурса определяется изначальным базовым расщеплением58 говорящего субъекта. В качестве главного аффекта сновидение представляет страх, интенсивность которого снижается по мере того, как сновидица оказывается укрытой, спрятанной. Ведьма из преследующей (но не очень страшной) фигуры превращается в помогающую.
Моя интерпретация основывалась на понимании динамики страха и ассоциативных значений фигуры ведьмы. Однако, прежде чем высказать свое понимание, я попыталась выяснить природу бессознательного страха госпожи Ш. Одновременно в фокусе оказался интенсивный перенос клиентки, характер которого (положительный или отрицательный) была пока не ясен:
Т: Если ведьма из Вашего сна — это в какой-то степени и я тоже, то что же я все-таки делаю — преследую Вас, или смотрю, или прячу под ветками?
К: Преследуете и смотрите.
Т: А кто из нас троих Вас прячет?
К: Наверное, сестра.
Т: Потому что не дает Вам книг? А от чего можно спрятаться таким способом?
К: От себя... вернее, от нее.
Т: Она прячется в яме, а люди ходят и не знают, что там, внизу?
К (с большой горячностью): Это правильно! Так и должно быть! Ведь сновидения — я знаю — это исполнение наших желаний.
[270]
Комментарий: На этом месте я поняла, что "она" — вовсе не сестра Татьяны. По-видимому, налицо соответствующее базовому расщеплению раздвоение личности сновидицы. Понимая, что такое раздвоение патологично, клиентка прячет свою Другую — подобно тому, как ее в детстве учила этому сестра.
Стоит задуматься, почему раздвоение Эго (типичное для многих сновидений), вызывает столь сильный страх. Не является ли оно миметической копией реальной проблемы г-жи Ш.? Не это ли сновидица прячет под ветками?
Т: Но спрятаться от меня ей вряд ли удастся. Аналитик вскрывает, а не скрывает. По сновидению я преследую и смотрю, так ведь? (Клиентка молчит). Интересно, на кого я смотрю, а кого — преследую? (Мы обе молчим какое-то время. Наконец, мое бессознательное берется за работу). Кто из Вас двоих в этом сне спрятался в яме? От чего Вы прячетесь? От осознания того, что Вас двое?
К: Да, наверное.
Т: Вам страшно, что об этом еще кто-нибудь узнает? Поэтому в яме, под хворостом — комфортно?
К: Наверное, мне нужно рассказать. Недавно я видела у сестры книгу59 — там на обложке изображена девушка перед зеркалом, и она целует свое отражение. Я в детстве делала также. Я любила смотреть в зеркало и всегда знала, что настоящая я — там, в отражении. Это была моя тайна. А сестра не дала мне эту книгу, как детстве, когда она запрещала мне играть с зеркалом.
(Пока я сидела и думала о том, что таких совпадений не бывает, клиентка внесла в свой фантазм последний штрих):
К: А Вы, я знаю, пишете книги, поэтому не будете прятать ее от меня.
Этот сеанс, также имеющий природу фантазма, позволил многое понять в проблеме госпожи Ш. Прежде всего, обозначился психотический страх раздвоения личности. В полном соответствии с лакановской теорией, образы сновидения предоставили возможность выразить
[271]
материал, касающийся пробелов в Реальном. Вытесненное (что именно, еще предстояло узнать) посредством насильственного исключения, форклюзии5 в символической форме представлено сюжетом сна. Само сновидение содержит элементы регрессивного, галлюцинаторного исполнения желаний, позволившие наметить дальнейшую стратегию терапевтической работы.
По Лакану, динамика бессознательного в сновидении соответствует клинике психоза. Структура последнего может быть выражена следующим постулатом: "Все, что отвергается в Символическом, должно вернуться в Реальное". В таком психотическом состоянии как сновидение, наиболее радикально отвергается Символический Другой или, как его называет Лакан, Имя Отца. Поведение клиентки хорошо вписывалось в фрейдовский постулат о равенстве бессознательного, инфантильной сексуальности и сновидений. Поэтому на следующем сеансе наш разговор строился вокруг эдиповой проблематики — впрочем, по инициативе самой г-жи Ш.
Она рассказала еще одно сновидение, почти бессюжетное, сводившееся к сильному чувству страха, связанного с тем, что кто-то могучий наваливается на нее (лежащую навзничь) и душит. "Такой сон я тоже вижу довольно часто, но он начал сниться не в детстве, а несколько лет назад, с юности" — заметила клиентка. Она сразу согласилась с интерпретацией, что, возможно, это сновидение связано с сексуальными переживаниями и добавила, что иногда оно включено в чисто эротические сны. Я стала расспрашивать клиентку дальше.
Т: Как Вы считаете, кто это может быть? К: Я сама об этом часто думала. И перебирала всех своих приятелей, но я точно знаю, что это не мог быть никто из них. Вернее, я всегда боялась, что это отец. Я помню, этот сон впервые приснился, когда я сказала ему, что собираюсь выйти замуж.
На этом этапе терапевтического анализа я сочла необходимым рассказать госпоже Ш. основы фрейдовской те-
[272]
ории Эдипова комплекса. Оказалось, что в этом нет нужды—в опыте клиентки эдиповы переживания были представлены во всей полноте и, как выяснилось далее, именно они и составляли патогенное ядро:
К: Собственно, это и есть, наверное, моя главная проблема. Я просто не знала, можно ли об этом рассказывать. Я знаю, что такое инцест, и сама пыталась понять свои отношения с отцом. Но это сложно, и потом — мы в семье никогда не говорили об этом.
Т: Что Вы называете инцестом?
К: Сколько я себя помню, я всегда очень любила папу. И была его любимой дочкой. Когда я подросла, я иногда думала — странно, что тетя Галя (мачеха Татьяны, вторая жена отца) хорошо ко мне относится и совсем не ревнует.
Т: Почему она должна была ревновать?
К (не слушая моих вопросов, говорит, как, в трансе): А отец ревновал, я знаю. Я из-за него не могла встречаться с парнями, как другие девушки. А потом получилось так, что он умер — фактически у меня на руках. И когда я узнала, что у меня будет ребенок, сразу решила, что назову в его честь. Понимаете? Папа умер, а я родила сына — и как будто он продолжился. А потом все это случилось с малышом, и когда он умирал — я тоже почувствовала: ну, все... (Умолкает. Потом, после долгой паузы, меняет тему рассказа):
К: Знаете, это все, с именами, до сих пор важно. Вот я у Вас недавно спрашивала, не можете ли Вы порекомендовать моему брату хорошего психотерапевта в Харькове. И Вы назвали человека, которого зовут как отца, а отчество — как у Вас. Вы его очень хвалили.
Т (заражаясь состоянием клиентки): Ну да, он прекрасный специалист. И написал одну из лучших книг по психотерапии.
К: Да, я ее пробовала читать. Сразу взяла у сестры, но ей ничего не сказала.
Обдумывая этот разговор, я поняла, что г-жа Ш. использует очень специфическую стратегию психического
[273]
моделирования действительности. Ее в полной мере можно назвать сновидной или фантазматической, поскольку в дискурсе клиентки реальные факты, их восприятие и понимание, субъективные и объективные характеристики спутаны и слиты, полностью произвольны. "Слова в сновидениях, — пишет Фрейд, — трактуются как конкретные вещи, поэтому их значения часто комбинируются и совмещаются" [108, vol.2/3, р.ЗЗО]. Аналогично этому речь госпожи Ш. организована на уровне свободной игры означаемого и означающего: слова трактуются как объекты, ибо оторваны от фиксированной цепочки означающих и своих привычных значений.
Такой способ выражения мыслей и чувств, конечно, далек от нормального (обычного). С другой стороны, он представляет собой эффективный компромисс между нормальной (здоровой) и патологической (психотической) формой артикуляции значений и личностных смыслов, обычные способы выражения которых невозможны (ядро вытеснения). Большинство людей склонны рассматривать этот феномен как чисто патологический (в этом контексте стали понятны страхи сестры — Ирина боялась, что Татьяна в какой-то момент может "соскользнуть" в психоз полностью).
Лакан в своих работах описывает множество подобных примеров, наиболее известный — "Я возвращаюсь от колбасника" [см. 114, vol.2]. Типичным является и включение личности аналитика в цепочку означающих, используемых клиенткой. Такая встреча с объектом в трансферентных отношениях предоставляет субъекту возможность определить свою позицию в связи с существованием сексуальности, феноменологией нарциссического сознания и структурой Другого как возможностью трансценденции, выхода за любые пределы.
В ходе дальнейшей терапии я попыталась выяснить, что именно из представленного госпожой Ш. материала "закольцовано" в симптом60. Для этого нужно было как-то разделить реальные события и результаты их психической переработки во внутреннем опыте клиентки. Задача оказалась непростой, поскольку большая часть воспоми-
[274]
наний и переживаний г-жи Ш. была окрашена сильным чувством вины. Но именно последнее позволило очертить проблему-симптом. Суть его состояла в следующем.
Отношения Татьяны с отцом действительно имели выраженную инцестуозную окраску (хотя, скорее всего, источником травматических переживаний был не реальный эпизод, а достаточно типичная для истерических девушек фантазия о совращении). Поэтому его смерть стала источником сильного чувства вины. Г-жа Ш. спроецировала это чувство на отношения с братьями и старшей сестрой, полагая, что они также винят ее в происшедшем. (Одновременно клиентка использовала в качестве психологической защиты механизм реверсии — она обвиняла своих родственников в том, что те фактически "бросили" отца умирать на ее руках).
Сын, названный в честь любимого отца, стал для госпожи Ш. не просто символическим заместителем последнего, но, по-видимому, был отождествлен с вытесненным объектом желания. В фантазме отсутствовала способность к различению этих двух фигур (точнее, позиций в Символическом), что легко объяснить регрессивным стремлением к удовлетворению желания. Последнее в данном случае и составляет ядро вытеснения, но считать его просто инцестуозным — преждевременно.
Дело в том, что в биографии г-жи Ш. был еще один травматический эпизод. Когда ее сыну исполнилось полгода, он получил серьезную травму головы. Клиентка в это время находилась в больнице и не могла ухаживать за мальчиком. Она плохо помнит все подробности, так как большей частью лежала в бреду, с высокой температурой. Однако схожесть обеих ситуаций (смерти отца и тяжелой болезни сына — он, фактически, тоже был близок к гибели) ее долгое время навязчиво преследовала.
Именно эти переживания больше всего тревожили ее старшую сестру. Ирина сумела помочь Татьяне, подтолкнув клиентку к активному исполнению церковных обрядов. В данном случае сестра проявила отличную аналитическую интуицию, умело использовав социально приемлемые формы навязчивого поведения (как извест-
[275]
но, в основе целительной силы многих религиозных ритуалов лежит бессознательная потребность справиться с обсессивными (навязчивыми) страхами). Судя по всему, именно это помогло клиентке "собрать себя" для того, чтобы начать систематическую терапию
Сильное чувство вины, заместившее у г-жи Ш. вытесненные мотивы любви и убийства (замечу в скобках, что мне самой часто казалось неправдоподобным столь точное воспроизведение в неврозе современной молодой женщины целого набора классических фрейдовских теорий — начиная с фантазма о совращении и кончая судьбой Первобытного Отца из "Тотема и табу"), обернулось для нее фундаментальной потерей возможности доступа к Символическому Другому. Однако серия фантазмов предотвратила психотическую "потерю реальности" и позволила г-же Ш. пройти по узкой тропе между психотическим отчуждением от Другого и невротической фантазией о Другом. В конечном итоге она сумела вернуться в Символический мир закона и желания.
Интересно, что косвенной формой переживаний, свидетельствующей о таком возврате, стали сновидения-фантазмы с моим участием. На одной из заключительных сессий клиентка сказала следующее:
К: Знаете, я уже научилась хорошо различать Вас настоящую и ту, которая мне часто снится. Ее я называю Н.Ф., а Вас — аналитиком. И я понимаю, что Ваши — то есть ее — советы в сновидении, и Ваши вопросы не совсем одинаковые.
Т: А чем они отличаются?
К: Когда Вы что-нибудь говорите как Вы, то всегда объясняете что к чему, и что откуда взялось. А та Н.Ф., из снов, этого не делает, хотя ей я верю больше. Нет, не так! Ее я больше слушаюсь, что ли. То есть Вы не заставляете меня делать что-нибудь, а она... она не оставляет мне выбора.
Т: Почему?
К: Она больше я, если Вы понимаете, как это. (Замолкает) Как бы это получше сказать... объяснить... выразить.
[276]
Т: Не торопитесь. Походящее выражение обязательно найдется.
К: Я это для себя понимаю так: если Вы говорите мне что-нибудь, то это Вы сказали. А если говорит Н.Ф. из сновидения, то это как бы я говорю себе — от Вашего имени. Но я не стала бы говорить так — от Вашего имени—о незначительном... неважном или глупом. Значит, это тоже важно, хотя и по-другому.
Слова госпожи Ш. являются точной клинической иллюстрацией лакановского положения о трансформации работы переноса в перенос работы. Последнее гласит, что конфронтация с аналитиком, выступающим в качестве объекта (а'), может иметь место, только если первоначально субъект поместил аналитика в идеальную позицию субъекта, которого можно знать. Другими словами, позитивный перенос (аналитик как знаемый субъект) должен предшествовать негативному переносу (объект, не поддержавший знание Другого).
Это общая работа аналитического знания, итоги которой, как правило, подводятся в конце анализа. Необычно, что ее начало инспирировано клиенткой, хотя в данном конкретном случае число невероятных совпадений обстоятельств терапии с теоретическими принципами ее организации далеко выходит за рамки нормы. Я обратила внимание на то, что на сей раз г-же Ш. было легче подбирать означающие — в полном соответствии с представлением Лакана о том, что знание бессознательного как таковое есть знание бессубъектное, чистый результат отношений и работы, не зависящий от каких бы то ни было форм суждений, и существующий отдельно от сознания и индивидуальности клиента.
В конце терапии перед нами развертывается чистое функционирование аналитического дискурса, наступающее в тех случаях, когда клиент подтверждает свое желание работать против вытеснения и понимать различия. Фантазм апробирует новую форму социальных отношений, о которой основоположник структурного психоана-
[277]
лиза сказал так: "Ничего не ожидая от индивидов, я все же жду кое-чего от их функционирования" [114, vol.1, p.131].
7.4. Активные техники работы со сновидениями в терапевтическом анализе
Помимо интерпретации, существуют и другие, более активные методы работы со снами. Они предложены в основном постыонгианцами — учениками и последователями К.Г.Юнга, придерживавшегося несколько иных представлений о природе и функциях бессознательной психики. В этой книге юнгианской теории внимания почти не уделялось, так что в последней главе вряд ли стоит приводить систематическое изложение основ аналитической психологии. Я попробую ограничиться собственно постъюнгианскими представлениями, сделав основной упор на архетипической психологии Джеймса Хиллмана. По ходу изложения будут либо изложены вкратце необходимые положения юнгианской теории, либо специально оговорены соответствующие ссылки.
Несколько слов о панораме современного постьюнгианства. Согласно мнению видного теоретика этого направления Эндрю Самуэлса [64], можно выделить три основных школы аналитической психологии: классическую, школу развития и архетипическую. Это членение произведено на основе учета исследовательских и клинических приоритетов, так что вполне уместно говорить о трех различных типах дискурсивных практик — тем более, что столь принципиальных различий в теории и методологии, как в психоанализе, здесь нет.
Юнгианцы, принадлежащие к классической школе, основное внимание уделяют исследованиям Самости, понимаемой как трансцендентальная вершина человеческого развития, наивысшая полнота творческой самореализации индивида. Всесторонне исследуются архетипические аспекты Самости, ее символические переживания и их влияние на процесс терапии.
[278]
Школа развития, по мнению Самуэлса, больше сосредоточена на клинических аспектах аналитической практики. Центральной проблемой является перенос, его разнообразные формы, архетипическая символизация, взаимное влияние бессознательной психики терапевта и клиента в аналитическом процессе. Именно эти явления реализуют главное назначение юнгианской психотерапии — содействуют процессу индивидуации (личностного роста, развития Самости).
Наконец, архетипическая школа, представленная работами Дж-Хиллмана, АТутгеибюль-Крейга, Г.Корбина, исследует и использует в терапии образы, выступающие в качестве базового, первичного уровня психической реальности. Речь идет об образах сновидений, фантазии, поэтических и художественных образах, которые рассматриваются как проявление и спонтанная деятельность человеческой души. Хиллман подчеркивает, что образы имеют сугубо творческий характер:
"В архетипической психологии термин ''образ" не относится к послеобразу, т.е. к результату ощущений и восприятия. Не означает "образ" и ментальной конструкции, представляющей в символической форме некоторые идеи и чувства, выражением которых служит данный образ. В действительности образ соотносится только с самим собой. За своими пределами он не связан ни с чем проприоцептивным, внешним, семантическим: образы ничего не обозначают. Они составляют само психическое в его имагинативной61 видимости; в качестве первичной данности образ несводим [к чему-либо еще — Н.К.]" [88, с. 63].
Такая точка зрения, при всей ее кажущейся необычности, свойственна на самом деле многим людям. Клиенты часто относятся к создаваемым ими образам именно так — с величайшей любовью и почтением. Попытка терапевта разрушить этот пиетет своими интерпретациями может серьезно осложнить ход терапии и нарушить взаимопонимание и доверие к аналитику.
И все же интерпретации — неотъемлемая и важнейшая часть терапевтического анализа. Вся проблема состоит в
[279]
том, чтобы уметь различать те моменты, в которых представленные пациентом образы и мотивы не нуждаются в толковании, а требуют иного отношения. Иногда клиенты сами помогают решить эту задачу, иногда нет.
Так, я припоминаю семинар по юнгианскому анализу, на котором одна из участниц с большой эмоциональной выразительностью рассказала историю62 о прекрасной девушке, выросшей среди очень некрасивых, уродливых людей. Героиня в детстве долго мучилась оттого, что ее считали непривлекательной и ненормальной, а когда выросла, молодой принц из другого племени открыл ей настоящее положение вещей, и все закончилось, как и положено, счастливой свадьбой.
С аналитической точки зрения, история была совершенно прозрачной. Среди участников семинара не было отбоя от желающих проинтерпретировать те или иные аспекты рассказанного в контексте личностных особенностей клиентки и ее возможных психологических проблем. Однако все толкования, несмотря на то, что в большинстве своем были обоснованными и точными, никак не продвигали работу и, чем дальше, тем больше выглядели неуместными.
Наконец, один юноша осторожно заметил: "Я думаю, эту историю не стоит анализировать. Это просто Маша рассказала о себе, и я лично многое понял. Вряд ли все наши высказывания насчет проективной идентификации и нарциссической самоидеализации в этом случае так уж справедливы".
— Почему? — взвились особо усердные из начинающих аналитиков.
— Потому что Маша на самом деле очень красивая, — честно ответил он.
Так оно и было. Образ стройной голубоглазой красавицы продолжал незримо витать среди присутствующих на семинаре, и до сих пор многие из постоянных участников его хорошо помнят. С того времени историю "Про Машу среди обезьян" периодически напоминают аналитикам, которые слишком рьяно (так, что за этим просма-
[280]
триваются компенсаторные мотивы) рвутся разрушать нарциссические саморепрезентации своих клиентов.
Архетипическая психология исходит из того, что образы в качестве базовых элементов психики спонтанны, обладают автономностью и величайшей ценностью. В этом своем качестве они могут рассматриваться как единицы структуры личности, ее составные части. Развивая представления Юнга о базовых архетипах личностной организации63 (в число которых входят Тень, Персона, Анима или Анимус и Самость), Хиллман в 1975 г. предложил парциальную теорию личности.
Суть ее состоит в следующем. Любая человеческая личность характеризуется множеством интенций, стремлений, желаний и намерений, в ней в различных пропорциях смешаны творчество, корысть, жажда нового, любовь к покою, зависть, самопожертвование, честолюбие, самодостаточность и т.д. Можно представить себе эти части в виде самостоятельных персонажей, последовательно или одновременно участвующих в повествовании под названием жизнь. "Личность является театром архетипических фигур, — пишет Хиллман, — часть из которых располагается на переднем плане внизу и в центре, другие ожидают за кулисами, а само состязание демонстрирует героические, коммерческие, комические, трагические и фарсовые темы" [88, с.36].
Персонифицированные множественные личности, составляющие отдельного субъекта, довольно часто представлены в сновидениях. В такой форме их можно (и нужно, считает Хиллман, ибо этот способ рассмотрения личностной структуры уже сам по себе терапевтичен — он выгодно отличается от научных абстракций типа "факторов", "мотивов" или "черт") использовать в работе с клиентами, поскольку непосредственно переживаемые и воспринимаемые образы вызывают меньшее отторжение и защиту.
С такими парциальными (частичными) личностями в форме образов можно взаимодействовать по-разному. Сними можно поговорить, сразиться, высмеять, заключить в объятия, нарисовать, пожалеть и т.п. По желанию
[281]
клиента, с образами сновидений можно не только разговаривать, но и танцевать, коллекционировать их, давать имена или угощать мороженным. Эти действия, виртуальные или реальные, могут быть проявлениями как регрессивной угрозы целостности Я, так и прогрессивной дифференциации, способствующей развитию Самости. Все зависит от терапевтической ситуации в целом и профессиональной интуиции аналитика.
Одним из наиболее часто встречаемых образов сновидения является мотив двойника. Дуализм как исконное свойство человеческой природы задолго до Юнга и Хиллмана описывали мифологические, религиозные, литературные и философские традиции Востока и Запада. Индийские Веды и древнейшие анналы Японии, шумерские сказания и полинезийские мифы, "Старшая Эдда" и "Тысяча и одна ночь", Платон и Аристотель, Достоевский и Ч.Р.Метьюрин внесли свой вклад в понимание этой архетипической фигуры.
В приводимом далее примере тема двойника артикулирована сугубо академически. "Героиня" этого случая — моя коллега по профессии, психолог, хорошо знакомая с теорией и практикой психотерапии. Наш разговор был просто беседой двух приятельниц (поэтому сохранено местоимение "ты"). Но я думаю, что абсолютно "чистых" от супервизии разговоров на профессиональные темы у психотерапевтов не бывает. Начало было сакраментальным для нашего времени — денег катастрофически не хватает. И я поинтересовалась, почему коллега не расширит свою психотерапевтическую практику. В ответ она сказала:
— Знаешь, я не могу для себя выбрать окончательно — терапия или собственно научные исследования. Я понимаю, что, по большому счету, одно другому не помеха, но вот для меня это почему-то не так. В нашем городе желающих на это дело {иметь психотерапевтическую практику — Н.К.) хватает, придется впрягаться по-настоящему — и когда писать, читать, думать?
— Я думаю, это все ерунда. У тебя какие-то бессознательные страхи — хотела бы я знать, какие.
[282]
Мы посмеялись и сменили тему разговора, а наутро приятельница рассказала сон:
Мне снится твой рабочий кабинет, книжные полки; компьютер, правда, мой и расположен по-другому, не так, как у тебя. Я в сновидений это как-то понимаю и иду к одному из шкафов. И вижу книги, которые там стоят, с другой стороны — очень странное чувство, как. будто еще одна я ходит там, за полками. И она не может выйти, потому что ей надо пройти через книги, а этого почему-то нельзя. Причем книжные полки и сами книги точно твои, и коты64 стоят, но во сне так выглядит, будто они застекленные и отчасти зеркальные. Отсюда, наверное, и двойник — а может быть, это потому, что у тебя зеркало висит над компьютером...
Тут коллега замолчала — мы как раз сидели с ней в этом самом кабинете и обе видели, что над компьютером у меня висят часы, а не зеркало. Далее состоялся следующий диалог:
— Вот и интерпретируй это в свете твоей вчерашней теории про мои бессознательные страхи.
— Да это ты "Алисы в Зазеркалье" начиталась — литературные реминисценции.
— Ничего не реминисценции. Между прочим, зеркало над компьютером висит у меня.
Тут мы и решили разобраться с этим сновидением. Поскольку обе участницы беседы знали глубинную психологию, то основной момент, имеющий отношение к проблеме — невозможность выйти, потому что нельзя пройти через книги — был понятен, как и ряд второстепенных мотивов — отчасти игровые, отчасти реальные отношения конкурентности, существовавшие между нами, и т.п. Но разгадка сна упорно не давалась в руки.
И тогда я предложила интерактивную технику — раз уж мы сидим в том самом месте, которое изображено в сновидении, то пусть коллега воспроизведет свои действия наяву. Она с жаром согласилась и потребовала "для полноты картины" поставить на книжную полку зеркало. Я принесла зеркало и спросила, куда его ставить.
— На полку с книгами по постмодернизму.
— Но это будет низко, тебе по пояс.
— Зато высоко и правильно с точки зрения ценности.
[283]
Я поняла, что мы на верном пути. Подруга взяла с полки несколько книг, разложила их (некоторые даже раскрыла) и задумалась. Я посмотрела — это были книги Ж.Делеза и М.Фуко.
— Ты почему эти выбрала?
— Я их как-то помню по сну. Точнее, помню заголовки... хотя нет, у Фуко все помню.
Названия были такими: "Надзирать и наказывать", "Забота о себе", "Рождение клиники" (М.Фуко), "Логика смысла" (ЖДелез). Я заметила:
— Ну, мы как две гадалки. Можно считать эти книги картами Таро?
— Нет, это, если угодно, мои архетипические персонификации.
— Угодно. И что ты о них можешь сказать?
— Тут нет еще одной, — ответила подруга.
— Я знаю, какой именно, — сказала я. И подала ей книгу Делеза, посвященную Фуко. Она раскрыла ее, прочла оглавление, немного подумала, а потом сказала:
— Вот и решение проблемы.
— Ничего себе, — подумала я. Кто из нас аналитик? Я даже не успела понять, в чем проблема, а коллега говорит о решении. И выразила это вслух. В ответ она сказала:
— А откуда ты узнала, какую книгу дать?
— По названию. Ты выбрала только Делеза и Фуко. А я дала тебе книгу Делеза "Фуко" — как завершающий элемент прогрессии.
— Видишь, кто чем силен. Ты — интуицией, а я — логикой.
И рассказала следующее. Она действительно считала научные исследования своим главным делом. Психотерапевтическая практика, в числе прочего, потребовала бы регулярных записей на сеансах и после них. Такая работа — работа архивариуса, в ней почти нет творческого начала, а его отсутствие ужасало подругу больше всего на свете.
Она не размышляла над всем этим подробно — я была права насчет вытеснения бессознательных аспектов проблемы. Но книга Делеза, непосредственно затрагивающая соотношения мысли, познания и описания его результа-
[284]
тов, структурировала затруднения и подсказала решение проблемы одним только своим оглавлением, которое я здесь и привожу, выделив курсивом непосредственную логику разрешения последней:
1. От архива к диаграмме.
2. Новый архивариус.
3. Новый картограф.
4. Топология (мыслить по-иному).
5. Страты или Исторические формации (видимое и высказываемое знание).
6. Стратегии или Нестратифицируемое (мысль извне — власть).
7. Складки или Внутренняя сторона мысли (субъективация)65.
Конечно, в описании этого случая у меня просто нет возможности эксплицировать все психотерапевтические инсайты, поскольку анализ двумя аналитиками одного из них, выступающего в роли клиента, — дело весьма специфическое. Однако сам эпизод прекрасно иллюстрирует возможности стандартов архетипической психологии в терапии. Наше с коллегой взаимодействие, инспирированное имагинативной логикой сновидения, позволило сформулировать и разрешить весьма серьезную личностную проблему: она в дальнейшем не раз говорила, что этот случай окончательно снял у нее психологические ограничения в сфере практической психотерапии.
Г.Корбин и Дж.Хиллман психотерапевтическую практику такого рода называют созиданием души. В качестве заключительного комментария я процитирую хиллмановское понимание этого процесса:
"Созидание души описывают так же, как получение образов (imaging), т.е. видение или слушание с помощью воображения, которое в любом событии усматривает его образ. Получение образов означает высвобождение событий из буквального воспринимания путем погружения его в мифический апперцептивный контекст. В этом смысле созидание души приравнивается к де-буквализации — устранению "дурной" конкретности. Другими словами, созидание души соответствует психологической установке, которая с подозрением
[285]
отвергает наивный, данный уровень событий, чтобы отыскать другие — теневые, метафорические значения этих событий для души" [88, с.83].
В нашем случае детали сновидения (книги, зеркало, часы) были единогласно приняты в качестве таких "высвобожденных" образов-событий; правда, апперцептивный контекст был не мифическим, а эпистемологическим. А почему бы и нет? Кто сказал, что архетипы не могут выражаться таким образом (в виде книг по постмодернизму)? Уж наверное мифологемы ученого конца XX столетия не обязаны воспроизводить архаическое мировоззрение буквально. Зато финальные инсайты, связанные с книгой Делеза "Фуко", имели первосортную мифологическую (синхронистическую) природу.
В сновидении другого пациента парциальные личности были представлены величественными, могущественными фигурами со множеством сверхъестественных свойств. Он созерцал образы демонических мужчин и прекрасных женщин, одновременно соблазнительных и устрашающих. Персонажи сна были представлены в динамике, но клиент (господин Э.) не мог вспомнить, что именно они делали. "Там были помещения, похожие на дворцы, и какие-то поля, или охотничьи угодья, лес... Все как-то нечетко и расплывчато, но по смыслу, а не визуально, если Вы понимаете, о чем я говорю".
Сначала я предложила идентифицировать эти образы в соответствии с какой-либо мифологической или религиозной традицией, дав им соответствующие имена. Г-н Э. с увлечением занялся этим, используя греческую мифологию, и то и дело советовался со мной, как будет лучше. В процессе работы я заметила, что, назвав образ каким-либо именем (содержание сна он подробно записал, так что необходимый для реконструкции материал имелся), клиент в дальнейшем приписывал ему соответствующее занятия (Афина пряла, Афродита любовалась собой в зеркале и т.п.).
Т: Но ведь Вы не помните, что именно делали персонажи в Вашем сновидении?
[286]
К: Нет... Но они ведь должны это делать?
Т: Не знаю. По-моему, образы сновидения никому ничего не должны.
К: А зачем мы тогда даем им все эти имена? Ведь это же позволит понять смысл сновидения, его послание, так сказать.
Т: Как раз смысл сна Вы и назвали расплывчатым. Нечетким.
К: А Вы пытаетесь его прояснить.
Т: Да, наверное. Но можно поступить и иначе. Это Ваши образы, и смысл тоже должен быть Вашим. Каждая фигура в сновидении — это часть Вашей личности. Так что можно узнать, что они делают, и без помощи мифологических прототипов. Как мы можем быть уверены, что образ Вашего сна сидел за прялкой потому, что ему так положено, а не потому, что Вы видели это на самом деле?
К: Наверное, Вы правы. Никто там у меня во сне не прял. Я бы это запомнил.
Т: Может быть, Вы стесняетесь рассказать об их занятиях? Возникает ощущение, что ряд моментов сновидения кем-то тщательно отредактирован.
К: Нет, дело не в этом. Но если они — это я, то где же тогда я сам?
Клиент пытается соотнести какой-нибудь образ с Эго, центром сознания личности. После непродолжительного размышления он продолжает:
К: Странно, но меня там действительно нет. И я, кажется, знаю, почему. Это они все на меня там охотятся... преследуют. Но мне всегда удается ускользнуть — я просыпаюсь.
Т: А если бы не удалось?
К: Тогда их всех бы не стало. (Пауза) Вот оно в чем дело! Это не греки, это Дикая Охота66. Я охочусь за ними, а они — за мной. Поэтому они не могут поймать меня там, во сне, а я их — здесь, на терапии.
В ходе дальнейшей работы господин Э. разрешил себе (своему Эго, ответственному за самоидентичность и пространственно-временную непрерывность личности) стать
[287]
пойманной добычей, в результате чего стал лучше понимать некоторые свои интенции, противоречащие сознательной установке. Одновременно с этим ему удалось смягчить в себе ту часть, которую можно было назвать Диким Охотником. Уменьшилось напряжение, связанное с необходимостью поддерживать образ неумолимого совершенства, который он считал абсолютно необходимым на работе (г-н Э. был руководителем фирмы) и отчасти в семье — в отношениях с сыном.
Данный пример хорошо иллюстрирует хиллмановское требование не интерпретировать образы, а взаимодействовать, "сближаться" с ними. Вообще интерпретация как редукция, объяснение значения образа и, соответственно, сведение его к чему-то другому, меньшему, чем он сам, как это повсеместно делается в психоанализе, у юнгианцев не принята. Наоборот, главной задачей истолкования является как раз обогащение коннотативных смыслов и значений образов сновидения посредством помещения их в соответствующий контекст.
Самодовлеющий характер образов сновидения, их автономия, признаваемая не только Хиллманом, но и другими постюнгианцами, не исключают, а предполагают широкое использование в работе с ними процедур амплификации (обогащения). Этот метод, придуманный очень давно и доведенный до совершенства аналитическими психологами, почему-то сравнительно мало используется психоаналитиками других школ. Как правило, психотерапевт, работающий со сновидением или серией снов, не преминет поинтересоваться ассоциациями клиента, но крайне редко предлагает ему обсудить даже явно напрашивающиеся мифологические, религиозные или культурные параллели к исследуемому материалу.
Это связано с общими различиями в методологии и технике толкования сновидений. Начало расхождений восходит к теоретическим разногласиям Фрейда и Юнга.
[288]
Написанная последним в 1912 г. работа "Метаморфозы и символы либидо" фактически содержит в себе одно большое расширительное толкование психической энергии, весьма далекое от фрейдовского "сексуального редукционизма". Юнг хорошо понимал, что пропаганда собственной точки зрения будет стоить ему дружбы с Фрейдом, но его твердая убежденность в правильности своих взглядов уже тогда была непоколебимой.
От этой книги и можно вести отсчет истории разработки амплификативного метода. Примерно в то же время в одной из лекций, прочитанных в Университете Фордхэма, Юнг четко формулирует необходимость использования в анализе сновидений исторических и культурных параллелей. Сравнивая этот процесс с пониманием символики обряда крещения, он пишет:
"Точно так же поступает аналитик со сновидением: он собирает исторические параллели, даже самые отдаленные и, притом, для каждой части сновидения отдельно, стараясь создать психологическую историю сна и лежащий в основе его значений. При такой монографической обработке сновидения, как и при анализе обряда крещения, мы глубоко вникаем в удивительно тонкое и замысловатое сплетение бессознательных детерминант, обретая при этом понимание их, сравнимое только с историческим пониманием действия, которое мы до сих пор привыкли рассматривать весьма односторонне и поверхностно" [96, с.81].
Лучше, пожалуй и не скажешь. Разумеется, в процессе психоаналитического анализа нельзя забывать о влиянии актуальных впечатлений (то, что Фрейд называл "дневными остатками"), трансферентной динамики и т.п. Но архетипическая символика, трансформированная культурными установками клиента, не менее важна и значима. Именно последняя и проясняется посредством амплификации.
Интересно, что аналитические психологи намерено игнорируют или резко критикуют те немногие фрейдовские работы, в которых сравнительно-исторические и культурно-антропологические параллели служат опорой для ряда концептуальных теоретических положений психоанализа. Юнг с возмущением говорит о "фантастических допуще-
[289]
ниях теории тотемов и табу". Возможно, это связано с тем, что стиль амплификаций Фрейда принципиально иной, и преследуют они другие цели.
Со времен юнговских "Метаморфоз" прошло много лет, и набор источников, из которых можно черпать сравнения и проводить культурные параллели, существенно расширился. Наряду с классической для юнгианства мифологической, религиозной или алхимической символикой современные психотерапевты широко используют исторические сказания и легенды, эпос различных народов, литературу, живопись и любые другие виды художественного творчества. Все зависит от эрудиции терапевта и индивидуальных предпочтений клиента.
Разумеется, целительный потенциал легенд и историй востребован не только в психотерапии. Из многочисленных сообщений я знаю, что юнгианские принципы в их, так сказать, "диком" (дилетантском) варианте используются повсеместно, и очень разными людьми. Поклонники триллеров и "саспенсов"67, читатели всякого рода "фэнтези", фанатики компьютерных игр, "идущие путями Кастанеды", наркоманы всех мастей — кого только нет в рядах стихийных практиков имагинативных психотерапевтических техник. Исцеляющий вымысел все равно работает. Об этом свидетельствует хотя бы взрыв популярности таких писателей, как ХЛ.Борхес, М.Павич, Дж.Фаулз, У.Эко, наконец, неутомимый и весьма профессионально продвинутый в соответствующих сферах знания М.Элиаде.
Так что амплифицирующие техники не ограничены в своих ресурсах. А ведь совсем недавно, лет десять-пятнадцать назад, в распоряжении отечественных читателей были разве что "Альтист Данилов" Вл. Орлова, да восстановленный в правах М.Булгаков. Теперь подходящим книгам и кинофильмам просто несть числа. Конечно, признанные мастера жанра — такие, как С. Дали, А. Хичкок, В.Пелевин или Дж-Р.Р.Толкиен, — предоставляют большее разнообразие различным формам имагинативной активности, но теперь каждый может найти себе
[290]
подходящее основание для архетипического проецирования, понимания и разрешения собственных проблем.
В терапевтическом анализе, особенно при толковании сновидений, не стоит сдерживать себя в использовании религиозных и мифологических параллелей, фольклорных сюжетов и мотивов — нужно только убедиться в том, что клиент владеет соответствующим контекстом. Конечно, проще всего обращаться к подходящим литературным произведениям или фильмам. При необходимости легенду, историю или поэтический эпизод, непосредственно соотносящийся с терапевтической ситуацией, можно рассказать прямо в процессе терапевтического анализа.
В моей практике был случай, когда клиент настолько хорошо воспринял процедуру амплификации содержания сновидений, что очень быстро научился использовать ее самостоятельно и тем самым существенно сократил объем терапевтической работы. У г-на Я., молодого человека лет тридцати, было, по его словам, множество проблем в отношениях с девушками. Несмотря на демонстрацию горячего желания работать и полного доверия к аналитику, клиент никак не мог связно рассказать, в чем же, собственно, эти проблемы состоят.
На терапии он пересказал несколько эпизодов, касающихся знакомых девушек. Их суть сводилась к тому, что все они "какие-то не такие". Господин Я. подчеркивал, что подружек и приятельниц у него много, и отношения с ними, в том числе и сексуальные, не вызывают особых трудностей. Но все эти отношения его не удовлетворяют, "стоящих женщин вокруг нет", "все они одинаковые и сразу видно, чего им хочется". Я заметила, что он рассказывает весьма скучно. "Вот-вот, — обрадовался г-н Я., — все дело именно в этом. Все скучно, все повторяется и безмерно надоело".
Было очевидно, что клиент не говорит всей правды, и многое из того, что он рассказывает — вещи надуманные и придуманные. Поэтому я предложила рассказать сновидение. На следующем сеансе г-н Я. рассказал сон, как две капли воды похожий на то, что он говорил и раньше: какой-то город, в нем множество девушек, он ходит между
[291]
ним, рассматривает и никак не может то ли кого-то выбрать, то ли узнать... Я заподозрила, что и сновидение он тоже выдумал.
Здесь я хочу сделать небольшое отступление. За годы терапевтической работы я много занималась анализом сновидений, и моя первая книга была посвящена именно этому. Я уверена, что сновидение выдумать нельзя. То есть можно насочинять множество невероятных историй, но при их выслушивании сразу возникает ощущение неправды. Конечно, люди часто изменяют детали своих сновидений, многое забывают и присочиняют лишнее, но все это отличается от выдумки в чистом виде. В лучшем случае, можно скомбинировать несколько эпизодов в один сон, но это тоже легко прояснить в процессе анализа. Одним словом, опытный терапевт всегда может отличить настоящее сновидение от вымысла.
В описываемом случае вряд ли стоило идти на прямую конфронтацию — скорее всего, это было бы неэффективно. Я решила поступить иначе. "В Вашей жизни явно не хватает романтики, — сказала я. — Давайте привнесем ее прямо в терапию. Вот здесь у меня — очень необычная книга, она называется "Хазарский словарь". Я буду брать свои интерпретации прямо из нее". Г-н Я. отнесся к моей идее с недоверием, но вынужден был согласиться. Далее в своем рассказе я буду выделять курсивом все цитаты, взятые из романа М.Павича68. По поводу сновидения я прочла клиенту следующее:
Однажды весной принцесса Атех сказала: — Я привыкла к своим мыслям, как к своим платьям. В талии они всегда одной ширины, и я вижу их повсюду, даже на перекрестках. И что хуже всего — за ними уже и перекрестков не видно.
Клиент вздрогнул — символическая интерпретация сумела обойти его защиты. Он заинтересовался, кто такая эта принцесса Атех, и я продолжила:
Атех была прекрасна и набожна, и буквы были ей к лицу, а на столе ее всегда стояли разные соли, все семь, и она, прежде чем взять кусок рыбы, обмакивала пальцы каждый раз в другую
[292]
соль. Говорят, что, как и солей, было у нее семь лиц. Кроме того, каждое утро она превращала свое лицо в новое, ранее невиданное. Другие считают, что Атех вообще не была красивой, однако она научилась перед зеркалом придавать своему лицу такое выражение и так владеть его чертами, что создавалось впечатление красоты. Эта искусственная красота требовала от нее стольких усилий, что, как только принцесса оставалась одна, красота ее рассыпалась так же, как ее соль.
Господин Я. помолчал, а потом сказал, что у него бывают и другие сны — в которых девушки находятся за оградой, так что он не может к ним приблизиться. "Но я понимаю при этом, что так они не смогут на меня наброситься, что я в безопасности," — говорил он. Комментарий был таким:
К поясу принцессы Атех, которая помогла еврейскому участнику хазарской полемики, всегда был подвешен череп ее любовника Мокадасы аль-Сафера, и этот череп она кормила перченой землей и поила соленой водой, а в глазные отверстия сажала васильки, чтобы он и на том свете мог видеть голубое.
"Да, это интересная книга, — сказал мой клиент. — А как Вы знаете, из какого места следует читать?" Я ответила, что хорошо знаю роман и часто использую его в процессе анализа сновидений.
На следующий сеанс г-н Я. принес "Хазарский словарь" и сообщил, что прочел эту книгу несколько раз и, в свою очередь, хочет мне из нее кое-что процитировать:
Принцесса Атех могла войти в сон человека моложе ее на тысячу лет, любую вещь она могла послать тому, кто видел ее во сне, сталь же надежно, как с гонцом на коне, которого поили вином, — только намного, намного быстрее... Описывается один такой поступок принцессы Атех. Однажды она взяла в рот ключ от своей опочивальни и стала ждать, пока не услышала музыку и слабый голос молодой женщины, который произнес:
— Поступки в человеческой жизни похожи на еду, а мысли и чувства — на приправы. Плохо придется тому, кто посолит черешню или польет уксусом пирожное...
Когда прозвучали эти слова, ключ исчез изо рта принцессы, и она, как говорят, знала, что так произошла замена. Ключ но-
[293]
пал к тому, к кому обращался голос во сне, а слова в обмен на ключ достались принцессе Атех.
Установившаяся таким образом система метафорического опосредования позволила нам продуктивно работать. Господин Я. рассказал еще несколько сновидений, весьма прозрачно иллюстрировавших его бессознательные страхи, связанные с женщинами. Мои толкования, выдержанные в классическом духе, он сам дополнял подходящими аллюзиями из "Хазарского словаря", и в дальнейшем любые сложности, связанные с переносом, мы успешно преодолевали при помощи архетипических фантазий М.Павича.
В качестве еще одного примера амплификации в работе со сновидением хочу привести некоторые параллели к своему собственному сну, приведенному в параграфе 7.3. Думаю, что вполне имею на это право — книга подходит к концу, алфавит клиентов исчерпан от А до Я и нужен какой-то завершающий эпизод. Пусть им станут мои размышления по поводу собственного фантазма.
Источник, откуда взяты все образы и значения — книга И.Кальвино "Незримые города". О них рассказывает великому Кубла-хану знаменитый путешественник Марко Поло. "В жизни любого венценосца наступает миг, когда после триумфа великих побед, завоевания огромных территорий и покорения целых народов им внезапно овладевает опустошенность, меланхолия и чувство горечи". Рано или поздно схожие переживания возникают, наверное, у всех — и тогда бывает очень кстати сменить привычное окружение. Всегда можно перенестись в другое место — это самое простое средство от усталости, разочарования и тоски. Вот о таких других местах, а точнее — Других городах (в лакановском смысле этого термина) и рассказывает Марко Поло, а Итало Кальвино группирует его истории в такие разделы: "города и память", "города и желания", "города и обмены", "города и взгляд", "города и названия", "города и мертвые", "города и небо".
Сновидение начинается с того, что я медленно — и одновременно очень стремительно — падаю (или погружа-
[294]
юсь) вниз, в темноту. Но есть нечто вроде золотой сетки, которая меня поддерживает, хотя больше всего это похоже на летящих вниз птиц. Падение-полет — очень давний элемент внутреннего опыта, я помню это ощущение лет с трех-четырех. Характерное ощущение смеси наслаждения и страха связано в сновидении с необходимостью вернуться — неясно, как это сделать. Но не стоит забывать и ощущение непрочности. Например, так:
"Если вы мне поверите, я буду очень доволен. Теперь я расскажу об Октавии, городе-паутине. Между двух крутых гор есть пропасть, над которой и находится город, прикрепленный к обеим вершинам канатами и цепями и соединенный внутри лестницами. Приходится осторожно ступать по деревянным перекладинам так, чтобы не попасть ногой в пустоту между ними, или же цепляться за ячейки пеньковой сети. Внизу не видно ничего на многие сотни метров: под ногами проплывают тучи, под которыми находится дно пропасти...
Жизнь обитателей подвешенной над пропастью Октавии более определенна, чем в других городах. Им хорошо известно, что прочность их сети ограничена и имеет свои пределы" [26, с.96-97].
Прочность сети — это и метафора моих терапевтических умений. Сетка в сновидении золотая. Хорошо, если разорвавшись, она обернется стаей птиц. Наверное, так иносказательно обозначается фантазм. Понимание и использование фантазмов в процессе терапии, падение-полет, удовольствие, смешанное со страхом.
И все-таки сетка нужна. Нужны прочные связи и соответствия между различными теориями, направлениями, концепциями. Их знание поддержит любого начинающего психотерапевта, а со временем приходит понимание относительности, ограниченности возможностей любой теории. Приходит опыт и уверенность в себе:
"В Эрсилии для того, чтобы обозначить отношения родства, обмена, взаимозависимости или передачи прав, жители протягивают между домами белые, черные, серые или черно-белые бечевки. Когда их становится так много, что между ними уже невозможно пройти, жигпе^т переезжают в другое место, и по-
[295]
еле разборки домов остаются лишь столбы с натянутыми между ними бечевками "'[16, с, 98].
Образ сетки, переплетающихся нитей — очень емкий, он прекрасно подходит для работы терапевта. В числе напрашивающихся ассоциаций — "плетение словес", сеть коннотаций, маскирующая отверстия и лазейки, через которые можно ускользнуть. Да и сами хитросплетения бессознательных влечений и мотивов, их лабиринт — и призванное отразить и понять их сложное переплетение действий и ходов аналитика. Подземные переходы глубин бессознательной психики, зловонные ямы перверсивной сексуальности и бездонные пропасти одержимости архетипом:
"В Смеральдине, городе на воде, сеть каналов накладывается и пересекается с сетью улиц. Чтобы добраться от одного места к другому, всегда можно выбрать между сухопутной дорогой и лодкой, но поскольку в Смеральдине самый короткий путь пролегает не по прямой линии, а по зигзагообразной, которая затем разветвляется во множество других, для прохожего существует не два, а множество путей...
Как и повсюду, тайные и авантюрные дела натыкаются здесь на самые серьезные препятствия. В Смеральдине кошки, воры и тайные любовники выбирают самый непродолжительный путь, перепрыгивая с крыши на крышу, соскакивая с террас на балконы и огибая водосточные трубы, словно канатоходцы.
В самом низу, в темноте клоак гуськом пробегают крысы, заговорщики и контрабандисты; их головы высовываются из канализационных люков и коллекторов, они шастают у стен глухих переулков, перетаскивая от одного тайника к другому куски сыра, запрещенные товары, бочонки с пушечным порохом и пересекая компактно построенный город по лабиринту его подземных коммуникаций" [26, с. 112-113].
Пойдем дальше, в глубину сна. В ней я пробую вернуться, выбраться. Это получается, но я последовательно оказываюсь во многих местах, некоторые их них напоминают реальные пейзажи, некоторые — совершенно фантастичны. Они захватывают меня, и я неопределенно долго перехожу из одного места в другое. А потом понимаю, что иду по кругу. Может быть, вот так:
[296]
"Если бы, ступив на землю Труды, я не прочитал написанного большими буквами названия города, то подумал бы, что вернулся в аэропорт, из которого вылетел. Пригороды, по которым нас провозили, ничем не отличались от других, и в них были точно такие же желтые и зеленые дома. Следуя точно таким же указателям, мы проезжали по тем же дорогам и площадям. В витринах магазинов центральной части города были выставлены те же товары в тех же упаковках, а сами магазины имели те же вывески...
К чему было приезжать в Труду? — подумал я. И сразу же приготовился к отъезду'.
— Можешь вылететь, когда захочешь, — сказали мне — но только ты прилетишь еще в одну, до последней мелочи похожую на эту Труду; мир покрыт одной и той же Трудой без начала и конца: меняются только названия аэропортов" [26, с.164-165].
Очень подходящее название у города.
И последняя мысль — если у меня была подходящая (нужная? правильная? та самая?) книга, то нашелся бы человек, который вывел бы меня на поверхность. Тоска по идеалу — идеальной работе, идеальной лекции, идеальной книге присутствует всегда:
"В Версавии распространено следующее верование: будто в небесах существует другая Версавия, в которой отражаются все самые возвышенные чувства и благородные поступки в городе, и что если земная Версавия будет подражать небесной, она сольется с ней в единый город. Традиционно он представляется городом из массивного золота с серебряными соединениями стен и алмазными дверями домов, городом-жемчужиной в драгоценной оправе и инкрустацией... [26, с. 142].
Может быть, когда-нибудь я и напишу такую книгу.
Глава 8. Анализ дискурса в психотерапии
8.1. Психотерапевтический дискурс и его "хозяин" — пансемиотический субъект
В этой главе я хочу в более простой и сокращенной форме* изложить основные идеи, касающиеся дискурса как коренного феномена психотерапии. Дискурс — это речь, погруженная в жизнь обоих участников терапевтического процесса — терапевта и его клиента. Само психотерапевтическое взаимодействие можно рассматривать как дискурсивную практику — специфическую форму использования языка для производства речи, посредством которой осуществляется воздействие на клиента. В чем оно заключается?
Психотерапевт, как известно, не влияет непосредственно на факты (свойства, события и процессы в мире), он может изменить лишь интерпретацию этих фактов, их понимание, отношение к ним и взаимосвязь между ними. В процессе терапевтического анализа происходит своего рода "пересмотр" имеющейся у клиента модели окружающей действительности. Психологическая помощь заключается в изменении представлений человека о мире и себе самом, благодаря чему он может, получив новые знания, выработать более продуктивные мнения и установки и сформировать более эффективные и удовлетворяющие его отношения к людям, вещам и событиям.
Таким образом, в своей работе психотерапевт имеет дело с образом или моделью окружающей действительности, которая определяет целостную жизнедеятельность,
* По сравнению с предыдущей работой — см. 23.
[298]
бытие клиента в мире. Этот образ есть, в сущности, индивидуально своеобразная концепция мира и себя в нем. Ее называют субъективной психической реальностью индивида. Например, психическая реальность депрессивной личности сплошь наполнена печальными и угрожающими событиями, безысходностью и тоской. Субъективная реальность человека маниакального выстроена под девизом "В этом лучшем из миров все идет к лучшему". Жизненная реальность психотика совершенно не похожа на представления большинства людей, к тому же ее практически невозможно изменить: можно приводить какие угодно доказательства, шизофреник их не понимает и не слышит — он слышит голоса из электрических розеток, ощущает, как соседи направляют на него невидимые вредоносные лучи, и т.п.
В любом акте человеческого поведения и деятельности психическая реальность выражается и проявляется — объективируется. Речь, дискурс — это наиболее универсальная форма объективации психической реальности.
Почему именно речь? Для ответа на этот вопрос надо более подробно рассмотреть процесс формирования субъективной реальности. Она есть конечный результат моделирования действительности в системе психики. Структурными элементами, "кирпичиками" модели являются значения и смыслы, а сам процесс моделирования имеет знаково-символический (семиотический) характер.
Основными знаковыми системами, которые предоставляют психике моделирующие средства, являются культура и язык. С помощью языка люди выражают все многообразие характеристик и свойств окружающего мира, тончайшие нюансы своих чувств и переживаний, а также значения и смыслы, которыми наделяется мир в рамках каждой индивидуальной (субъективной) психической реальности. Культура же задает "русла возможной речи" — то, что определенная группа людей описывает реально существующе, действительность, а также добро или зло, причину или следствие, сходство или различие и т.д.
Почему психотерапия вообще эффективна? Дело в том, что большинство людей не различают субъективную пси-
[299]
хическую реальность и объективную действительность. Люди принимают за истину то, что они думают и чувствуют, не отличают фактов от интерпретаций, и искренне убеждены в том, что лишь одна (их собственная) трактовка какого-либо события является правильной. Психотерапевт умеет изменять субъективную реальность, и в результате такого вмешательства вместе с представлениями изменяются чувства людей, их мысли и действия.
Например, в рамках механизма проекции клиент приписывает своим близким те или иные свойства или мотивы поведения — ненависть, агрессию, чувство превосходства. В результате терапевтического анализа обнаруживается защитная природа такого поведения, устанавливаются его бессознательные "корни" — и поведение меняется.
Манера чувствовать и думать, устойчивые способы описания и понимания вещей, явлений и событий — то, что называется в психологии и культурной антропологии ментачьностью — заимствуются у лингвокультурной общности, к которой принадлежит человек. Однако, усваивая общепринятые системы представлений (групповые характеристики модели мира), люди всегда привносят в них индивидуальные, субъективные компоненты. Мир един, но существует множество точек зрения на него. У каждого человека — свой образ реальности, своя картина мира и свое понимание того, как он устроен и каким (в ценностно-смысловом плане) он является. Еще более индивидуализированным является отношение человека к миру.
В терапевтическом анализе важно различать индивидуальные и культурно обусловленные источники проблем (этнические стереотипы, нормы социального контроля, ролевые стандарты поведения и прочее). Как правило, последние легче осознаются, но их изменение требует роста личностной автономии и уменьшения зависимости (в том числе и от аналитика). В работе с культурными стереотипами наиболее перспективны юнгианские представления об архетипах коллективного бессознательного и лакановская теория Воображаемого.
[300]
Для психотерапии особенно важен анализ тех аспектов процесса моделирования окружающей действительности, в результате которых образ (картина или модель) мира становится источником психологических проблем и трудностей. Большинство из них лежат в сфере бессознательного, причем если сама моделирующая функция психики просто не представлена в сознании (Фрейд называл это описательным (дескриптивным) бессознательным,), то ее изъяны и дефекты — это динамическое бессознательное (то, что возникает в результате вытеснения).
Терапевтический анализ (как и весь психоанализ вообще) возможен благодаря тому, что психическая реальность индивида выражается, объективируется в его речи. Разумеется, существует множество способов рассказывания о себе и о мире, или форм объективации психической реальности. Более правильным будет говорить о системе дискурсивных практик, характеризующих субъекта или принятых в данном обществе и культуре.
Иными словами, терапевтический анализ — это прежде всего анализ дискурса, речи клиента. Вместе с тем, психотерапевтическое воздействие осуществляется также посредством речи. На терапевтическом сеансе изменяются отдельные фрагменты психической реальности, имеющие отношение к возникновению психологических трудностей и проблем. В результате взаимодействия дискурсов терапевта и клиента изменяются характеристики внутреннего опыта последнего, меняется свойственная ему система личностных смыслов. Психотерапевт, который хорошо умеет это делать, называется пансемиотическим субъектом.
Как можно стать полновластным "хозяином" дискурса? Что лежит в основе формирования пансемиотических навыков?
Пансемиотическая функция заключается в осуществлении произвольного, целенаправленного выбора значений и смыслов, приписываемых реальности. Речь идет о власти терапевта над процессами означивания (точнее, возможности выбора значений для тех или иных фрагментов опыта, его отдельных аспектов и свойств). Этот процесс имеет ряд ограничений, обусловленных, с одной сторо-
[301]
ны, природой самой семиотической системы, а с другой — прошлым опытом субъекта (апперцепция).
В культуре стратегия означивания реальности задается схемой универсума70 и зависит от свойственной ей системы кодов. Ограничения, налагаемые языком, заданы его собственной семантикой и синтаксисом, а также правилами языковой игры — необосновываемого, априорного знания, с помощью которого оценивается достоверность суждений о фактах реальности (Л.Витгенштейн). Приписывание значений (истинное — ложное, хорошее — плохое, реальное — выдуманное, важное — второстепенное) обусловлено культурой и языком, а сами факты действительности по природе своей амодалъны, они "никакие". Их интерпретация происходит по правилам, определяемым не самой реальностью, а людьми. Факты объективны, а правила конвенциональны, они обусловлены культурой и языком. Если правила изменяются (при том, что сами факты остаются прежними), возникает уже другая модель, и жизнь людей, руководствующихся ею, протекает совсем иначе.
Пансемиотический субъект не только обладает системой правильных и точных вербальных репрезентаций собственного опыта, но и умеет изменять свойственные другим неадекватные представления о реальности, применяя эффективные стратегии и тактики речевого взаимодействия. Он преобразует субъективную психическую реальность, изменяя описания этой реальности и связанные с ней значения и смыслы. Такой психотерапевтический семиозис (процесс порождения и изменения значений в семиотической системе) может осуществляться как интуитивно (так называемые трансовые техники), так и сознательно, на основе отрефлексированных принципов и правил.
Пансемиотическая активность опирается на ряд нетрадиционных представлений о взаимоотношениях объективной реальности (предметов и явлений) и ее описаний (высказываний и текстов). Только для наивного наблюдателя они выглядят взаимоисключающими, пансемиотиче-
[302]
ский субъект трактует их как взаимодополняющие и взаимозаменяемые.
Современная семиотика склонна рассматривать ментальное и материальное (психическое и физическое, текст и реальность) как функциональные феномены, различающиеся не столько онтологически, сколько прагматически. Иными словами, их различная природа обусловлена в основном точкой зрения, умственной позицией субъекта. Как замечает В.П.Руднев, мы не можем разделить мир на две половины, собрав в одной символы, тексты, храмы, слова, образы, значения, идеи и т.п. и сказав, что это ментальное (психическое), а собрав в другой половине камни, стулья, протоны, экземпляры книг, назвать это физической реальностью. Текст в качестве протокола, описывающего реальность, соотносится с ней особым образом. В системе языка это отношение выражается категорией наклонения.
В русском языке есть три наклонения — изъявительное или индикатив ("Клиент говорит правду"), сослагательное или конъюнктив ("Клиент сказал бы правду") и повелительное или императив ("Говорите правду, клиент!"). В индикативе субъект высказывания говорит о том, что имело место в реальности, что в ней происходило, происходит или будет происходить. Это рефлексивная модальность, модальность факта, она определенным образом скоординирована с действительностью, связана с ней отношениями взаимной зависимости.
Сослагательное наклонение описывает вероятностную ситуацию, возможность того, что какое-либо явление или процесс могли происходить, тот или иной факт мог иметь место в реальности. Это ментальная модальность, сфера свободной мысли, независимая от реальности. Повелительное наклонение — это высказывание субъектом своей воли или желания, чтобы данное событие имело место. Здесь перед нами волюнтативная модальность, предполагающая обратную связь между речью и реальностью, одностороннюю зависимость.
Пансемиотический субъект обладает высокой степенью свободы в оперировании этими тремя наклонениями, в
[303]
качестве психотерапевта он легко и непринужденно переходит от ментальной и рефлексивной модальности (мыслей о реальности и наблюдения над ней) к творению реальности, волюнтативу, выступающему в качестве основного средства терапевтического влияния. Хороший психотерапевт в своей речевой практике успешно использует гибкую систему психологических модальностей. Последняя, по В.П.Рудневу [58], есть определенный тип состояния сознания в его отношении к реальности. Психологический конъюнктив есть такое состояние сознания, при котором сознание и реальность связаны отношением взаимной независимости, психологический императив имеет место в случае, когда сознание вероятностно детерминирует реальность, психологическим индикативом называют состояние, при котором сознание наблюдает за реальностью, фиксирует, описывает и интерпретирует факты. Произвольно изменяя эти модальности, Пансемиотический субъект может изменять саму структуру психической реальности, а не только отдельные концепты, логику или правила интерпретации.
В основе пансемиотического поведения лежит эффективная система языковых действий, подчиненная определенной внутренней логике и актуализируемая в ситуациях, вплетенных в соответствующий контекст лингвистической и нелингвистической практики. Культурный контекст рассматривается пансемиотическим субъектом как относительный, а не абсолютный, ибо архэ, первооснова культурного универсума, является для него не скрытым, таинственным и необъяснимым началом, а знакомой, даже приватной (privacy — частный, домашний) системой отсчета, удобной в обращении, многообещающей и понятной. При этом легко варьировать различные контексты, ре-интерпретировать события и ситуации, привносить новые, неожиданные смыслы в сложившуюся у другого человека систему представлений.
Качества, конституирующие пансемиотического субъекта — это языковая интуиция и отточенный логико-лингвистический анализ, вкупе с лингвистической компетентностью образующие неординарную языковую личность. В
[304]
процессе терапии она сознательно использует продуктивные стратегии семиотического моделирования, направляя процесс семиозиса (производства и трансформации смыслов и значений) в сторону инсайтов, способствующих лучшему пониманию природы психологических проблем клиента и их разрешению.
Важнейшим профессиональным умением аналитика является способность рефлексировать психологические основы своего воздействия, его семиотические механизмы и выбирать на этой основе лингвистически адекватные (при высоком уровне мастерства — совершенные) формы речевого взаимодействия с клиентом. А это предполагает хорошее знакомство с дискурсивными практиками психотерапии и высокоразвитые навыки анализа дискурса клиента.
8.2. Дискурсивные практики психотерапии
Любая форма терапии, особенно аналитической — это прежде всего общение. Многообразие форм речевой и невербальной коммуникации в психотерапии с трудом поддается описанию и систематизации. Следует отметить, что даже телесно-ориентированные терапевтические подходы используют такие понятия, как "язык тела" (А.Лоуэн), "чтение жестов и поз" (В.Райх, М.Фельденкрайз), подчеркивая дискурсивный характер телесности человека в контексте психотерапевтического взаимодействия. Остальные направления с самого начала своего развития формировались преимущественно как речевые практики — в особенности психоанализ, экзистенциально-гуманистические школы, нейро-лингвистическое программирование. Коммуникация, в результате которой целенаправленно изменяется система личностных смыслов (как осознаваемых, так и бессознательных), есть атрибут любого вида психологической помощи. Фактически все многообразие форм, направлений, школ и подходов психотерапии можно рассматривать как систему дискурсивных практик, объединенных родственными принципами.
[305]
В качестве такой системы предметная область психотерапии представляет собой семиосферу — отграниченное, гетерогенное семиотическое пространство, вне которого психотерапевтические цели и ценности не работают и не живут. Именно семиосфера, обладающая связностью и структурой, управляет производством смыслов в психотерапевтической деятельности, обеспечивает возможность взаимопонимания терапевтов различных школ, теоретического и практического обобщения многообразия психотерапевтического опыта. Она же задает "русла возможной речи" о предмете, целях и задачах терапевтического воздействия. Расширение последних заметно любому профессионалу — в пример можно привести изменение взглядов на природу и сущность нарушений в рамках клинических категорий психоза и перверсии, равно как и на возможность психотерапевтической работы с этими расстройствами, появившуюся после работ представителей теории объектных отношений и структурного психоанализа.
Семиосфера психотерапии включает не только совокупность соотнесенных с друг с другом элементов психотерапевтической теории и практики, но и ее эпистему, некое общее пространство знания, задающее способы фиксации и осмысления этих элементов. Вне такого пространства (и даже на периферии его) способы восприятия, практики и познания, составляющие специфику психотерапевтической деятельности, лишаются своего смысла, а критерии ее эффективности утрачивают основания. При этом особенностью психотерапии (по крайней мере, в нашей стране) является эклектическое смешение несводимых и противоречащих друг другу когнитивных установок, в результате чего феноменологическое пространство всего, что называют и считают психотерапией, представляет собой пеструю смесь, разобраться в которой нелегко даже опытному профессионалу.
Интерес к психотерапии испытывают многие люди, чья жизнь или работа в той или иной степени связана с общением и межличностным взаимодействием: врачи, педагоги, бизнесмены, социальные работники, государственные чиновники, юристы, представители сферы услуг
[306]
и торговли. Поэтому представляется чрезвычайно важным выявить тот диапазон, ареал небессмысленного се-миозиса, за пределами которого коммуникацию и речевые практики нельзя считать психотерапевтическими в собственном смысле этого слова.
И в нашей стране, и за рубежом отсутствуют непротиворечивые трактовки оснований для анализа и классификации форм и методов психотерапевтического воздействия. Так, известный американский психотерапевт и координатор исследований в сфере теории и практики психологической помощи Дж.3ейг для понимания процесса терапии и позиций занимающихся ею специалистов предлагает коммуникационную метамодель, включающую в себя такие параметры:, позиция терапевта (личностная и инструментальная), представления о цели (различные у терапевта и клиента; последний нуждается в том, чтобы Конечная цель терапии была определенным способом "упакована"), индивидуальная специфика психотерапевтической работы и ее эмоциональная ценность для клиента [см. 91, т.1, с.10-14].
К.Роджерс, один из основоположников экзистенциально-гуманистического направления, полагает, что психотерапевтическая теория должна отражать "последовательные, упорядоченные усилия выявить смысл и порядок явлений, относящихся к субъективному опыту" [91, т.3, с 21]. В соответствии с этими взглядами в любой терапии, по его мнению, основополагающими являются понимание основ человеческой природы, личные аспекты терапевтических отношений, способы и формы реорганизации Я клиента, интуиция и эмпатия психотерапевта. Р.Мэй, не менее известный авторитет и классик, считает, что почти для каждой проблемы есть своя форма терапии, и насчитывает их более трехсот. Даже краткий перечень попыток выделить и классифицировать основы психотерапевтической теории и практики наверняка потребовал бы отдельной книги. А для обобщения результатов дискуссий о том, что считать психотерапией (и почему) понадобилось бы уже несколько томов.
[307]
Поэтому мне представляется разумным и целесообразным анализировать психотерапевтическую деятельность со стороны ее предметной основы — речевого общения терапевта и клиента. С использованием аудио- и видеозаписей терапевтических сеансов увеличились возможности точной и полной фиксации психотерапевтического дискурса, а глубинная психология, семиотика и лингвистика предоставили широкий набор средств для его анализа.
Психотерапевтический дискурс в качестве речевой формы целенаправленного социального действия одной своей стороной обращен к конкретной прагматической ситуации, обуславливающей его понимание, связность, коммуникативную адекватность, набор устойчивых предпочтений и т.п., а другой — к ментальным процессам терапевта и клиента, их субъективным стратегиям понимания и порождения речи. Он представлен множеством конкретных форм, точнее — дискурсивных формаций (термин М.Фуко), определяемых различными психологическими теориями, концептами, тематическими выборами и правилами применения. Отдельные направления и подходы ограничены не только способами вербального структурирования коммуникативного акта, но и соответствующим тезаурусом (профессиональным словарем), набором ведущих метафор, конвенциональными нормами влияния имплицитными (само собой разумеющимися) представлениями, природой последних и т.п.
В отличие от дискурса, дискурсивную практику можно рассматривать как устойчивую традицию способов оперирования языком для изменения психической реальности, выступающей в качестве основы (денотата или референта) дискурса субъектов межличностного взаимодействия. Применительно к психотерапии следует постулировать единую целевую функцию таких изменений — помощь в разрешении психологических проблем и актуализации резервов личностного роста. Существующее многообразие не пересекающихся психотерапевтических традиций предполагает, что каждая дискурсивная практика (психоанализ, юнгианство, гештальт-терапия, дазейн-анализ и т.д.) имеет свои правила накопления, ис-
[308]
ключения и реактивации смыслов, формообразующие структуры и характерные виды семиотических связей в различных дискурсивных последовательностях.
Структурно-семиотический подход к описанию дискурсивных практик психотерапии требует вычленения основных признаков, которые отличают их друг от друга. Необходимое и достаточное число таких признаков определяют следующие параметры:
|
|
Параметр
|
Содержание
|
Примеры
|
|
1
|
дейктические позиции субъектов дискурса
|
роль, статус, единство или конфронтация участников речевого акта
|
позиции ин-се, монитора отклонения в онтопсихологии А. Менегетти; Родителя, Взрослого, Ребенка в трансакционном анализе
|
|
2
|
предпочитаемые типы речевых актов и рече-поведенческих действий
|
связь речи и поведения
|
|
|
3
|
семиотические механизмы производства и их смыслов трансформации (семиозис)
|
структура индивидуального ментального пространства
|
семиотика слияния, ретрофлексии, сознавания в гештальт-терапии; опущения, искажения, генерализации, утраченного перформатива — в НЛП
|
|
4
|
нормы символической референции и метафорической коммуникации
|
система основных понятий, отражение динамики психотерапевт. процесса
|
метафоры либидо и катексиса в психоанализе;
персоны, тени и самости в юнгианстве
|
|
5
|
дескриптивные и/или прескриптивные стратегии конечного результата (цели)
|
определение задачи психотерапевта
|
Фрейд: освобождение человека от его невротических симтомов;
Юнг: содействие процессу индивиду ации
|
|
6
|
легитимирующий метадискурс
|
философская методология
|
|
[309]
Выделение этих параметров не является произвольным, а обусловлено спецификой психотерапевтического общения. Последняя определяется распределением коммуникативных ролей и позиций участников терапевтического процесса, их адресованными друг другу ожиданиями, динамикой речевых инициатив, общепринятой или установившейся в конкретном случае очередностью говорения, слушания и молчания. Субъектами психотерапевтического дискурса могут быть не только терапевт и клиент, но и группа, диада ко-терапевтов; наконец, в ряде направлений (юнгианство, структурный психоанализ, гештальт-терапия, трансактный анализ) в качестве субъектов выступают различные инстанции и подструктуры личности и психики.
Рассмотрим сами признаки более подробно.
1. Дейктические параметры указывают на роли, статус, единство или конфронтацию участников речевого акта. Они определяют временную и пространственную локализацию объектов высказываний, в наибольшей степени апеллируют ко внеязыковой действительности, лежащей в основе дискурса; в равной степени они ответственны за формирование контекста терапевтического взаимодействия, обеспечивая семантическую связность дискурсов их участников. Определяя специфику референции (обращения к действительности) в конкретной ситуации психотерапевтического взаимодействия, дейктические категории фактически определяют прагматику этой формы языкового общения.
Существуют психотерапевтические направления, в которых главным фактором воздействия является именно необычный тип референции и дейксиса. Например, в онтопсихологии А.Менегетги дейктическим субъектом может выступать бессознательная внутренняя сущность человека (ин-се), противостоящее ей культурное образование (монитор отклонений) и так далее. Примерно в такой же позиции находятся эго-состояния личности (Родитель, Взрослый и Ребенок) в трансакгном анализе Э.Берна. Диссоциативные техники НЛП или гештальт-терапии смещают привычные дейктические отношения
[310]
клиента, благодаря чему изменяются его субъектные характеристики (различные типы идентичности, социальные установки, роли).
2. Этот параметр подчеркивает характерную для психотерапии особо тесную связь речи и поведения. Обилие тесно слитых друг с другом речевых и внеречевых акций, преимущественное использование истинностных параметров высказываний для регулирования межличностных отношений адресата и адресанта, а не только расширения их знаний и представлений — все это присутствует в речевых практиках психотерапии. Речевые акты терапевта и клиента в качестве единиц социоречевого поведения, рассматриваемые в рамках прагматической ситуации, являются наиболее удобными и естественными единицами членения психотерапевтического дискурса.
3. Изменение прежних и порождение новых смыслов, активный семиозис составляет основное содержание психотерапевтической деятельности, ее сущность. Целенаправленное изменение системы значений и личностных смыслов, представленных в индивидуальном опыте клиента, происходит благодаря формированию единого семиотического пространства, структуру, внешнюю и внутреннюю границу которой контролирует психотерапевт. Оперируя значениями (в том числе ассоциативными, коннотативными), предлагая интерпретации, он изменяет структуру индивидуального ментального пространства, вписанного в общее (совместное) пространство психотерапевтического дискурса. Кроме того, он может действовать также и как пансемиотический субъект, преобразуя режим, направление и структуру информационных процессов в тексте, описывающем жизнь клиента.
Психотерапевт выбирает семиотическую стратегию в рамках одного или нескольких терапевтических подходов, равно как и точку приложения своих усилий. В зависимости от того, является ли этой точкой бессознательная сфера психики (все виды глубинной, аналитической психотерапии), мышление и сознавание (когнитивная психотерапия, гештальт-терапия), эмоции и чувства, процесс сопереживания (роджерианство), итоги восприя-
[311]
тия — сенсорно-перцептивный опыт и его словесное воплощение (нейро-лингвистическое программирование), человеческое тело и процессы в нем (телесно-ориентированные подходы), семйозис имеет определенную качественную специфику. В любом случае психотерапевт как субъект-профессионал опирается на соответствующие научные знания и представления, имеет сознательную стратегию влияния на клиента, владеет конкретными техниками воздействия и способен выделить (эксплицировать), описать и объяснить психологические механизмы своей деятельности.
Текст, создаваемый высказываниями клиента, имеет разное отношение к его жизненной реальности. Клиент может сознательно или неосознанно приукрашивать или придавать гротескные черты событиям своей жизни (презентативный иллюзионизм), быть точным (авторепрезентация) или рассказывать вещи целиком выдуманные (антирепрезентация) — в любом случае взаимная рефлексия и понимание возможны лишь при реконструкции подлинных значений и смыслов. Эти механизмы описывают психотерапевтическую технику на семантическом уровне — уровне значений и смыслов. Прагматическая (уровень действий) и синтаксическая (уровень отношений) стороны процесса смыслопорождения представлены иначе.
Синтаксический уровень психотерапевтического семиозиса задается отношениями между его знаками и представлен собственно общением, коммуникацией терапевта и клиента, его динамикой в единстве с семиотической специализацией дискурса. В качестве механизмов на этом уровне работают реляция, референция и импликация71, обеспеченные правилами избранного терапевтом направления или подхода.
Наконец, прагматический уровень, задающий отношения знаков к их пользователям или интерпретаторам, представлен семиотикой соответствующих терапевтическому направлению или подходу психологических механизмов (в гештальт-терапии это семиотика слияния, ретрофлексии, сознавания, ухода, в НЛП — семиотика опущения, искажения, генерализации, утраченного пер-
[312]
форматива). Единая для всей психотерапевтической семиосферы предметная область функционирования целостного человека неодинаково членится и описывается на разных языках, с использованием различных метафор.
4. Метафорическая коммуникация, этот непременный атрибут психотерапевтического дискурса, занимает важное место в теоретических основах большинства психотерапевтических школ, формируя систему основных понятий. Примерами таких системообразующих метафор являются либидо и катексис в психоанализе, персона, анимус, тень и самость в юнгианстве, панцирь (броня) и оргон в телесной терапии, якорь в НЛП, перинатальная матрица в трансперсональной терапии Ст.Грофа. Хорошо и точно подобранные индивидуальные метафоры обеспечивают высокий уровень взаимопонимания в процессе терапии.
Психотерапевтический дискурс по своей природе метафоричен, что обусловлено семиотическими свойствами метафоры как оборота речи (тропа). Метафоре свойственны: слияние в ней образа и смысла; контраст с обыденным называнием или обозначением сущности предмета; категориальный сдвиг; актуализация случайных связей (ассоциаций, коннотативных значений и смыслов); несводимость к буквальному перефразированию; синтетичность и размытость, диффузность значения; допущение различных интерпретаций, отсутствие или необязательность мотивации; апелляция к воображению или интуиции, а не к знанию и логике; выбор кратчайшего пути к сущности объекта. Все эти характеристики находят применение в той спонтанной, почти неуловимой и одновременно целесообразной игре личностных смыслов и значений, которая и составляет динамику психотерапевтического процесса.
5. Представление о цели и способах ее достижения — соотносит общее понимание целей психотерапии (профессиональной помощи при психических и личностных расстройствах легкой и средней степени тяжести, содействии в разрешении проблем и преодолении психологических затруднений, в актуализации резервов личностного роста)
[313]
и конкретные формы их достижения, зависящие от специфики направления или подхода.
Психотерапевты различной ориентации по-разному описывают задачи своей работы. Зигмунд Фрейд говорит, что психоаналитическая терапия — это освобождение человека от его невротических симптомов, запретов и аномалий характера, Карл Густав Юнг называет ею содействие процессу индивидуации, личностного роста. Ролло Мэй считает самым важным развитие человеческой свободы, индивидуальности, социальной интегрированности и духовной глубины. Отго Кернберг работает с проблемами объектных отношений, Хайнц Кохут исследует процесс развития и становления Самости (сущности человеческого Я), Эрик Эриксон трактует личностные проблемы как нарушения психосоциальной идентичности. Фредерик Перлз учит сознаванию, Антонио Менегетги — умению слушать голос своей сущности (ин-се) и игнорировать идущие во вред здоровью личности влияния монитора отклонений (источника искажений и помех в системе психики). Людвиг Бинсвангер стремится понять уникальность бытия человека в мире на основе анализа экзистенциального априори его существования. Эрик Берн рассказывает о манипуляциях и играх в отношениях между людьми, описывает жизненные сценарии, которые дети наследуют от родителей, Вильгельм Райх и Александр Лоуэн сосредоточены на телесных коррелятах невротических нарушений характера. Джон Гриндер и Ричард Бэндлер помогают распознавать ограничения в моделях окружающей реальности и расширяют возможности выбора и принятия решений, Вирджиния Сейтер устраняет неконгруэнтность в поведении. Виктор Франкл содействует процессу поиска и нахождения смысла человеческой жизни, Ирвин Ялом помогает освободиться от экзистенциальной зависимости, Носсрат Пезешкиан учит видеть позитивные стороны жизненных событий, Пауль Тиллих — мужеству быть.
6. Наконец, необходимость вьвделения шестого — узаконивающего — параметра обусловлена многочисленными попытками сторонников различных психотерапевти-
[314]
ческих школ легитимировать свои "правила игры" в качестве наилучших или единственно правильных. Легитимирующий дискурс научной теории в отношении собственного статуса принято называть философской методологией [Ж.-Ф.Лиотар, см. 116]. В психотерапии этот метадискурс весьма и весьма специфичен. Например, психоаналитики рассматривают калифорнийские школы (НЛП, эриксонианство) как пример легковесности и антиинтеллектуализма. Друг друга они упрекают в мистицизме (самым виновным считается юнгианство72), выхолащивании и примитивизме аналитической практики вследствие измены духу фрейдовского учения (Ж.Лакан об американском психоаналитическом движении и это -психологии) и т.п.
Типологический анализ и описание дискурсивных практик психотерапии требует не только формализации оснований для их выделения, но и учета особенностей конституирующей активности самих практик. Вполне очевидна возможность существования внутри одной и той же дискурсивной практики различных, противоположных, а то и взаимоисключающих мнений, противоречащих друг другу выборов. Иными словами в психотерапии, помимо структурного или генетического родства школ и подходов, существует также и система рассеивании (термин М.Фуко), формы распределения дискурса внутри отдельных практик и психотерапевтической семиосферы в целом.
Предельно индивидуализированный, субъективный характер психотерапевтического дискурса предлагает каждому терапевту множество различных возможностей, точек выбора речевых стратегий и форм реализации речевой интенции. В речевой практике отдельного субъекта (психотерапевта) наряду с постоянными темами, концептами и мнениями остается место для неосознаваемых интересов, внутренних конфликтов, интуитивных догадок, обуславливающих тематические предпочтения среди стратегических и технических возможностей выбранного направления или подхода.
[315]
Стоит задать вопрос — а на чем же основана общность, целостность семиотического пространства психотерапии? На полной, содержательно очерченной, обособленной и логически непротиворечивой классификации объектов, составляющих ее предметную область? Нет, скорее речь идет о лакунарных сцеплениях и рядах, о различных взаимодействиях, замещениях и трансформациях. Приняты ли определенные, нормативные типы речевых актов и пропозиций, существует ли тематическое постоянство, тезаурус конкретных понятий? Лишь отчасти. В большинстве конкретных случаев формулировки столь отличны, а функции их столь гетерогенны, что трудно представить себе, как они сводятся в единую фигуру, определяющую законы структурирования дискурса. В психотерапии как нигде приходится сталкиваться с концептами различной семиотической природы, правила применения которых игнорируют и исключают друг друга, так что эти понятия не могут входить в логически обоснованные общности (например, трактовка категории желания в классическом и структурном психоанализе, или представления о человеческой экзистенции в дазейн-анализе (Л.Бинсвангер, М.Босс) и сэлф-теориях (Х.Кохут).
Поэтому при анализе дискурсивных практик психотерапии необходимо, на мой взгляд, описывать как рассеивания сами по себе, так и вычленять среди элементов указанных практик такие, что не организуются ни в виде постоянно выводимой системы, ни в виде устойчивого гено-текста; в отношении которых регулярность и последовательность появления, взаимное соответствие и функционирование, обусловленные и иерархичные трансформации, установить трудно. Эти правила распределения, рассеивания дискурса являются важными сторонами семиосферы психотерапии, их описание наряду с правилами формации дискурса позволит лучше понять специфическую природу харизмы, свойственной отдельным пансемиотическим субъектам психотерапевтической деятельности.
На основе изложенных выше представлений можно выделить несколько типов дискурсивных практик, возможное число которых намного меньше количества ре-
[316]
ально существующих в психотерапии форм. При этом, разумеется, уже существующие, исторически сложившиеся способы классификации психотерапевтических направлений и школ не обязательно совместятся с предлагаемой классификацией. Я и не ставила себе такой задачи, хотя некоторые пересечения и совпадения представляют несомненный теоретический интерес и имеют любопытные практические следствия.
Исторически первой, наиболее известной и авторитетной, хорошо институциализированной и целостной является дискурсивная практика психоанализа, различные формации которой описаны в настоящей книге. Представляется интересным сравнить ее с другими дискурсами, существующими в психотерапии.
Альтернативным психоанализу типом речевой практики является когнитивно-бихевиоральный или рационально-эмотивный (РЭТ) подход, представленный работами А.Бека, А.Эллиса, А.Лазаруса, Д.Мейхенбаума, С.Уолена и др. Когнитивной психотерапией принято называть совокупность психотерапевтических методов, в основе которых лежит представление о примате сознательной, рациональной стороны психики в разрешении психологических проблем, в том числе личностных и эмоциональных. Методологические основы этого направления сформированы в русле классической рациональности, так что опирается оно прежде всего на силу сознательного разума, здравого смысла и эффективно в той мере, насколько эта сила и впрямь велика и значительна. Дискурсивная практика когнитивной терапии имеет свою специфику.
Дейктическая позиция психотерапевта подчеркнуто директивна и активна. Процесс порождения речевых высказываний опирается на развитые навыки самонаблюдения (интроспекции), хорошее логическое мышление, склонность к абстрактному рассмотрению конкретных жизненных ситуаций. Позиция клиента является подчиненной и маркирована низким уровнем развития рефлексивных способностей. А.Эллис указывает, что РЭТ-терапия "состоит в том, чтобы ликвидировать мысли, чувства и способы поведения, которые мешают клиенту и окружающим
[317]
его людям быть счастливыми и помочь ему увидеть, как он своими руками делает себя несчастным" [91, т.2, с. 172]. Иными словами, внеязыковая действительность, лежащая в основе дискурса клиента, намеренно игнорируется терапевтом во всех случаях, когда тот считает ее иррациональной. Место анализа субъективной психической реальности занимает элиминация (устранение) тех ее аспектов, которые, с точки зрения психотерапевта, негативно влияют на когнитивные, эмоциональные и мотивационные аспекты поведения и деятельности клиента.
Семиотические механизмы производства и/или изменения смыслов в когнитивной терапии представлены логическими закономерностями мышления. Рациональность (или иррациональность) любого знания, мнения или представления проверяется лишь после того, как возникает сомнение. Рациональность как особый слой знаний о действительности, нечто такое, в чем не сомневаются только потому, что не подозревают самой возможности усомниться — вот где точка приложения идей А.Бека и А.Эллиса. Они прослеживают в составе внутреннего опыта личности рационально выделяемые очевидные образования, в которых усматриваются фундаментальные характеристики мира, и показывают, как можно усомниться в этих "непреложных данностях". Поскольку психические и личностные расстройства (тревога, депрессия, панические страхи, скука, ощущение своей неполноценности и т.п.) считаются возникающими из-за нарушений и сбоев в информационных процессах, психотерапевт в качестве пансемиотического субъекта работает подобно хорошему ("системному") программисту, который способен найти и устранить сбой в программе и даже (в идеале) научить этому пользователя (клиента).
Референциальные нормы в дискурсе когнитивной психотерапии определяются триадой "рациональное — эмпирическое — иррациональное". Поскольку ведущим для данного типа дискурса является представление о том, что депрессия и другие виды невроза суть последствия иррационального и нереалистического мышления, то речевые акты терапевта направлены исключительно на изменение
[318]
мыслей, мнений, убеждений и представлений клиента. Последние называются когнициями или когнитивными переменными делятся на несколько групп: описательные или дескриптивные, оценочные, причинно-следственные (каузативные) и предписывающие или прескриптивные. Типичной модальной рамкой высказываний терапевта является волюнтативная модальность, предполагающая одностороннюю зависимость между реальностью и речью.
Метафорическая коммуникация используется в данном типе дискурса преимущественно в процедуре кларификации — прояснения, с помощью которого клиент учится распознавать свои иррациональные установки. Совместное семиотическое пространство в когнитивной психотерапии строится как матрица вероятностных значений, которые могут быть приписаны внутреннему опыту клиента. Эллис проводит четкую границу между тем, что он называет "адекватными негативными эмоциями" (грустью, обидой, страхом, печалью, досадой, сожалением, гневом) и невротическими, депрессивными переживаниями. С его точки зрения, люди естественно огорчаются в тех случаях, когда их планы или намерения не сбываются, когда окружающие оценивают их ниже, чем следует, когда они болеют или теряют близких. Однако в тех случаях, когда когнитивную основу их дискурса составляет абсолютистское, догматическое мышление, это приводит к депрессивному восприятию мира. Задача терапевта — расшатать подобные репрезентации действительности в сознании клиента и предложить альтернативные стратегии лингвистического моделирования реальности.
Дискурс клиента отличается преобладанием высказываний, сформулированных с упором на негативный полюс алетической (необходимость), деонтической (долг) и аксиологической (ценность) нарративных модальностей (см. о них 58, с. 113-114). Эти дискурсивные параметры выделены курсивом в приводимых ниже типичных формах языковой репрезентации жизненных установок:
• У личности сложилась отрицательная самооценка наряду с убеждением, что нельзя иметь серьезных недо-
[319]
статков, иначе ты будешь ни на что не годным, неуместным и неадекватным.
• Человек пессимистически смотрит на свое окружение. Он абсолютно убежден в том, что оно должно быть значительно лучшим, а если не выходит — это совершенно ужасно.
• Будущее воспринимается в мрачном свете, неприятности неизбежны, а невозможность стать более счастливым делает жизнь бессмысленной.
• Низкий уровень самоодобрения и высокая склонность к самоосуждению сочетаются с представлением о том, что личность обязана быть совершенной и должна получать одобрение от других, а иначе она не заслуживает хорошего отношения к себе и должна быть наказана.
• Ожидание неприятностей предполагает, во-первых, их неизбежность, а во-вторых, человек обязан как-то справляться с ними, а если этого не происходит, значит он хуже всех (А.Эллис,1994).
Соответственно, дискурс терапевта направлен на изменение модальной рамки подобных высказываний клиента. Личность, скованная иррациональными установками, постоянно находится в плену отрицательных эмоций. Не в силах совладать с ними, в своем поведении она может проявлять лишь беспомощную некомпетентность. Психотерапевт строит помощь таким людям в несколько этапов. Сначала — прояснение абсолютистской системы аксиом, блокирующих деятельность, затем — обсуждение их как гипотетических, вероятностных. Кроме того, диалог с подавленными, депрессивными и тревожными клиентами, не способными быстро изменить свою точку зрения на мир, может реализоваться в серии пропозициональных актов, осуществляющих альтернативную референцию и предикацию. Например, можно задавать такие вопросы:
• Почему Вы должны все делать хорошо? Разве партнер (муж, начальник, возлюбленный) сразу разочаруется в Вас, если Вы совершите ошибку? Все люди время от времени ошибаются. Конечно, ошибки нужно исправ-
[320]
лять, но разве за них всегда и всех следует наказывать? Разве Ваши друзья и близкие не умеют прощать^
• Кто и когда сказал, что Вы должны получать одобрение каждого, в ком Вы заинтересованы? Разве Вы должны всем нравиться? А если Вы кому-то и не нравитесь — это делает Вас плохим? Вспомните, ведь Вам нравятся далеко не все люди, с которыми Вы встречаетесь. И они живут себе при этом спокойно.
• Предположим, Вы действительно посредственный, заурядный человек. Но разве из этого следует, что Вы еще и обязательно должны быть несчастным? Может быть, Вы действительно не сделаете ничего выдающегося. А кто сказал, что Вы обязаны быть незаурядным? Почему быть обычным человеком ужасно ? В мире миллионы таких людей, и большинство из них счастливы и довольны жизнью.
Помимо нивелирования роли абсолютистских требований долженствования в дискурсе клиента (А.Эллису принадлежит забавный термин "must-урбация", must-по-английски "должен"), когнитивный терапевт последовательно реализует стратегию, обучающую невротика отличать свои мысли и мнения, гипотезы и предположения от реальных фактов и событий жизни. По мере того, как клиент учится распознавать автоматические мысли и выявлять их неадаптивную сущность, он относится к ним все более объективно, понимая, как они искажают реальность.
Кроме того, дискурсивная практика когнитивной психотерапии учитывает склонность некоторых людей относить к себе и наделять личностным смыслом события, которые не имеют к ним причинного отношения. Депрессивная женщина чувствует вину не только за подгоревший пирог, но и за дождь, испортивший загородную прогулку. Параноидальный начальник считает все успехи и достижения своих подчиненных этапами коварного плана, направленного на подрыв его власти и авторитета. Тревожная мать не выпускает подростка гулять и пытается вести его в школу за руку, так как в газетах пишут об
[321]
очередном скачке количества преступлений против несовершеннолетних. Такой тип семиозиса интенсивно блокируется терапевтом, предлагающим взамен более продуктивные стратегии означивания действительности.
Особые формы дискурсивных практик представляют собой экзистенциальная терапия и дазейн-анализ, неструктурированные техники психотерапевтического воздействия (роджерианство), терапия реальностью У.Глассера, системная семейная терапия, телесно-ориентированные подходы и т.д. В задачу данной работы не входит их описание, тем более что различия между дискурсивными практиками психотерапии вполне очевидны.
Сравнивая различные психотерапевтические подходы, стоит обсудить смысл, вкладываемый в понятие различий, как они представлены в семиотическом пространстве психотерапии. Основные различия между формами дискурсивных практик заданы способами интерпретации речевого поведения участников терапевтического процесса, интерпретация же возможна лишь при условии внеположности ее автора анализируемому дискурсу. Иначе говоря, интерпретация различий в речевых практиках психотерапии должна основываться на деконструкции текста (как ее понимает Ж-Деррида), т.е. учитывать всю совокупность условий возможности любого означивания, производящего смысл.
Для психотерапевтического дискурса различие, понимаемое как "отсрочка" (differance), позволяет определить живое настоящее (фено-текст) психотерапевтической беседы как изначально не тождественное жизненному опыту, служащему ей гено-текстом (термины Ю.Кристевой). Различие тут не просто несовпадение, но определенный порядок следования внутри дискурсивного объекта: от настоящего (момент беседы) к прошлому (внутренний опыт и его генезис) и снова к настоящему (изменение, переосмысление опыта на психотерапевтическом сеансе). Терапевт как пансемиотический субъект берет на себя роль окончательного устанавливателя различий, роль "связующего элемента или стратегического знака, относительно или предварительно привилегированного, кото-
[322]
рый обозначает приостановку присутствия, вместе с приостановкой концептуального порядка" [19, с. 405].
Различие как differance имеет дело с анализом некой внеличностной реальности, выходящей за пределы сущности и существования, то есть экзистенциального присутствия. Терапевтический психоанализ не развертывается как обычный дискурс, исходящий из устойчивой системы представлений рационалистического образца. Составляющая его основу интерпретация представляет собой проблему стратегии и риска, поскольку не существует трансцендентной истины, находящейся вне, за пределами сферы терапевтических отношений, которая оказалась бы способной управлять всей тотальностью этой сферы. В каждом отдельном случае выбор конкретной стратегии достаточно случаен, поскольку эта стратегия не единственная из числа тактических возможностей, задаваемых конечной целью, доминирующей темой анализа, его техникой или предельной точкой движения. В итоге — это стратегия, не имеющая завершения. В некоторых случаях ее можно назвать слепой тактикой или эмпирическими блужданиями, раз уж ценность эмпиризма еще не утратила своего значения в семиосфере психотерапии.
8.3. Анализ психотерапевтического дискурса
Общая схема анализа дискурса в психотерапии определяется целями и задачами психотерапевтической помощи. Для этого терапевту необходимо владеть навыками анализа содержательной стороны высказываний клиента, т.е. уметь выделять бессознательные основы личностных концептов и моделей, лежащих в основе психологических трудностей и проблем (этому посвящены предыдущие главы книги), а также понимать лингвистические и семантические механизмы производства речевых высказываний, в которых находят отражение эти проблемы.
В свою очередь, дискурс психотерапевта выстраивается так, чтобы в процессе терапевтического взаимодействия с клиентом он научился понимать роль неосознаваемых
[323]
компонентов внутреннего опыта в возникновении своих проблем или невротических симптомов и, соответственно, находить продуктивные способы их разрешения и снятия. Содержательная сторона анализа определяется психоаналитической традицией (в широком смысле этого слова), формальная — структурно-лингвистическими принципами текстового анализа.
Анализ дискурса как сложившаяся, устойчивая форма эпистемологической практики сформировался в 60-70 годы на стыке логики, лингвистики, психоанализа и философии языка. Перечень его объектов весьма широк — это политические, идеологические, этносоциальные и социокультурные дискурсы о самых различных сторонах и аспектах человеческой жизни — от дискурса вещей (Ж.Бо-дрийяр) до советского политического дискурса (П.Серио) и дискурса трансгрессивной сексуальности (Ж-Делез). В отечественной традиции он известен очень мало и практически не используется в качестве исследовательской парадигмы. Работы по анализу бессознательной основы психотерапевтического дискурса представлены, в основном, лакановской школой..
Существуют два основных способа понимания предмета анализа дискурса, выступающего в качестве единого объекта. Лингвистическая модель рассматривает дискурс как объект, с которым сталкивается исследователь, открывающий следы субъекта речи и языка, автора высказывания, указывающие на присвоение языка говорящим субъектом. Лакан называет их шифтерами или индексами, указывающими на того, кто говорит — разумно мыслящий клиент или его Другой (желание реального, иррациональный страх, логика психоза). В рамках психологической модели дискурс понимается как способ языкового конституирования субъекта, полный и всеобъемлющий репрезентант его внутреннего опыта. Психоанализ естественно сочетает эти две непротиворечивые и взаимно дополняющие друг друга точки зрения.
В семиотическом пространстве психотерапии процесс анализа любого дискурса опирается на две материальные основы: архив и язык. Архив (в том понимании, которое
[324]
сформировал для этого слова М.Фуко) — это, во-первых, совокупность текстов, содержащих описание теории и практики психотерапевтической работы в истории человеческой цивилизации. Во-вторых, это социальные институции, которые сохранили соответствующие формы практики, обеспечив условия для их воспроизводства, расширения, изменения, передачи. В-третьих, это устройство (механизм), создающий разнообразные сочетания отдельных элементов, формирующих новые объекты, пополняющие архив. И наконец, это самонастраивающаяся система с обратной связью, позволяющая регулировать и детерминировать производство смыслов внутри указанного семиотического пространства.
Язык, обеспечивая саму возможность существования и производства значений и смыслов, образующих семиосферу психотерапии, представлен не только уникальностью своих конкретных составляющих (семантики, синтаксиса и прагматики, изменяющихся в другом языке), но и общими (во всяком случае, для основных европейских языков) правилами оформления актов "психотерапевтической речи", функция которых представлена прежде всего целями психотерапевтического воздействия.
Анализ дискурса как объект скорее психологии, чем лингвистики, опирается на ряд принципов, первым и важнейшим из которых является принцип субъектности. В противовес "чисто лингвистической" точке зрения, полагающей, что повседневное использование языка людьми (речь) не должно интересовать науку о языке, этот принцип восстанавливает в правах субъекта, автора и хозяина языковой реальности.
Прагматика психотерапевтического дискурса изучает не столько систему языка, сколько высказывание и говорение — речевые акты в качестве поступков, проявлений личностной активности. Ведь в психотерапии говорить — это не столько обмениваться информацией, сколько осуществлять вмешательство, воздействовать на собеседника, владеть коммуникативной ситуацией, менять систему представлений клиента, его мысли и поведение.
[325]
Целевая функция актов речи психотерапевта и клиента может быть адекватно понята только в рамках семиотической целостности аналитического процесса, где синонимия и двусмысленность, семантическое и аргументативное значение высказывания, содержание пресуппозиций гибко смещаются относительно некоего имплицитного (подразумеваемого) центра, выражающего намерения обоих субъектов. Процесс высказывания, преобразующий язык (существовавший до этого как возможность) в дискурс, подразумевает доминирующую роль субъекта не только в прагматике, но и в семантико-синтаксических отношениях. "Кто говорит?", "почему?" и "зачем?" — вот основные вопросы, которые задает себе психотерапевт, слушая клиента. От ответов на них зависит стратегия и тактика терапевтического анализа.
Второй принцип — диалогичности — можно назвать учетом присутствия Другого. Он отсылает аналитика к представлению о необходимости точно атрибутировать высказывание некоему субъекту, который во многих случаях не обязательно совпадает с сознательным Я (эго) говорящего. Во всех случаях, когда один собеседник сказал нечто, чего вовсе не намеревался говорить, а его партнер услышал не то, что было произнесено (или не услышал произнесенного), мы имеем дело с удвоением участников диалога. Рефлексия по поводу Другого, имеющего конститутивный характер, исходит из теории высказывания и под влиянием глубинной психологии (особенно структурного психоанализа) претерпевает существенное расширение, затрагивая проблему субъекта, тесно связанную с его незнанием как смысла высказывания, так и коннотативной семантики произнесенного.
Присутствие Другого является составной частью речи любого субъекта, причем их диалог в психотерапии чаще понимается как противостояние, взаимоисключение, а не взаимодействие. Связь с Другим заключает рефлексию смысла высказываний в очень жесткие рамки. Кроме того, субъект речи детерминирован своей связью с внешним миром, окружающей действительностью; это децентрализованный, расщепленный субъект, причем расщеп-
[326]
ление, вводящее Другого, имеет конституирующий (для субъекта) и структурирующий (для дискурса) характер.
Психотерапевт, слушая речь клиента, всегда имеет в виду, что сама материальная структура языка позволяет, чтобы в линейности речевой цепочки звучала непредумышленная полифония, через которую и можно выявить следы бессознательного. Когда клиент говорит, он использует язык в том числе и как поразительный способ создания двусмысленности — к его услугам полисемия, омонимия, безграничные просторы коннотативных значений, тропы (в особенности метафора и метонимия), риторические фигуры речи. В ходе речевого взаимодействия всегда имеется что-нибудь дополнительное и непрошеное, и не только в случае оговорки, когда "другое означающее" занимает в цепочке место запланированного, а постоянно, за счет избытка смысла по сравнению с тем, что хотелось высказать, так что ни один говорящий субъект не может похвастаться тем, что он имеет власть над многочисленными отзвуками произнесенного.
Это свойство акта речи я, вслед за Ж-Отье-Ревю [27], склонна считать неизбежным и позитивным. Психоаналитическая терапия имеет сугубо лингвистический характер. Она возможна лишь постольку, поскольку клиенты говорят больше, чем знают, не знают, что говорят, говорят не то, что произносят и т.п. Дискурс весь пронизан бессознательным вследствие того, что структурно внутри субъекта имеется Другой. Разведение позиций субъекта и Другого, равно как и атрибуция дискурса одному из них, возможны чисто лингвистическим способом, при котором Я рассматривается как означающее, "шифтер" или индикатив, указывающий в подлежащем того, кто ведет речь. Соответственно, ответ аналитика может быть обращен к субъекту, или Другому, или адресоваться им обоим. Так анализ дискурса позволяет терапевту в ходе беседы с клиентом включиться в полифонию составляющих ее голосов.
Третий принцип — это принцип идеологичности. Понятие идеологии здесь используется в буквалистском его значении, как совокупность некоторых скрытых идей, не всегда и не полностью осознаваемое влияние которых обуславли-
[327]
вает смысл высказываний, слагающих дискурс. Идеи, выступающие как вторичные означающие дискурса, располагаются в пространстве коннотативной семантики высказываний и определяют скрытый смысл речи, который способен заменить и вытеснить явный в любой момент. В психотерапии искусство аналитика должно быть выше способности клиента жонглировать скрытым смыслом своего дискурса, иначе терапевт не сможет проводить осознанную стратегию воздействия и рано или поздно окажется в плену бессознательных намерений своего собеседника. Множество пустых, ни к чему не ведущих терапевтических сеансов возникает именно по этой причине.
Изучение различных способов идеологической "деформации" дискурса клиента позволяет аналитику наметить конечную цель терапии. Учитывая коннотативные смыслы, последний лучше понимает, совокупность каких бессознательных идей (содержаний, мотивов) пропитывает речь пациента и может прямо указать на них, осуществив тем самым демистификацию совместного дискурсивного пространства.
Четвертый принцип — интенциональности — предполагает понимание сознательных и учет бессознательных интенций клиента в качестве множественного субъекта высказываний. Как правило, даже небольшие по объему фрагменты дискурса могут содержать несколько различных, часто противоположно направленных и даже взаимно исключающих друг друга намерений и стремлений. Процесс вытеснения, безусловно, определяет основные противоречия, связанные с желанием одновременно высказать и утаить бессознательные означаемые, связанные с личностью клиента и историей его жизни.
Различные интенции клиента в дискурсе могут быть представлены как интенции высказываний и интенции сопровождающих эти высказывания значимых переживаний. Поэтому (в особенности, если переживания интенсивно эмоционально окрашены и очевидно модулируют процесс порождения высказываний) необходим феноменологический анализ, позволяющий развести указанные типы намерений. Это важно прежде всего для тех особен-
[328]
ностей высказываний клиента, которые обусловлены трансферентными отношениями. В равной степени в дискурсе терапевта должны быть замечены и учтены интенции, вызванные контр-переносом.
Помимо этих четырех основных принципов, которые могут быть положены в основу анализа психотерапевтического дискурса, нужно учитывать также следующее. В процессе анализа рассеянное множество высказываний приводится к позиционному единству. Производимая перегруппировка высказываний соответствует некоторой "точке зарождения" дискурса, понимаемой не как субъективная форма, а, скорее, как позиция субъекта, задающая определенную формацию дискурса. Каждая дискурсная формация определяет то, что может и должно быть сказано в зависимости от позиции субъекта. Комплекс дискурсных формаций в целом определяет "универсум" высказываемого и устанавливает границы речи клиента.
При анализе высказываемое в отношении субъекта определяется связью между различными дискурсными формациями. Эти формации очерчивают некоторую идентичность, не обязательно совпадающую с предъявляемой в ходе терапии (в психоанализе — обязательно не совпадающую). Учитывая, что клиент не всегда говорит "от своего имени", можно предполагать, что он имеет статус субъекта высказывания, который определяется той дискурсивной формацией, в которую он попадает. Аналитик обязан помнить, что разнообразие дискурсивных формаций отнюдь не является случайным, оно детерминировано ядром устойчивых смыслов, конфигурация которых и составляет основу проблемы клиента.
Как для терапевта, так и для клиента актуальный дискурс всегда соотносится с "уже сказанным" и "уже слышанным". В концептуальной практике анализа дискурса эти особенности конкретного дискурса называют преконструктом. В психотерапии преконструкт образуют рамки терапевтических отношений, взаимно направленные ожидания терапевта и клиента и их устойчивые личностно-смысловые системы, актуализирующиеся в процессе понимания и оценки личности собеседника. В качестве
[329]
отметок, "следов" предшествующих дискурсов (или отдельных высказываний) преконструкт обеспечивает эффект очевидности. Любой терапевт хорошо знаком с само собой разумеющимися, очевидными выводами и утверждениями клиентов, которые в конечном счете оказываются либо неверными от начала до конца, либо вообще не поддающимися верификации в силу нарушения логики предикатов73.
Очевидность, на которую рассчитывает клиент, придает его речевой деятельности иллюзорность, являющуюся важным аспектом его способа высказывания. Можно говорить о "прозрачности" дискурса клиента, понимая ее как совокупность очевидностей, эффектов дискурса, которые пронизывают производство смыслов; парадоксальным образом в результате формируется "затемненность" границ между смыслом и его субъектом. Клиент в определенном смысле постепенно становится заложником высказанного им, он уже не может изменить смысл в соответствии со внезапно возникшим намерением. В его распоряжении остается лишь иносказание (перифраз).
Для терапевта-аналитика выделение иносказаний в речи клиента имеет первостепенное значение. С его помощью можно наблюдать связь между различными позициями субъекта, его переходы из одной дискурсной формации в другую, поскольку все они связаны между собой отношениями перифразирования. Иносказание — безошибочный диагностический признак присутствия Другого (Иного), а вся совокупность перифраз задает расстояния между смыслами в различных, связанных между собой дискурсных образованиях. Посредством иносказаний смыслы (и субъекты) сближаются друг с другом и удаляются друг от друга, смешиваются и различаются. Это происходит в силу того, что субъект (клиент), сконцентрировавшись в самом себе (на своей проблеме), при производстве смысла рассматривает себя не как предмет высказывания (референции), а как совокупность связей между различными дискурсными формациями.
[330]
Наличие преконструктов обеспечивает порождение эффекта значения внутри дискурсной формации, благодаря чему субъект высказывания (клиент) может занять положение, способствующее иллюзии субъективности, т.е. иллюзии того, что он (субъект) и есть источник смысла. Все происходит таким образом, как если бы язык сам по себе поставлял элементы, требуемые для создания "необходимой конституирующей иллюзии субъекта". Фактически же в процессе производства дискурса имеет место двойное вытеснение: сначала клиент отторгает тот факт, что смысл высказывания формируется в процессе, детерминированном законами языка (внележащими частной логике субъекта)74. Затем он "забывает" о разделении субъективного семиотического пространства, посредством которого в нем формируется зона высказанного (явного) и отброшенного (невысказанного, тайного). Разумеется, чаще всего отбрасываются (в качестве второстепенных, неважных) как раз те моменты, совокупность которых составляет "неудобные" аспекты смысла. Могу добавить, что в анализе литературно-художественных и политических дискурсов это называется "эффектом Мюнхгаузена".
В дискурсе терапевта присутствие преконструкта обусловлено прежде всего его теоретическими знаниями и установками, сформировавшимися в рамках одной или нескольких психотерапевтических школ. Элементы дискурсивных практик психоанализа, теории М.Кляйн и интерперсонального подхода Г.С.Салливана могут составлять, к примеру, "материально-историческую объективность" дискурса терапевта, работающего с глубинными нарушениями межличностных отношений; правила индирективной терапии определяют стиль работы и порядок дискурса консультанта в ходе проведения роджерианского интервью. Профессиональная идентификация терапевта с той или иной психологической теорией детерминирует его дискурс, навязывая и одновременно скрывая его подчинение под видимостью независимости субъекта отдельно взятого высказывания.
В процессе рассказывания личной истории дискурс клиента апеллирует к совокупности смыслов внутреннего
[331]
опыта, используя формулы, конституирующие первоначальный, воображаемый дискурс, относящийся к области памяти. Это проявляется в ритуалах непрерывности, которые перекраивают время, соединяя смысл актуальных высказываний с прошлыми и будущими формациями индивидуального дискурса. Такие ритуалы наблюдаются также в процессе структурирования продолжительной по времени терапевтической работы психоаналитического характера. Эта ритуализация имеет лингвистическую природу, поскольку опирается на гибкую систему трансформаций глагольных времен, а не на традиционные речевые формулы. Ритуалы непрерывности соотносятся с формами умолчания — любой психоаналитик знает: то, что не высказано, тоже имеет смысл.
Молчание и умалчивание в анализе психотерапевтического дискурса важны своей конститутивной ролью. Как правило, в речи клиента всегда имеется основополагающее умолчание, соответствующее сильно вытесненным, глубинным слоям бессознательного, локальное умолчание, соотносимое с иррелевантными обсуждаемой проблеме аспектами опыта, и замещающее умолчание, составляющее суть того, что можно назвать "речевой политикой": говорить об А, чтобы не высказать В. Процесс умалчивания связан с борьбой смыслов и нарушением свободы передвижений из одной дискурсной формации в другую. При исключении некоторых смыслов в речи клиента возникают семантические зоны (а, следовательно, и позиции субъекта), которые он не может занимать, так как они становятся для него запретными. Психотерапевт в качестве пансемиотического субъекта может говорить с этих позиций, возвращая клиента в сферу того, о чем он пытался умолчать. Это весьма эффективный способ работы с сопротивлением.
В конечном счете, анализ дискурса в ходе психотерапевтического взаимодействия представляет собой процедуру, посредством которой терапевт способен преодолеть исходящее от клиента принуждение к интерпретации (одной из возможных, которая, тем не менее, представляется последнему единственно верной). Бессознательная
[332]
идеология речи клиента образует смысловое и семантическое ядро его проблемы, а запрос определяется возможностью понимания. Задачей аналитика является понимание властной (детерминирующей) роли бессознательных содержаний, в рамках которой конкретная интерпретация тяготеет не к недостатку смысла (его сокрытию, искажению, изъяну), а к избытку, насыщению, исчерпывающей полноте, производящей эффект очевидности.
Анализ предоставляет возможность рассматривать смысл как незаполненный, свободный для множества различных интерпретаций. Ассимилируя результаты такого взаимодействия, клиент в итоге оказывается способен включить в свой дискурс сделанные совместно с аналитиком открытия, проливающие свет на подлинную природу его трудностей и проблем, и выбрать адекватный способ их разрешения и преодоления.
Общую графическую схему анализа психотерапевтического дискурса представлена на следующей странице.
Таким образом, формальная сторона анализа бессознательных компонентов дискурса, опирающаяся на перечисленные выше принципы, представлена интерпретативными процедурами лингвистического характера. Однако модифицированной парадигмы текстового анализа недостаточно для того, чтобы обеспечить адекватное и психотерапевтически конструктивное понимание речи клиента. Необходимо хотя бы в общих чертах описать стратегию идентификации имеющейся у клиента бессознательной основы психического моделирования реальности (см. параграф 8.1), которая рассматривается как источник возникновения проблем и, следовательно, основной объект терапевтического воздействия. Здесь и далее речь пойдет о способе установления соответствия между дескриптивным бессознательным (в его фрейдовском понимании как психического процесса, существование которого следует предполагать, выводить на основе наблюдения явлений душевной жизни, которые иначе оказываются необъяснимыми), и динамическим бессознательным.
[333]
Дискурс
Схема анализа психотерапевтического дискурса.
[334]
Утверждение реальности бессознательного есть, как известно, ядро психоаналитического теории, ее сущность. Все, что можно с достоверностью узнать о его природе -это общий способ, при помощи которого бессознательные влечения в качестве интенциональных актов организуют и трансформируют опыт субъекта. Различие между сознательным и бессознательным ментальным актом состоит в том, что последний выполняется без референции к субъекту, который, таким образом, остается в неведении относительно собственных намерений.
Такое понимание созидающей (конститутивной) функции бессознательного дает возможность прагматически интерпретировать дискурс клиента с точки зрения имеющихся в нем разрывов ("зияний"), которые и выступают индикаторами глубинных проблем. А поскольку центральным моментом психоаналитической терапии принято считать установление связи сознания (Эго) с вытесненными содержаниями и представлениями, то понятно, почему заполнение разрывов и лакун в дискурсе клиента является действенным способом оказания ему психологической помощи. Это, собственно, и есть форма присутствия речевых аналитических техник в глубинной психотерапии как таковой.
1 Все эти книги уже вышли: Р.Р.Гринсон, "Техника и практика психоанализа", Воронеж, 1994; Ф.Перлз, "Гештальт-подход и свидетель терапии", Москва, 1996; Д.Фэйдимен, Р.фрейгер, "Теория и практика личностно-ориентированной психологии", Москва, 1996. А тогда у нас были только старые (ермаковские) издания Фрейда и одна-единственная книжечка Юнга, "Архетип и символ" (1991).
2 К. Рудестам. Групповая психотерапия. — М., 1990.
3 "Московский психотерапевтический журнал" начал выходить в 1992 г.
4 "Техники психологического консультирования", "Экопси", 1993.
5 В.Макдоиальд. Руководство по субмодальностям (психотерапия новой волны). - Воронеж: НПО "МОДЭК", 1994. - 89 с.
6 Москва, "Алетсйа", 1998.
7 Может быть, несколько смягченной позицией отличаются преподаватели, читающие общие курсы по психологическому консультированию и психотерапии. На лекциях им приходится излагать различные точки зрения на природу и сущность психотерапевтической деятельности. Однако практически (здесь я опираюсь на свидетельства более двух десятков коллег) в практической работе с клиентами большинство предпочитает какой-то один любимый подход.
8 См. р-ты Г.Элленбергера, Э.Рудинеско, Ф.Александера и Ш.Селесника (есть русский перевод), Л.Шертока и др.
9 Симферополь: Таврида, 1993. — 286 с.
10 Известный психоаналитик, главный редактор "Международного журнала психоанализа" и "Международного психоаналитического обозрения", президент Европейской психоаналитической федерации, обучающий и практикующий аналитик клиники Маудсли (Лондон).
11 Анализу сновидений посвящена отдельная (седьмая) глава настоящей книги.
12 Это выражение М.Фуко можно использовать как определение.
13 По классификации Э.Гловсра [см.б7, с.155].
14 Межсистемными называются конфликты между отдельными психическими системами (эго и ид, эго и суперэго), внутрисистемными — противоречия в одной и той же системе (например, конкурирующие влечения).
15 Термин М.Кляйн, см. об этом далее.
[336]
16 Стремление рассматривать естественно происходящие процессы как результат чьей-либо деятельности, в данном контексте — чаще всего злонамеренной.
17 "Культурная сексуальная мораль и современная нервозность", рус.пер. см. в [74, с.15-34].
18 Хорошей литературной иллюстрацией может служить роман Ф.Скотта Фитцджеральда "Ночь нежна".
19 Способов выражения, психических репрезентаций (например, образов объектов влечения или представлений о формах удовлетворения).
20 Коммунитас — понятие, введенное известным этнологом В. Тэрнером для характеристики образа жизни примитивных сообществ. Этим термином он обозначал особый тип близких, дружественных отношений, "опыт, проникающий до самых корней бытия каждого человека и дающий глубинное переживание общности со всем человечеством", состояние, в котором каждая личность переживает во всей экзистенциальной полноте существование другой. Нормативная коммунитас — это "место, где экзистенциальная коммунитас формируется как прочная социальная система", а идеологическая коммунитас есть претензия общества или системы на организацию соответствующего опыта как главной ценности своих членов [см. 68, гл. 3, 4].
21 В лакановском смысле этого слова, см. раздел 6.
22 См. об этом подробнее в параграфе 5.5.
23 Программное для глубинной психологии, не случайно так называется одна из ключевых по данной проблематике работ К.Г.Юнга. Правда, последний не рассматривает процесс личностного роста (индивидуацию) столь односторонне и прямолинейно. Под таким названием эта работа Ференци увидела свет на английском и французском языках. 25 В переводе Мориса Ваксмахера.
26 В психоаналитическом понимании этого слова — привычный способ взаимодействия эго с внешней и внутренней реальностью (требованиями ид и супер-эго).
27 Метонимия — фигура речи, смещающая субъект или объект действия ("весь город об этом говорит" — вместо "жители города"). 28 Разумеется, в описываемом случае стрелки идут в обратном направлении.
29 Мимесис — воспроизведение, копирование, имитация одним объектом (телом) движений, поведения, переживаний другого.
[337]
30 Принято различать позитивную и негативную формы комплекса — нс хорошую и плохую, а прямую и обратную (как фотография и негатив). Любовь к родителю противоположною пола — это прямая форма, а привязанность девочки к матери или мальчика к отцу — обратная. Отто Ранк считал, что в эдиповом комплексе биологический компонент влечения направлен к родителю противоположного пола, а психологический, соответственно, к другому.
31 Отдельно в главе 6 рассматриваются взгляды Ж.Лакана по этой проблеме.
32 См. прим. 14.
33 Выбор объекта по типу опоры, в данном случае — выбор (в качестве объекта влечения) заботливой любящей женщины, похожей на мать.
34 По Юнгу, границы психологической и личностной зрелости сильно сдвинуты к концу жизни. Он был не склонен считать по-настоящему взрослыми даже 30-летних, за что и подвергался упрекам в идеализации старости.
35 Локус контроля или уровень субъективного контроля личности (УСК) — понятие, введенное Дж. Роттером [120] для характеристики того, где именно субъект локализует контроль за событиями собственной жизни — вовне или в себе самом. Здоровые, зрелые и социально успешные индивиды, как правило, обладают внутренним локусом контроля. Существуют методы диагностики этого личностного свойства, наиболее распространенным в отечественной традиции является вопросник УСК [см. I].
36 Виктимность — бессознательное стремление стать жертвой трагического происшествия.
37 Буквально это слово значит "держать на руках".
38 Аутизм — это тяжелая форма психопатологии (в частности, при шизофрении), при которой человек практически полностью отказывается контактировать с внешним миром. Аутичные дети могут сутками сидеть в углу, лицом к стене, не двигаясь, ни с кем не разговаривая, нс проявляя никакого интереса к окружающей действительности.
39 Рус. пер. см. в сборнике ее работ под общим названием "Культура и мир детства" - М.: Наука, 1988 - 429 с.
40 "Окнофил" — буквально "любящий цепляться, держаться" (от греческого okneo — ухватывать, удерживать). Слово "филобат" образовано по аналогии с "акробат" — ходящий по краю пространства; а филобат — ходящий по краю любви.
41 Русское местоимение "Я" нс передает оттенков смысловых различий. Я как "Эго" — сознание и самосознание личности, Я как "сэлф" — сущность, индивидуальная природа личности (в юнгианстве и других подходах — в частности, Кохутом — используется понятие "Самость").
42 В диалоге "Пир".
[338]
43 Ф.Перлз так просто бравирует своими трансферентными злоупотреблениями — это, по-моему, один из основных мотивов книги "Внутри и вне помойного ведра". Впрочем, его последователи (И. и М.Польстер, С.Женжер) склонны занимать более сдержанную позицию.
44 Намного раньше сходные идеи развивал известный американский философ Чарльз Сандерс Пирс [1191, предложивший описывать прагматику человеческой жизни при помощи очень похожих категорий Первичности, Вторичности и Третичности.
45 Очерк О.Паса называется "Дохляк и другие крайности" [см. 50).
46 По выражению Хайдеггера.
47 Любое выражение понимается буквально. "Не могу сказать, что боюсь" — боюсь и не могу в этом признаться, и т.д.
48 Форма сексуального извращения, состоящая в подглядывании за интимными действиями другого человека — обнажением, половым актом и т.п.
49 Перверсия — принятый в клинике термин, обозначающий извращение.
50 Концепцию смысла как эффекта, происходящего "на поверхности" соприкосновения вещей (событий) и их описаний см. у Ж.Делеза [14]. Не могу удержаться от упоминания совершенно потрясающей книги
51 Барбары О'Брайен "Операторы и вещи" (М.: Класс, 1996). Это "необыкновенное путешествие в безумие и обратно" — документальная история психотического фантазма, записанная самой больной после выздоровления.
52 Перевод А.В.Гавриленко, А.П.Толочко.
53 Лакан называет его объектом 'а'.
54 Перформатив — тип высказывания, эквивалентный действию или поступку. Например, "я пишу" есть сообщение об акте писания, а нс сам этот акт, в то время, как "я прошу" — это и есть сам акт просьбы, а нс информация о ней.
55 Как пишет Лакан, "во всем своем совершенстве" — это себя сознающее, всс-сознающее существо у Гегеля, это истина как не-сокрытость, не-потаенность (алстсйя) у Хайдеггера и т.п.
56 Сравнение аналитика с археологом принадлежит самому Фрейду, эту метафору он использует в работе "Конструкции в анализе" [76].
57 Дневными остатками Фрейд называл реальные события (обычно недавние), которые в искаженном и переработанном виде представлены в сновидениях.
58 По мнению Ю.Кристевой [ИЗ], говорящий субъект расщеплен между сознанием и бессознательным, т.е. одни и те же речевые формы
[339]
воплощают как сознательные намерения говорящего, так и вытесненные содержания, которые человек не способен вспомнить, и в то же время нс может забыть.
59 Это второй том "Семинаров" Ж.Лакана.
60 Термин Лакана, посредством которого обозначается особый статус вытесненного в структуре Символического. Говоря о насильственном исключении вытесненных переживаний или воспоминаний, психоаналитик подчеркивает присущий им динамизм: вытесненное, будучи "невидимым" для Эго, оказываег мощное влияние на поведение и действия субъекта. В данном случае о присутствии такого вытеснения свидетельствует аффект страха.
61 В одном из своих последних семинаров Лакан предложил рассматривать Реальное, Воображаемое и Символическое в качестве трех колец, соединенных четвертым — симптомом.
62 Имагинация — по-латыни "воображение", имаго — "образ". Как видим, древние рассматривали воображение прежде всего как создание образов. Прилагательное "имагинативный" означает "относящийся к воображению" или "образный", но ни в коем случае нс "воображаемый" в лакановском понимании этого слова.
63 По-моему, это сюжет одного из рассказов Александра Грина.
64 См. об этом подробнее в его работах — таких, как "Aion", "Воспоминания. Сновидения. Размышления", "Психология и алхимия" и др.
65 На одной из книжных полок у меня стоят фигурки котов и кошек.
66 Ж. Делез. Фуко. — М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998. — 172 с.
67 Известный в Северной Европе мифологический сюжет: смерть в виде охотника, война как охота демонических существ.
68 Фильм напряженного действия, "психологический боевик".
69 Киев: Софии Ltd., 1996 г.
70 Универсум традиционно понимается в философии как "все сущее", "мир как целое".
71 См. подробнее о них в более ранней работе [24].
72 См., например, недавно переведенную у нас работу Э.Гловера "Фрейд или Юнг" — СПб.: Академический проект, 1999. — 206 с.
73 Ср. формулировку парадокса Мура: "Идет дождь, но я так не считаю" с утверждением типа "Муж обеспечивает семью, но я так думаю".
74 Клиент произносит, например, фразу "Не могу сказать, что я свою жену ненавижу", полагая, что ее смысл состоит утверждении, что он нс испытывает ненависти к жене. На самом деле значение фразы — в том, что он нс может сказать о своей ненависти.
1. Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинд А.М. Метод исследования уровня субъективного контроля / Психол. журнал, 1984, № 3, с.152-162.
2. Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. — М.: Ad Marginem, 1999. - 432 с.
3. Батай Ж. Внутренний опыт. — СПб.: Аксиома, 1997. — 336 с.
4. Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. — М.-К.: Рефл-Бук, Ваклер, 1999. - 336 с.
5. Бодрийяр Ж. О совращении / Ad Marginem '93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований Института философии РАН. — с. 324 — 353.
6. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. — М.: Добросвет, 2000. — 258 с.
7. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — М.: Добросвет, 2000. - 387.
8. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. — М.: Изд-во Института психотерапии, 2000. — 368 с.
9. Брилл А. Лекции по психоаналитической психиатрии. — Екатеринбург: Деловая книга, 1998. — 336 с.
10. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери. — М.: Класс, 1998. - 80 с.
11. Винникотт Д.В. Пигля. Отчет о психоаналитическом лечении маленькой девочки. — М.: Класс, 1999. — 176 с.
12. Гуггенбюль-Крейг А. Власть архетипа в психотерапии и медицине. - СПб.: Б.С.К., 1997. - 117 с.
13. Гринсон P.P. Техника и практика психоанализа. — Воронеж: МОДЭК, 1994. - 491 с.
14. Делез Ж. Логика смысла. — М.: Академия, 1995. — 298 с.
15. Делез Ж. Ницше. — СПб.: Аксиома, 1997. — 186 с.
16. Делез Ж. Представление Захер-Мазоха // Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. — М.: Ad Marginem, 1992. — с. 189-312.
17. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. — М.: Логос, 1998. — 264с.
18. Демоз Л. Психоистория. — Р/Д.: Феникс, 2000. — 512 с.
19. Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. — Мн.: Современный литератор, 1999. — 832 с.
20. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. — М.: Художественный журнал, 1999. — 236 с.
[341]
21. Западноевропейская поэзия XX века / ред. М.Ваксмахер и др. — М.: Художественная литература, 1977. — 846 с.
22. Зонтаг С. Мысль как страсть. — М.: Русское феноменологическое общество, 1997. — 208 с.
23. Калина Н.Ф. Лингвистическая психотерапия. — К.: Ваклер, 1999. - 282 с.
24. Калина Н.Ф. Основы психотерапии. — К.: Ваклер, 1997. — 266 с.
25. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. — СПб.: Б.С.К., 1997. — 143 с.
26. Кальвино И. Незримые города. — К.: Лабиринт, 1993. — 391 с.
27. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / ред. Ю1С.Степанов. — М.: Прогресс, 1999. — 416 с.
28. Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. — М.: Класс, 1998. — 368 с.
29. Кернберг О. Отношения любви (норма и патология). — М.: Класс, 2000. - 256 с.
30. Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства (стратегии психотерапии). — М.: Класс, 2000. — 464 с.
31. Кляйн М. Зависть и благодарность. — СПб.: Б.С.К., 1997. — 96 с.
32. Куттер П. Современный психоанализ. — СПб.: Б.С.К., 1997. - 348 с.
33. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда.- М.: Русское феноменологическое общество, 1997. — 184 с.
34. Лакан Ж. Семинары. Кн.1. — М.: Логос, 1998. — 432 с.
35. Лакан Ж. Семинары. Кн.2. — М.: Логос, 1999. — 520 с.
36. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. — М.: Гнозис, 1995. — 101 с.
37. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. — М.: Высшая школа, 1996. — 623 с.
38. Леви-Строс К. Сырое и приготовленное. — М.-СПб.: Университетская книга, 1999. — 406 с.
39. Левинас Э. Время и Другой. Гуманизм другого человека. — СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. — 265с.
40. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. — М.: Гнозис, 1992. — 272 с.
41. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. — М.: Класс, 1998. - 480 с.
42. Мак-Дугалл Дж. Тысячеликий Эрос. — СПб.: Б&К, 1999. — 278 с.
[342]
43. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символе и языке. — М.: Языки русской культуры, 1997. — 224 с.
44. Менегетти А. Словарь образов. Практическое руководство по имагогике. — Л.: ЭКОС, 1991. — 112 с.
45. Нанси Ж.-Л. Corpus. — М.: Ad Marginem, 1999. — 256 с.
46. Нюнберг Г. Принципы психоанализа. — СПб.: Университетская книга, 1999. — 362 с.
47. Овчаренко В.И. Психоаналитический глоссарий. — Минск: Высшая школа. 1994. — 307 с.
48. О'Коннор Д., Сеймор Д. Введение в НЛП. — Челябинск: Версия, 1997. - 256 с.
49. От Я к Другому / ред. А.А.Михайлов. — Мн.: Менск, 1997. - 276 с.
50. Пас О. Поэзия. Критика. Эротика. — М.: Русское феноменологическое общество, 1996. — 192 с.
51. Подорога В.А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. — М.: Ad Marginem, 1995. — 357 с.
52. Психоанализ в развитии. Сборник переводов / ред.-сост. А.П.Поршенко, И.Ю1Романов. — Екатеринбург: Деловая книга, 1998. — 176 с.
53. Психоаналитические термины и понятия. Словарь / ред. Б.Э.Мур, Б.Д.Файн. - М.: Класс, 2000. - 304 с.
54. Психотерапия / ред. Б.Д.Карвасарский. — СПб.: Питер, 2000. - 544 с.
55. Психотерапия: новая наука о человеке / ред.-сост. А.Притц. — Екатеринбург: Деловая книга, 1999. — 397 с.
56. Райх. В. Анализ характера. — М.: Апрель-Пресс, 2000. — 528с.
57. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. — М.: Медиум, 1995. — 415 с.
58. Руднев В.П. Прочь от реальности. — М.: Аграф, 2000. — 432 с.
59. Сагецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. — М.: Художественный журнал, 1999. — 205 с.
60. Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии. -М.: Ювента, СПб.: КСП+, 1999. - 347 с.
61. Самохвалов В.П. Психоаналитический словарь и работа с символами сновидений и фантазий. — Симферополь: Сонат, 1999. - 184 с.
62. Современная западная философия (словарь) / ред.-сост. В.С.Малахов, В.П.Филатов. — М.: Политиздат, 1991. — 414с.
63. Современная теория сновидений / ред. С.Фландерс. — М.: Рефл-бук, 1999. - 333 с.
64. Самуэлс Э. Юнг и постыонгианцы. — М.: ЧеРо, 1997. — 416 с.
[343]
65. Столороу Р., Брандшафт Б., Атвуд Д. Клинический психоанализ (интерсубъективный подход). — М.: Когито-Центр, 1999. - 252 с.
66. Ткаченко А.А. Игровой мир трансгрессивной сексуальности: основания к психопатологической феноменологии парафи-лий. - Ж. "Логос", 1998, № 1, с.204- 229.
67. Томэ X., Кэхеле X. Современный психоанализ. — М., 1996. - Т. 1 - 576 с., Т. 2 - 667 с.
68. Тэрнер В. Символ и ритуал. — М.: Наука, 1983. — 277 с.
69. Франкл Дж. Неизведанное Я. — М.: Прогресс, 1998, — 246с.
70. Французская философская мысль в России 90-х годов / Круглый стол в секторе аналитической антропологии ИФ РАН. - Ж. "Логос", 999, № 2, с.313- 352.
71. Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы. — М.: Педагогика-Пресс, 1993. — 144 с.
72. Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа. — М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. — T.I - 384 с., Т.2 - 400 с.
73. Фрейд А, Фрейд 3. Детская сексуальность и психоанализ детских неврозов. — СПб.: В.-Е. Институт Психоанализа, 1997. - 387 с.
74. З.Фрейд, психоанализ и русская мысль / Ред.-сост. В.М.Лейбин. — М.: Республика, 1994. — 384 с.
75. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. — М.: Наука, 1991. - 546 с.
76. Фрейд 3. Основные принципы психоанализа. — М.-К.: Рефл-бук, Ваклер,1998. — 284 с.
77. Фрейд 3. Основные психологические теории в психоанализе. - СПб.: Ачетейя, 1998. - 251 с.
78. Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия. — М.: Прогресс, 1993. - 458 с.
79. Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. — М.: Ренессанс, 1992. - 296 с.
80. Фрейд 3. Психоаналитические этюды. — Минск: Беларусь, 1991. - 606 с.
81. Фрейд 3. Художник и фантазирование. — М.: Республика, 1995. - 398 с.
82. Фрейд 3. Я и Оно. Труды разных лет. — Тбилиси: Мерани, 1991. - T.I - 398 с., Т.2 - 427 с.
83. Фуко М. Археология знания. — К.: Ника-центр, 1996. — 208 с.
84. Фуко М. Воля к истине. — М.: Касталь, 1996. — 448 с.
85. Фуко М. Забота о себе. — К.: Грунт и литера, М.: Рефл-бук, 1998. - 288 с.
[344]
86. Фуко М. Надзирать и наказывать (история тюрьмы). — М.: Ad Marginem, 1999. — 478 с.
87. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — М.: Прогресс, 1977.- 488 с.
88. Хиллман Д. Архетипическая психология. — СПб.: БСК, 1996. - 157 с.
89. Хиллман Д. Исцеляющий вымысел. — СПб.: БСК, 1997. — 181 с.
90. Черноглазое А. К. Разбитое зеркало. — Ж. "Логос", 1999, № 2, с.269- 285.
91. Эволюция психотерапии (в 4-х т.) / ред. Дж.Зейг. — М.: Класс, 1998.
92. Эко У. Отсутствующая структура. — СПб.: Петрополис, 1998. - 432 с.
93. Энциклопедия глубинной психологии / ред. Д.Айке. — М.: Интерна, 1998. — 782 с.
94. Юнг К.Г. Архетип и символ. — М.: Ренессанс, 1991. — 304 с.
95. Юнг К.Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. — К.: AirLand, 1994. - 405 с.
96. Юнг К.Г. Критика психоанализа. — СПб.: Академический проект, 2000. — 304 с.
97. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. — М.: Прогресс, 1994. - 336 с.
98. Юнг К.Г. Психология бессознательного. — М.: Канон, 1994. - 320 с.
99. Юнг К.Г. Психология и алхимия. — М.-К: Рефл-бук, Ваклер,1997. - 587 с.
100. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. — СПб.: Питер, 2000. — 640 с. 101.Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. — М.: Класс, 1999. - 576 с.
102. Apel К.-О. Communication and the foundations of the humanities. — Acta sociologica. Copenhagen, 1972, Vol.15, № 1.
103. Balint M. Thrills and Regressions. — London: The Hogarth Press, 1959.
104. Baudrillard J. Simulacres et simulation. — Paris, 1981.
105. Greimas A.J. Du Sens. Paris: Editions du Seuil, 1970.
106. Deleuze J., Guattari F. L'Anti-Qedipe. Capitalisme et schizophrenie. — Paris: Gallimard, 1972.
107. Federn P. Ego psychology and the psychoses. — New York: Basic Books, 1952.
108. Freud S. The Standard Edition of the Complete Psychological Work of Sigmund Freud. — London: The Hogarth Press, 1953 - 1974.
[345]
109. Gill M. Analysis of transference. — New York: International Universities Press, 1982.
110.Hartmann H., Loewenstein R. Notes on the Super-ego. — Psychoanalytic study child, 1962, 2:1, p. 1-38.
111.Kohut H. How does analysis cure? — Chicago: University of Chicago Press, 1984.
112. Kohut H. Restoration of the self. — New York: International Universities Press, 1977.
113. Kristeva J. La revolution du langage poeticue. — Paris: Les Editions du Seuil, 1981.
114. Lacan J. Ecrits. — Paris: Gallimard, 1970.
115. Laplanche J., Pontalis J.-B. Fantasme originaire, fantasme des origines, origine du fantasme. — Paris: Les Editions du Achettes, 1964.
116. Lyotard J.-F. La condition postmoderne. — Paris: Les Editions de Minuit, 1979.
117. Mahler M., Pine F., Bergman A. The psychological birth of he human infant. — New York: Basic Books, 1975.
118. Miller J.-A. Sur le Gide de Lacan. — "La Cause Freudienne", 1995, № 25.
119.Peirce, C.S. Philosophical Writings of Peirce. New York: Dover Publications, 1955.
120. Rotter J. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. — Psychological Monographs, 1966, 80 (1), pp. 1-28. 121. Sartre J.P. L'Etre et le Neant. Essai d'ontologie phenomenologique. — Paris: Gallimard, 1943.
122. Sullivan H.S. Clinical studies in psychiatry. — New York: Norton, 1973.
123. Tyson R.L., Sandier J. Problems on the Selection of Patients for Psychoanalysis / British Journal of Medical Psychology, 1971, 44, p. 211-238. 124. Arlow J.A., Brenner С. Psychoanalytic Concepts and the Structural Theory. — New York: International Universities Press, 1963.
125. Brenner С. Psychoanalytic Techniques and Psychic Conflict. — New York: International Universities Press, 1976.
Надежда Федоровна Калина — известный глубинный психолог и психотерапевт. Заведует кафедрой клинической психологии и психотерапии Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского (Симферополь). Автор 5 книг: "Речевое общение в психотерапии" (1994), "Основы юнгианства анализа сновидений" (1996), "Основы психотерапии" (1997), "Лики ментальности и поле политики (1998, в соавт.), "Лингвистическая психотерапия" (1999).
В апреле 2000 г. в Институте психологии им. Г.С. Костюка (Киев) защитила докторскую диссертацию по теме "Лингвистическая психотерапия". Область научных интересов — глубинная структурный психоанализ, постмодернистские рефлексии бессознательного . Практикующий и обучающий псиоаналитик, супервизор (Крым).
THE FOUNDATION OF PSYCHOANALYSIS
Part 1. Phenomenology of the psychotherapy and an essence of therapeutic analysis ...............9
1.1 Origins ................................... .9
1.2. Concept of the therapeutic help ................. .18
1.3. Model of psychotherapeutic influens .............. .26
Part 2. Theories and technics of therapeutic analysis .... .34
2.1. Structuralization of the relations ................ .34
2.2. Completion of therapy ....................... .39
2.3. Transfer ................................. .47
2.3. Resistance and defenses ...................... .57
Part 3. Psychoanalytical ideas of the functioning of psychics . .77
3.1. Potentialities of psychoarialytical approach .......... .77
3.2. The first Freud's ideas of the functioning of psychics . . .81
3.3. Unconsciousness influences of the perception, of reality . .89
3.4. Fear ....................................98
3.5. Narcissism .............................. .101
Part 4. Therapy of the problem connect with development of personality ........................... .110
4.1. Classifications of the problem ..................110
4.3. Prenathal study and trauma of birth ........... .114
4.3. Oral study ............................... .119
4.4. Anal problems in therapy .................... .126
4.5. Oedipus stage and Oedipus complex ............. .135
4.5. The development of Super-ego ................. .144
Part 5. Interpersonal relationship as a subject of therapeutic analysis ............................... .155
5.1. Concept of objection relations ................. .155
5.2. The theory of M. Klein ................. . .160
5.3. D.W. Winnicott, M. Mahler a mother and a child . . .171
5.4. The development of the objection relations .... . . .179
5.5. Objection relations and Self ............... . . .182
5.6. Interpersonal approach .................. . . .190
5.7. Love .............................. . . .196
Part 6. Structural-analytic approach in therapy ... . . .207
6.1. Lacan and postmodern .................. . .207
6.2. Registers of psychics .................... . .210
6.3. The Other and desire ................... . .229
6.4. Imaginary. Simulyaer. Pornography. ......... . . .237
6.5. Phantasm in the therapy ................. . . .241
6.6. Completion of analysis: the transition over
the verge of desire or beyond discourse ........ . . .249
Part 7. Modern ideas of the dreams analysis ..... . .257
7.1. The valley of the kings .................. . . .257
7.2. The dream's function in the therapeutic analysis . . .260
7.3. Dream as phantasm ................... . . .265
7.4. Active technics works with dream .......... . . .277
7.5. Rich dream .......................... . . .287
Part 8. Discursive analysis in psychotherapy ..... . .297
8.1. Psychotherapeutic discourse and his "Master" —
pansemiotic subject ..................... . . .297
8.2. Practices of the discourse in psychotherapy ... . . .304
8.3. An analysis of psychotherapeutic discourse .... . . .322
Comment ............................ . .335
Literature ............................. . . .340
Серия "Образовательная библиотека"
В.В. Черкасов, С.В. Платонов, В.И. Третяк. Управленческая деятельность менеджера
С.Д. Максименко. Общая психология
Г. Г. Почепцов. Коммуникативные технологии XX века
Г. Г. Почепцов. Паблик рилейшнз для профессионалов
Г. Г. Почещов. Информационные войны
Г. Г. Почещов. Психологические войны
Г. Г. Почепцов. Имиджелогия
В.Г. Королько. Основы паблик рилейшнз
В издательствах «Рефл-бук» и «Ваклер» вышли в свет:
в серии «Созвездие мудрости»:
О. ХАКСЛИ «Вечная философия»
Дж. КЭМПБЕЛЛ «Тысячелетний герой»
Э. УОЛЛИС БАДЖ «Легенды о египетских богах»
Б. МАЛИНОВСКИЙ
«Магия, наука, религия»
Дж.Дж. ФРЭЗЕР «Золотая ветвь (дополнительный том)»
М.ФУКО «Забота о себе»
К. КЕРЕНКИ
"Элевсин"
В печати:
А. НАГОВИЦЫН
"Мифология и религиия этрусков"
По вопросам оптовой закупки издательств "Рефл-бук" и "Ваклер"
обращаться:
г. Москва
издательство "Рефл-бук " ул. Гиляровского, тел./факс: (095) 281-70-15
г. Киев
издательство "Ваклер " пр. Победы, 44, тел.: (044) 441-43-04 тел./факс: (044) 441-43-89
e-mail: Ren-book@dol.ru
Калина Н.Ф. Основы психоанализа. Серия "Образовательная библиотека" — М-: "Рефл-бук", К.: "Ваклер". 2001. — 352 с.
© ISBN 966-543-048-3 (серия)
© ISBN 5-87983-100-0 («Рефл-бук»)
© ISBN 966-543-063-7 («Ваклер»)
В книге впервые в системной форме даются теоретические основы, техники и методики различных школ психоанализа. Показана взаимосвязь, взаимозависимость и необходимость применения различных подходов при работе с клиентом. Особое внимание уделяется структурно-аналитическому подходу, а также рассмотрены современные представления об анализе сновидений. Книга насыщена множеством примеров из богатого практического опыта автора.
УДК 159.9
Надежда Федоровна Калина Основы психоанализа
Компьютерная верстка А.Ю. Чижевская
Подписано в печать 01.11.2000. Формат 84xl08 1/32. Гарнитура таймс. Печать высокая. Печ. листов 11. Тираж 3000 экз. Заказ № 2402.
Издательство «Рефл-бук». Москва, 3-я Тверская-Ямская, 11/13. Лицензия ЛР № 090222 от 08.04.99.
Отпечатано с диапозитивов в ГПП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.
Сканирование: Янко Слава
yanko_slava@yahoo.com | | http://www.chat.ru/~yankos/ya.html | Icq# 75088656
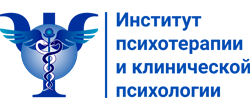

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству




 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
