Библиотека » Общий подход в психотерапии и коррекции » Лэйнг Я и Другие
Автор книги: Лэйнг
Книга: Лэйнг Я и Другие
Лэйнг - Лэйнг Я и Другие читать книгу онлайн
Рональд Д. Лэйнг
“Я” и Другие
Перевод с английского Е. Загородной
R.D. Laing
Self and Others
Москва
Независимая фирма «Класс»
2002
УДК 615.851
ББК 53.57
Л 69
Лэйнг Р.Д.
Л 69 “Я” и Другие / Перевод с англ. Е. Загородной. — М.: Независимая фирма “Класс”, 2002. — 192 с. — (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 98).
ISBN 5-86375-043-Х
Эта книга принадлежит к числу самых известных трудов Р.Д. Лэйнга — психоаналитика и психотерапевта, кумира 60-х и 70-х годов, “возмутителя спокойствия”, одного из создателей “антипсихиатрии”. Она посвящена переживаниям взаимоотношений между людьми, месту в этих переживаниях так называемой “системы фантазии”, соотношению фантазии и непосредственного опыта, а также тому, как влияет восприятие окружающих людей на самоидентичность человека и как оно может подорвать его доверие к собственным эмоциональным реакциям и собственному восприятию реальности.
Интереснейшие рассуждения, тонкий анализ произведений Достоевского и Жана Женэ, обращение автора к своему терапевтическому опыту делает книгу удивительным интеллектуальным путешествием. Прежде всего, конечно, для профессионалов в области психологии и психотерапии и студентов соответствующей специализации. Однако немало любопытного и неожиданного найдут здесь и те читатели, которых просто интересует безграничный мир отношений между людьми.
Главный редактор и издатель серии Л.М. Кроль
Научный консультант серии Е.Л. Михайлова
ISBN 0-393-70185-9 (USA)
ISBN 5-86375-036-7 (РФ)
© 2002 Независимая фирма “Класс”, издание, оформление
© 2002 Е. Загородная, перевод на русский язык, предисловие
© 2002 Е.А. Кошмина, дизайн обложки
Исключительное право публикации на русском языке принадлежит издательству “Независимая фирма “Класс”. Выпуск произведения или его фрагментов без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.
www.kroll.igisp.ru
Купи книгу “У КРОЛЯ”
Лэйнг горечи и крепкой закваски
Предисловие переводчика
Психиатр Рональд Лэйнг, шотландец по происхождению, известен у нас в основном как один из лидеров “антипсихиатрии”. В 1960-е годы он безусловно был звездой первой величины “антипсихиатрического” движения, однако сам никогда не называл себя антипсихиатром. Дело здесь, по-видимому, в том отвращении к идеологии, которое он сохранял всю свою жизнь и которое во многом определило направление его работы. Борьба с идеологиями в человеческом мире, с фантазиями, созданными для насилия, и тщетность этой борьбы — вот основная коллизия жизни этой трагической и многозначительной фигуры уходящего века.
Однако давайте по порядку.
Рональд Дэвид Лэйнг родился в 1927 году в Глазго. Он рано начал интересоваться философией, еще в школе прочел Платона, а также Фрейда, Маркса, Ницше, Кьеркегора. Был музыкально одарен и в 1944 — 1945 гг. избран лиценциатом Королевской академии музыки и членом Королевского музыкального Общества.
В 1945 — 1951 гг. он изучает медицину в университете Глазго. Во время учебы подрабатывает санитаром в психиатрическом отделении, и это вдохновляет его специализироваться в психиатрии.
В 1951 году он проходит интернатуру в клинике нейрохирургии и отправляется в армию в качестве офицера Королевского медицинского корпуса. Служит сначала в психиатрическом подразделении Британской армии, а затем в военном госпитале в Каттерике.
Говорят, что, будучи военным психиатром, он предпочитал общество своих пациентов обществу армейских коллег. Здесь он впервые приходит к убеждению, что “галлюцинаторно-бредовое” поведение может в конце концов стать целительным, если позволить ему протекать своим чередом, не пытаясь подавить его лекарствами или шоковой терапией.
В 1953 г. Лэйнг публикует первую статью в Журнале Королевского медицинского корпуса под названием “Один случай синдрома Ганзера”. В это же время уходит из армии и в течение трех лет проходит практику в Королевской психиатрической больнице Гартнавел в Глазго. Здесь он вводит лечебное новшество — “шумную комнату”, где пациенты-шизофреники и персонал, и те и другие в обычной одежде, проводят время в общении и приятных для себя занятиях. Идея заключалась в том, чтобы избавиться от официальной, заданной ситуации и приблизиться к обстановке реальной жизни. Новшество принесло успех. Надо сказать, что удивительный успех всегда сопутствовал Лэйнгу в его терапевтической практике.
По всей видимости, он уже тогда нашел родственные себе по духу концепции в философии и определился в философских взглядах.
В 1956 г. Лэйнг приступает к созданию книги “Разделенное “Я”*, которую он начинает с определения “экзистенциально-феноменологического основания науки о личности” и “экзистенциально-феноменологического понимания психоза”. Здесь он вводит понятие переживания**, ведущее в его концептуальном аппарате. Поскольку переживание является, по сути, единственной реальностью, которой мы располагаем, то, изучая личность, мы должны рассматривать ситуацию с точки зрения переживания этой личности, не забывая, что единственное наше орудие и средство — это наше переживание, сопереживание, сочувствие и “даже вчувствование”. Поведение психотика может казаться непонятным, но только до тех пор, пока нам не откроется его переживание, которое может быть странным и пугающим. Однако не нужно его отбрасывать как полностью нереальное. Даже если психотик чувствует, что он мертв, экзистенциально для него это так. Экзистенциально — это не значит символически, метафорически и т.п. Во сне, например, мы переживаем, что мы летаем, и это безусловно нельзя назвать ни символом, ни метафорой. В отличие от простой и наивной уверенности в том, что пациент галлюцинирует, а мы видим мир таким, какой он есть, Лэйнг предлагает не забывать, что все мы спим в той или иной степени, а кроме индивидуальных иллюзий бывают всеобщие или разделяемые. Большинство не всегда право, поиск истины неизменно требует риска, и мы должны помнить это, если имеем дело с другими людьми.
Лэйнг вводит понятие “онтологической незащищенности”, на основе которого строит модель шизофрении как попытки сохранить слишком хрупкое, неустойчивое, неопределенное “Я” за счет внутреннего раскола и создания так называемого “внешнего” фальшивого (или ложного) “Я”. Внутреннее “Я” при этом изолируется от мира, от тела индивидуума, “развоплощается”, становится все более призрачным и пустым и, в конце концов, оказывается на краю гибели. Психотический приступ, таким образом, рассматривается как своего рода прорыв, выход на поверхность этого внутреннего гниения заживо. Подобный прорыв, как считает Лэйнг, есть акт отчаяния: “понимать отчаяние — значит понимать, что такое шизофрения”.
В конце 1956 г. Лэйнг начинает работать в клинике Тэвистокского института человеческих отношений в Лондоне и изучает психоанализ. Он ищет социальные корреляты шизофрении. В 1958 г. совместно с Аароном Эстерсоном Лэйнг предпринимает исследование семей шизофреников, результаты которого были опубликованы в работе “Психическое здоровье, безумие и семья”.
Начиная с этого исследования, у Лэйнга постепенно складываются концепции “узла” и “системы фантазии”, которые становятся ключевыми в его воззрении на психическое здоровье и безумие. Он начинает рассматривать шизофрению как болезнь человеческого “узла”, а не индивидуума. Что же такое “узел”? Понятие “узла” у Лэйнга удивительно напоминает описание архаического племени, в центре которого находится шаман или жрец и каждый член которого является не автономной единицей, объединившейся с другими автономными единицами, а органом общего тела и общей души. В таких племенах наряду с нормальными членами общества существовали изгои, которые сразу же погибали или становились зомби, неодушевленными людьми, если их вынуждали покинуть племя.
В период формирования концепции “узла” Лэйнг знакомится с антропологом Грегори Бейтсоном, чья теория “двоякого предписания” (или “двойной связи” — dоuble bind) была близка Лэйнгу. Эта теория зародилась при исследовании племени Новой Гвинеи. Культура этого племени включала определенные механизмы установления внутреннего равновесия (например, сексуальный трансвестизм в ситуации опасного соперничества), которые совершенно не устраивали западную администрацию и миссионеров.
Бейтсон перенес ситуацию этого племени, которое оказалось между двух огней (угрозы внутреннего хаоса и внешнего истребления) на ситуацию шизофреника в семье. Однако саму семью можно рассматривать как племя, встроившее в свою структуру западную администрацию и миссионеров, но оставшееся столь же первобытным.
Интересно, что результаты исследования Лэйнга и Эстерсона, в частности, показали, что в семьях шизофреников отец часто бывает мягкотелым и подчиненным, а главным авторитетом является холодная и всесильная мать.
В 1960 г. Лэйнг публикует “Разделенное “Я”. Книга имела прекрасные отзывы, но поначалу не стала бестселлером. В этом же году Лэйнг получает квалификацию психоаналитика и открывает частную практику в Лондоне.
Начинаются 1960-е годы, бурное десятилетие всеобщего порыва к свободе, революционных настроений, волнений среди молодежи и студентов, начала массовых экспериментов с веществами, “расширяющими сознание”. К этому времени Лэйнг знакомится с Дэвидом Купером, человеком крайне левых взглядов, неомарксистом, который в 1960-е годы становится одним из его ближайших соратников. В 1967 году именно Купер впервые использует термин “антипсихиатрия”.
В 1962 г. Лэйнг становится главным врачом клиники Лэнхем в Лондоне. Он продолжает развивать концепции “узла”, фантазии и безумия, где на первый план все отчетливее начинает выступать тема насилия. “Узел” — группа людей, объединенная системой общей фантазии. Это фантазия о неком единстве, о неком “Мы”, противопоставленном некому “Они”. “Они” представляют собой угрозу индивидууму, “Мы” — гарантируют безопасность. Таким образом, “узел” — это что-то вроде круговой поруки, где каждый продает свою свободу каждому в обмен на безопасность. “Узел” — система взаимного насилия, существующего ради противостояния внешнему миру. Вдвойне отвратительная связь, как сказал бы Лэйнг.
Шизофрения есть порождение “узла”, это болезнь человеческих отношений, и в этом смысле наклеивание ярлыка “больной” на одного из членов сообщества является социальным, а не медицинским фактом, а социальный факт, в свою очередь, — политическим событием.
На почве такого рода представлений в 1960-е годы возникает “антипсихиатрическое” движение. Его ключевая идея состоит в том, что психическая болезнь является мифом. “Миф психического заболевания” — именно так называется работа одного из главных представителей “антипсихиатрии” Томаса Заца. Болезнь есть физическое понятие, а потому не может распространяться на психические расстройства, при которых не наблюдается никакой физической патологии.
Психиатрия — система насилия, которую государство и общество используют для устранения или переделки нестандартных винтиков общественной машины.
В 1960-е годы Лэйнг публикует ряд книг: “Я” и другие” (1961), “Политика опыта и Райская Птица” (1964)*, “Разум и насилие — десятилетие философии Сартра” совместно с Д. Купером (1964), переиздание “Разделенного “Я” (1965). Все они немедленно раскупаются. Тексты Лэйнга не совсем обычны. Они представляют собой соединение фрагментов научного и философского анализа, художественного текста, диалогов, разборов клинических случаев и отрывков из стихов и прозы разных авторов. Чтобы передать свое понимание мира безумия, он обращается и к логике, и к интуиции, и к эстетическому чутью, и к сердцу, то есть к целому человеку. Он пытается ввести человека в этот мир, показать его жизнь и блестяще решает эту задачу. Собственно психотерапевтическим методам и приемам здесь уделяется скромное место. Лэйнг никогда не любил писать о терапии, считая, что это бессмысленное занятие: одна неверно прочитанная интонация — и весь смысл может быть понят прямо противоположным образом. И все же главная функция терапии — обеспечить обстановку, в которой как можно меньше будет затруднена способность человека к раскрытию своего “Я”. Основное условие успеха — способность терапевта “не позволить себе вступить в “сговор” с пациентами и занять место в их системе фантазии; и наоборот, не использовать пациентов для воплощения какой-либо собственной фантазии”.
С середины 1960-х годов Лэйнг начинает появляться в популярной печати и на Британском телевидении, из простого психиатра он превращается в модную общественную фигуру, кумира британской молодежи. В 1967 г. он участвует в конгрессе, призванном объединить политиков левого крыла и представителей психоанализа, где произносит речь под названием “Очевидное”, позже опубликованную в сборнике материалов конгресса.
Лэйнг не предлагал уничтожить психиатров как класс, тем более, что сам он считал себя психиатром и психотерапевтом, однако он предпринял попытку создания радикально иной системы помощи душевнобольным. В 1965 г. в сотрудничестве с Аароном Эстерсоном и Дэвидом Купером он создает Кингсли Холл — экспериментальную общину для шизофреников. В основе идеи создания знаменитого “антигоспиталя” лежал опыт “шумной комнаты” Лэйнга, сообщества шизофреников и терапевтов “Вилла 21” Купера и киббуца для шизофреников в Израиле, который изучал Эстерсон. В Кингсли Холл вместе жили врачи и больные, впрочем, в их отношениях не должно было быть никакой иерархии, а потому никаких “врачей” и “больных”. Здесь шизофреникам предоставлялась возможность “пройти” через свой психоз, без подавления его лекарствами, шоковой терапией и т.п. средствами, при дружеской поддержке и опеке всей общины.
В 1960-е годы разработка представлений о психозе шла рука об руку с исследованием состояний, вызванных психоделическими веществами. Кроме того, тогда же одна за другой стали появляться книги воспоминаний людей, переживших психотический приступ. Такие понятия, как “путешествие” (trip), “опыт” (experience), “проводник” (guide), становятся ключевыми понятиями нового концептуального аппарата. На месте отсеченной головы старой идеологии, старой системы фантазии (рационалистической, психиатрической и т.п.) начинает вырастать новая (психоделическая, антипсихиатрическая, идеология “расширения сознания” и т.п.). С одним из главных идеологов, Тимоти Лири, Лэйнг встречался в 1964 г. в Нью-Йорке.
В те годы Лэйнг пишет о психотическом приступе как о путешествии по некоему внутреннему пространству, в которое человек попадает, когда выходит из внешнего социального пространства.
Совершив это путешествие, психотик, при благоприятном исходе, возвращается обратно, испытав экзистенциальное перерождение. Роль врача заменяется ролью проводника, умеющего ориентироваться во внутреннем пространстве. “Это должен быть человек, который сам прошел через это и которому ты доверяешь”, — писал Лэйнг. В Кингсли Холл бывшие “больные” часто становились проводниками для новичков.
Утопическая община просуществовала пять лет и в 1970 г. распалась, оставив, впрочем, после себя сеть дочерних сообществ, с которыми Лэйнг продолжал поддерживать связь до конца жизни. Коллеги обвиняли Лэйнга в недостатке серьезности и последовательности. Победивший революционер становится диктатором. Разрушитель системы фантазии неминуемо оказывается во главе новой, еще более жестокой. Лэйнг уходит, он ищет выход из тупика. С начала 1970-х годов он также перестает писать о психопатологии, опасаясь, что его идеи и методы могут быть использованы в тоталитарных целях. В экзистенциальном плане он, по сути, повторяет судьбу своих пациентов. Занятия терапией оборачиваются духовной проблемой.
В 1971 г. Лэйнг с семьей отправляется на Цейлон, где проводит два месяца, изучая медитацию в буддистской школе. Затем они перебираются в Индию, где Лэйнг изучает индуистскую аскетику и получает посвящение в культ индуистской богини Кали. Он изучает также санскрит и посещает буддистского ламу Говинда, который был гуру Тимоти Лири. В те годы многие деятели “революции шестидесятых” искали свой путь в буддизме. Буддизм — своего рода оборотная сторона бунта против общества, попытка неукрощенного “Я” совершить последний акт протеста, отказываясь от самого себя, преодолеть разрушительность личной воли через отказ от воли и от самой личности. Воля, направленная на уничтожение воли. Логика этого пути — экзистенциальный суицид. Самое поразительное, что все это Лэйнг описал еще в начале 1960-х годов в книгах, посвященных фантазии и шизофрении: “... Может наступить время, когда мы станем утверждать, что осознали: мы играли роль, притворялись перед самими собой, пытались убедить себя в том-то и том-то, но теперь мы должны признать, что нам это не удалось. И все же это осознание или признание легко может стать еще одной попыткой “выиграть” с помощью предельного притворства, еще раз изображая последнюю правду о себе самом, и таким образом уклониться от ее простого, честного, действительного понимания. Один из вариантов подобной “игры” — это упорное стремление сделать притворное реальным” (“Я” и другие”, 1961). И чуть позже: “Необходимо осознать, что ты в ловушке, и в каком-то смысле принять это, а не заниматься саморазрушением” (“Политика опыта”, 1964).
Через год Лэйнг возвращается в Лондон, а в конце 1972 г. совершает лекционный тур по Соединенным Штатам. В дальнейшем он также полагается на живое общение — лекции, семинары и т.п., предпочитая его тексту, в большей мере подверженному произвольному толкованию. В Соединенных Штатах Лэйнг встречается с Элизабет Фехр, психотерапевтом, использующим в своей практике “ребефинг-психодраму”, то есть психодраматическую процедуру нового рождения. Лэйнг перенимает у нее эту технику и в 1973 г. начинает проводить регулярные сеансы “ребефинга”. В основе различных вариантов “ребефинга” лежит давно известная гипнотизерам, а еще раньше жрецам и шаманам, идея о том, что в измененном (не бодрствующем) состоянии сознания возможно до некоторой степени перекомпоновать психическую структуру человека. Другими словами, убрать некоторые симптомы, заменить их другими и т.п. Здесь есть также созвучие с мировоззрением буддизма: несущественность личного начала в человеке, сведение всего к игре, условности, смене масок. Мир безумен, говорит Лэйнг, а потому незачем ломать копья.
Вспоминается эпизод, который произошел на одной из его последних лекций в Калифорнии. В городе, где он читал лекцию, была известная всем городская сумасшедшая. Время от времени, когда она устраивала на улице какую-нибудь особенно драматическую сцену, ее забирали в больницу, а потом опять выпускали. Как раз во время чтения лекции произошел очередной эксцесс, и кто-то из слушателей-коллег попросил вместо больницы доставить ее прямо к Лэйнгу. Он уединился с этой женщиной минут на двадцать, затем они вернулись в зал и вместе продолжили чтение лекции. Женщина вела себя совершенно адекватно ситуации. Все происходящее как бы подчеркивало, что читать лекцию о психотерапии не менее безумное занятие, чем кривляться перед прохожими на улице. Или наоборот, кривляться перед прохожими — не более безумно, чем читать лекцию.
В 1970-е годы Лэйнг публикует ряд книг: “Узлы”* (1971) — своего рода драматургию “узловых” отношений, текст, представляющий собой сплошные монологи, диалоги и “внутреннюю речь”, через которые выявляется структура “узла”; “Ты и вправду меня любишь?” (1976), “Факты жизни” (1976), “Разговоры с детьми” или “Разговоры с Адамом и Наташей” (1978).
В 1985 г. выходит его автобиографическая книга “Мудрость, безумие и безрассудство”. В этом же году его портрет появляется в Национальной портретной галерее Шотландии.
Рональд Лэйнг скончался от сердечного приступа во время теннисной партии, отдыхая на французском курорте Сан-Тропез, в августе 1989 г.
Елена Загородная
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ*
Эта книга была подвергнута значительной переработке, но сохранила без изменений свою основу. Она была и остается попыткой увязать опыт и поведение в рамках одной непротиворечивой теории — так, как они сплетены в реальной жизни. Склонность теории расщеплять их не исчезла с того времени, как была написана эта книга. Мне хотелось бы видеть ее стоящей в одном ряду с теми сравнительно немногочисленными попытками последних лет, которые направлены на понимание отношений между людьми на языке личности.
Я надеюсь, что искушенный читатель не будет смущен моим специфически узким использованием термина “фантазия”. Понадобилось бы еще одно исследование, чтобы дать обзор различных способов употребления этого термина в западной мысли, и даже различного его применения внутри самого психоанализа. То, как понятие бессознательной фантазии использовал Фрейд, было критически рассмотрено Лапланшем и Понталисом (1964, 1968).
Для разрешения некоторых недоумений, в которые ставит нас понятие “бессознательная фантазия”, в ход может быть пущена “теория картографирования”. Я недавно в общих чертах описывал, как это может быть сделано (Laing, 1969).
Коротко говоря, если я проецирую элемент х из группы А на элемент у из группы В, и если мы называем операцию проецирования q, то у — это будет образ или подобие х под знаком q. Операция q — это функция, посредством которой у приобретает q-значение х. Джонни — вылитый дедушка. Пучок отношений может быть картографирован на другой пучок отношений, а элементы из одного пучка могут быть картографированы друг на друга. Здесь не место все это разбирать, но, наверное, нужно просто дать указание, что эта формула кажется мне вносящей какую-то ясность в двоякое употребление слова “фантазия”: так называемое “содержание” фантазии и фантазия как “функция”. Как функция фантазия может рассматриваться в качестве операции картографирования, с какого-либо исходного опыта на какой-либо спектр опыта. Мне даже кажется возможным представить картографирование на опыт стремлений (инстинктов), не испытываемых в самих себе, так сказать, так что спектр опыта, картографированный таким образом, приобретает (фантазийное) q-значение; а также представить, что сам человек может не признавать, что этот спектр его опыта приобрел подобное q-значение, обычно называемое бессознательным “содержанием” фантазии.
Р.Д.Л.
Лондон, май 1969
Выход наружу — через дверь.
Почему никто не воспользуется
этим способом?
Конфуций
Часть I
МОДАЛЬНОСТИ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОПЫТА
Глава 1
Фантазия и переживание
Если не вдаваться в тонкости, мы говорим о действиях и переживаниях “в воспоминании”, “во сне”, “в воображении” и “в реальности”. Некоторые психоаналитики полагают, что мы можем также говорить о переживаниях “в бессознательных фантазиях”. Но является ли бессознательная фантазия одной из модальностей опыта? Если да, то с некоторыми оговорками. Если нет, то что она, если не плод воображения?
Психоаналитический тезис может быть сформулирован следующим образом: невозможно доказать существование бессознательной фантазии человеку, погруженному в нее. Бессознательная фантазия может быть опознана как фантазия только после того, как человек освободится от нее. Такой способ ее полагания, как, впрочем, и все другие, с трудом поддается проверке на правильность. Ситуацию не улучшает и тот факт, что концепция бессознательной фантазии практически не исследовалась с экзистенциальной и феноменологической точки зрения. И все же ни одно глубокое описание человеческих отношений не может ее игнорировать.
Статья Сьюзен Айзекс (1952) “Природа и функция фантазии” дает удобную отправную точку. Я решил начать с этого варианта психоаналитической теории фантазии, потому что он остается влиятельным и в своем роде непревзойденным, а также потому, что Айзекс, как представляется, рассматривает фантазию в том числе и как модальность опыта или переживания.
I
Айзекс заявляет, что ее “в основном интересует определение фантазии”, другими словами, описание набора фактов, которые употребление термина помогает нам идентифицировать, организовать и соотнести с другими значимыми фактами.
Она обобщает свои положения следующим образом:
1. В психоаналитической мысли понятие “фантазии” имеет широкое толкование. Существует необходимость прояснить его и четко задать границы пространства, в котором можно было бы собрать воедино все относящиеся к делу факты.
2. По разработанным здесь представлениям:
а) Фантазии составляют первичное содержание бессознательных психических процессов.
б) Бессознательные фантазии в первую очередь касаются тела и представляют инстинктивные стремления к объектам.
в) Таковые фантазии прежде всего представляют собой психические проявления либидинозных и деструктивных инстинктов. В раннем развитии они, кроме того, используются в качестве защиты, так же как “исполнение желания” и тревога.
г) Постулированное Фрейдом “галлюцинаторное исполнение желания”, а также его “первичная идентификация”, “интроекция” и “проекция” являются основой существования фантазий.
д) Пройдя через внешний опыт, фантазии становятся развитыми и выразительными, но их существование не зависит от этого опыта.
е) Фантазии не зависят от слов, хотя при определенных условиях они могут выражаться в словах.
ж) Самые ранние фантазии переживаются как ощущения, позднее они приобретают форму пластических образов и драматических представлений.
з) Фантазии имеют как психические, так и телесные следствия, например, конверсия симптомов, телесные качества, характер и личность, невротические симптомы, подавления и сублимации.
и) Бессознательные фантазии формируют рабочую связь между инстинктами и эго-механизмом. При детальном исследовании каждая разновидность эго-механизма может быть представлена как возникшая из определенного вида фантазии, которая в конечном счете имеет своим источником инстинктивные импульсы. “Эго есть дифференцированная часть Ид”. “Механизм” есть обобщенный термин, описывающий определенные психические процессы, которые переживаются субъектом как бессознательные фантазии.
к) Адаптация к реальности требует опоры в соответствующих бессознательных фантазиях. Наблюдение над тем, как развивается знание о внешнем мире, показывает, какой вклад вносит фантазия ребенка в его обучение.
л) Бессознательные фантазии в течение всей жизни оказывают постоянное влияние как на нормальных людей, так и на невротиков; различия состоят в особом характере доминирующих фантазий, страстное желание или тревога тесно связаны с ними и их взаимодействием между собой и с внешней реальностью”.
Термин “фантазия” здесь был призван указывать на определенный набор фактов. Какова сфера обитания этого набора фактов? Есть ли это факты опыта? Моего опыта? Или твоего опыта? Моего восприятия тебя, но не твоего восприятия себя? Может быть, это не факты моего опыта, а факты, выведенные из моего опыта? Выведенные мной обо мне? Или мной о тебе? Находится ли их сфера где-нибудь в переживании “я” и “другого”, или она лежит вне всякого переживания, в системе выводов из него? Фантазии переживаются как драматические представления. Что это значит? Могут ли драматические представления переживаться как фантазия? Чья и кем?
Статья Айзекс главным образом имеет дело с выводами или умозаключениями “я” по поводу “другого”. По моему опыту, “я” не испытывает опыт “другого” непосредственно. Доступные для “я” факты, касающиеся “другого”, — это действия “другого”, переживаемые “я”.
С точки зрения “я”, наблюдающего “другого”, Айзекс заключает из своего переживания действий другого определенные вещи о его переживании.
Взрослый делает выводы о том, что испытывает ребенок. Сам ребенок нам об этом не говорит. Взрослый заключает из поведения ребенка, что переживание ребенком ситуации находится в общем пространстве с переживанием взрослого и что ребенок тем или иным образом по сравнению со взрослым переживает “ту же” ситуацию.
Айзекс подчеркивает: “Наши взгляды на фантазии в раннем возрасте полностью базируются на умозаключениях, но это так для любого возраста. Бессознательные фантазии всегда лишь выводимы, а не наблюдаемы как таковые; техника психоанализа в целом в большой мере базируется на таких умозаключениях”.
Чтобы быть последовательными, у нас, кажется, нет другого выбора, кроме как утверждать, что знание “я” о переживании “другого”, сознательном или бессознательном, независимо от возраста “я” или “другого”, всецело базируется на выводе или умозаключении, как подчеркивает Айзекс абзацем выше по поводу бессознательной фантазии. Согласно Айзекс, фантазии — это “внутренние”, “ментальные” события, только свои собственные фантазии прямо и непосредственно доступны для “я”. “Другой” же может получить о них представление только в результате определенных умозаключений. Мысль о том, что “разум”, “бессознательное” или “фантазия” локализованы внутри человека и в этом смысле недостижимы для другого, имеет далеко идущие последствия для всей психоаналитической теории и практики.
Айзекс, высказываясь не просто о воображении, грезах или мечтах, но о “бессознательной фантазии”, из своей позиции “я”, в паре “я” — “другой”, совершает два рода выводов или умозаключений: она заключает нечто об опыте другого и о том, что это есть нечто, которое этот другой не осознает. По всей видимости, это означает, что существует целая разновидность опыта, а также определенное “содержание” опыта, о которых другой, тот, который “обладает” этим вмененным ему опытом, не знает или может не знать ничего. Если исходить из этих посылок, предложенных Айзекс, то подтверждение выводов “я” прямым свидетельством другого не обязательно для принятия этих выводов.
Когда “я” принадлежит аналитику, а “другой” — это анализируемый, тот, кто вещает от “первого лица”, утверждает:
“Личность, установки и интенции, даже внешние характеристики и пол аналитика, как они видятся и переживаются пациентом внутренне, меняются день ото дня (и даже от момента к моменту) в соответствии с изменениями во внутренней жизни пациента (привнесены ли они комментариями аналитика или внешними событиями). Можно сказать, что отношение пациента к аналитику почти всецело является бессознательной фантазией”.
“Первое лицо” заключает из поведения другого, что поведение другого обладает “смыслом”, к которому другой слеп и в этом отношении другой не может “видеть” или “понимать”, что означают его (другого) действия.
Аналитик затем говорит: “Пациент находится под влиянием “бессознательной фантазии”.
Давайте различим два случая употребления термина “бессознательный”. Во-первых, этот термин может относиться к динамическим структурам, функциям, механизмам, процессам, которые призваны объяснять человеческие действия или переживания. Такие структуры, функции, механизмы или процессы — внешние по отношению к опыту, но используются для “объяснения” опыта, называют ли его сознательным или же бессознательным. Представления этого рода лежат за пределами опыта, но исходной их точкой являются заключения об опыте. Если эти заключения неверны, то все, что основано на них, является полностью ошибочным.
Во втором случае “бессознательный” может означать, что использующий этот термин утверждает, что он или другой не осознает части своего собственного опыта, несмотря на явную абсурдность этого утверждения.
Возникает вопрос: в каком отношении “бессознательная фантазия” находится к опыту в рассуждениях Айзекс? Она вновь и вновь подчеркивает, что бессознательная фантазия есть опыт:
“Механизм — это обобщенный термин, описывающий определенные ментальные процессы, которые переживаются субъектом как бессознательные фантазии” (курсив мой — РДЛ).
И:
“Фантазия — это в первую очередь ментальная верхушка, психическое представительство инстинкта. Не существует импульса, инстинктивного побуждения или реакции, которые не переживались бы как бессознательная фантазия” (курсив мой — РДЛ).
“На основе тех принципов наблюдения и интерпретации, которые хорошо разработаны психоаналитической практикой и уже были описаны, мы можем сделать вывод, что когда ребенок проявляет стремление к материнской груди, он переживает это стремление как специфическую фантазию: “Я хочу сосать сосок”. Если желание очень интенсивно (предположим, за счет тревоги), он чувствует нечто вроде: “Я хочу проглотить ее целиком”.
Для Айзекс бессознательная фантазия есть способ переживания наших страстей, который действует на протяжении всей нашей жизни в отношениях между нами и другими людьми.
II
Есть ли противоречие внутри термина “бессознательный опыт”? Опыт человека включает в себя все, по поводу чего “он” или “некая часть его” отдает себе отчет, неважно, осознает ли “он” или каждая из его частей каждый уровень его осознания. Опыт его является внутренним или внешним; касающимся его собственного тела или тела другого человека; реальным или нереальным; частным или общим с кем-то еще. Психоаналитическое содержание заключается в том, что наши желания открывают себя в нашем опыте, но мы не можем распознать их. Это единственный смысл, в котором мы бессознательны по отношению к нашему опыту. Мы неправильно истолковываем его.
Но даже если мы найдем некую формулу для того, чтобы исключить использование “бессознательного”, чтобы квалифицировать опыт непосредственно, существуют некоторые моменты в статье Айзекс, являющие собой то, что кажется практически неразрешимым. Они проходят через все представления Айзекс и через всю психоаналитическую теорию в целом.
Вот их кристаллизация в следующем пассаже:
“В сопоставлении с внешней и телесной реальностями фантазия, как и любая другая ментальная деятельность, есть вымысел, так как ее нельзя потрогать, повертеть в руках или увидеть; однако при этом она является реальной в переживании субъекта. Это есть существующая на самом деле психическая функция, и у нее есть реальные следствия не только во внутреннем мире психического, но также и во внешнем мире телесного развития и поведения субъекта, а следовательно, психического и телесного других людей”.
Фантазия “реальна в переживании субъекта”. Она также является “вымыслом, так как ее нельзя потрогать руками и увидеть”. Понятие указывает одновременно на “реальный” опыт, относительно которого субъект бессознателен, и ментальную функцию, которая обладает “реальными” следствиями. Эти реальные следствия есть реальный опыт. Фантазия представляется теперь причиной самой себя, как следствие, и следствием самой себя, как причина. Возможно, здесь мы оказываемся на пороге прозрения, ускользавшего от нас благодаря той путанице, в которую завели нас некоторые наши теоретические различения.
Один из источников неразберихи — это особая дихотомическая схема, в форму которой отлита вся теория в целом. Эта особая схема порождает разделение между “внутренним миром психического”, с одной стороны, и “внешним миром телесного развития и поведения субъекта, а следовательно, психического и телесного других людей”, с другой.
Это противопоставление производит, как в статье Айзекс, так и во многих психоаналитических работах, два находящихся в оппозиции друг к другу пучка понятий:
внутренний в противоположность внешнему
ментальный в противоположность физическому
ментальная в противоположность внешней и телесной деятельность реальности
вымысел в противоположность тому, что можно потрогать руками и увидеть
психическая в противоположность физической
реальность реальности
внутренний мир в противоположность внешнему миру
психического телесного развития
субъекта, а следова-
тельно, психического
и телесного других
людей
ум в противоположность телу
В рамках этого набора различений мы должны полагать, что фантазия начинается в левой части, как внутренняя ментальная деятельность и т.д., и переходит каким-то образом в правую часть. Несмотря на странность ситуации, в которой мы при этом оказываемся, нам придется предположить, что переживание фантазии происходит только в правой части. Ведь нам было сказано, что она переживается в рамках внешней и телесной реальности, как собственного тела, так и тел других людей.
Понятия, подобные конверсии, — сдвиг от психического к телесному; проекции — сдвиг от внутреннего к внешнему, интроекции — сдвиг от внешнего к внутреннему, — сидят между двух стульев над бездной этого теоретического разлома. Вместо описания фактов опыта они используются для объяснения артефактов теории. Двойные ряды, а тем более эти перемещения между ними не принадлежат к тому набору фактов, который Айзекс намеревается описывать. Случается, что человек переживает себя в терминах этого набора противопоставлений. Он “чувствует”, что его “ум” содержит в себе “содержания”, он заявляет, что его “тело” является “внешним” по отношению к его “уму”. Как бы странно это ни звучало, но мы допускаем, что он не лжет и тщательно выбирает выражения. Однако совсем другое дело — брать подобную форму расщепления “я” в качестве своего теоретического отправного пункта.
Фантазию также можно вообразить происходящей “в уме”. Но позволительно спросить, почему мы должны мыслить ее таким образом, без того, чтобы не попробовать покончить с самой воображаемой проблемой.
Если с самого начала не принимать такую дихотомию внутренне-ментального и внешне-физического или же отказаться от нее, то становятся видны другие проблемы. Это не те же самые проблемы, облеченные в другие слова. Истинная проблема состоит в том, чтобы позволить проблемам возникнуть. А они смогут возникнуть, когда феномен1 не будет больше замаскирован ложными проблемами.
III
Метапсихология должна начинаться с опыта, но редко бывает понятно, с чьего опыта и какого опыта.
Психоаналитики часто применяют термин “реальность” к тому, что делает опыт проверяемым. Но он используется и в других самых разных случаях и может относиться, например, (1) к тому, что дает опыту повод возникнуть; (2) к специфическому качеству, которым обладает некоторый опыт и не обладают другие; и уж совсем некорректно — (3) ко всему, что обладает “общепринятым смыслом” или принимается за таковое психоаналитиком. Реальность как таковая оказывается помещенной в анклавы “психической” реальности, “физической” реальности, “внутренней” реальности, “внешней” реальности, “субъективной” реальности, “объективной” реальности.
Полезно было бы различить качество и модальность опыта. Сон есть модальность опыта, которую бодрствующий человек отличает от бодрствующего восприятия по ряду критериев. Сон, воображение и бодрствующее восприятие — различные модальности опыта. “Реальность” во втором смысле из перечисленных выше может быть качеством, привязанным в том или ином случае к любой из этих модальностей.
“Внутренняя” и “внешняя” могут использоваться для отсылки к “реальности” в первом смысле. О “внутренней реальности” может говориться, что она дала толчок внешнему опыту (или внутреннему опыту), а также наоборот. В каждом случае “реальность”, которая порождает опыт, может расцениваться как “внутренняя” или “внешняя” по отношению к предполагаемой границе “я” или “другого”. “Внутреннее” иногда является синонимом “психического” или “субъективного” в противоположность “внешнему”, “физическому” или “объективному”. “Внутреннее” и “внешнее” могут также использоваться для различения между сном и бодрствованием или “воображаемыми” и “реальными” событиями, где разница заключается в модальностях опыта.
“Ум” часто используют для обозначения реальности, внешней по отношению к опыту, из которой опыт проистекает. Так, Джек допускает, что Джилл испытывает странные телесные ощущения, но считает, что они происходят “от головы”. Это “психогенные” ощущения, а Джилл — “истеричка”. Если тело относится, как у Айзекс, к “внешней реальности”, “внешней” по отношению к “уму”, — то Джек извлекает на свет Божий “конверсию” для того, чтобы объяснить, как “событие” “в уме” Джилл переживается ею не “в уме”, а “в теле” и, соответственно, “во внешней” или “физической” “реальности”2.
Используемые таким образом понятия конверсии, проекции, интроекции и им подобные не описывают того, что действительно происходит в чьем бы то ни было опыте. Как “механизмы”, призванные быть “объяснением” переживания, они не могут ничего сообщить о самом переживании, которое они должны “объяснять”. Как механизмы, обслуживающие перевозки между внутренней и внешней реальностями, они работают в пространстве между различениями, рассмотренными нами выше, — физическим и психическим, внутренним и внешним, умом и телом. При таком употреблении они ничего не описывают, ничего не объясняют и сами по себе необъяснимы. Телесное переживание называется “ментальным событием”, но “внешним по отношению к уму”. Для объяснения самой себя теория начинает с нефеноменологических постулатов, маскирующихся под атрибуции опыта, и делает виток к постулатам, призванным “объяснять”, как то, что находится “в уме”, переживается “вне ума”, “в теле”.
Джек приписывает Джилл опыт, а также приписывает ей его бессознательность. Джилл соглашается, что она ничего не знает о нем. С точки зрения метапсихологии, Джек теперь пытается “объяснить” не столько ту конструкцию, которую он построил из данных, непосредственно доступных ему, но скорее свое собственное толкование того, что никогда не было данным. Как только Джек делает вывод, что Джилл “обладает” переживаниями, прошлыми или настоящими, к которым она бессознательна, он делает роковой шаг за пределы своего собственного переживания Джилл, а также за пределы переживания Джилл самой себя или Джека. У Джека нет никакой гарантии, что по ту сторону своего опыта и опыта Джилл он не окажется прямиком в зазеркалье, в своей собственной проекции.
Мне кажется, большинство взрослых европейцев и североамериканцев подписались бы под следующим утверждением: переживание другого человека не подлежит прямому и непосредственному переживанию “я”. В настоящий момент неважно, является ли это неизбежным, так ли это для каких-либо других мест на планете и было ли это всегда. Но если мы согласны с тем, что ты не можешь испытывать мои переживания, мы признаем, что полагаемся на то, что мы сообщаем друг другу, как на ключи к разгадке того, как и что мы думаем, чувствуем, представляем себе и тому подобное. Все усложняется, если ты говоришь мне, что я испытываю что-то, чего я не испытываю. Если только я правильно понимаю, что ты имеешь в виду под бессознательным опытом.
Насколько я знаю, в естественных науках не существует подобного круга теоретических и практических проблем. Ученые-естественники не посягают на то, чтобы делать выводы, каким образом anima mundi переживает их вторжение в природный процесс. Но даже этим ученым известно, что люди переживают друг друга. Похоже, лишь некоторые психологи не знают об этом.
Продолжение этой линии — приписывание другому опыта, относительно которого другой бессознателен. Было бы преждевременным говорить об уже существующем систематическом методе исследования пространства взаимного опыта, оставляя в стороне феноменологию самого такого метода.
Мы постоянно приписываем друг другу мотивы, действующие силы, интенции и переживания. Изучение того, кто, что и кому приписывает, а также когда, почему и как приписывает, есть само по себе целая наука. В добавление к этому кругу проблем, способных поглотить без остатка не одну человеческую жизнь, существуют вопросы, обращенные непосредственно к логике достоверного вывода в такого рода предполагаемой науке о том, что творится между человеком и человеком.
Науке о личностных отношениях никак не способствует тот факт, что лишь незначительное число психологов озабочено поиском надежных личностных методов, посредством которых личности и отношения между личностями могли бы изучаться личностями. Многим психологам кажется, что если психология не является отраслью естественных наук, то она вообще не наука.
Здесь следует возразить. Ведь если я хочу узнать тебя, то вряд ли добьюсь успеха, если поведу себя так, как будто бы изучаю морских свинок или крыс. У тебя не возникнет желания раскрыться передо мной. Я могу изучать при этом все что угодно, но я не буду изучать тебя, если ты для меня закрыт. Если ты опытный притворщик, то с полным основанием можешь быть уверен, что я не много узнаю о тебе по одному твоему поведению, как бы тщательно и скрупулезно я его ни исследовал. Если кто-либо говорит, что все, что его интересует, — это изучение “простого”, “голого” поведения, то значит, он не занимается изучением личностей. Однако ныне многие психологи, в сущности, полагают, что делать научным путем это и невозможно.
Невозможно взять базовую логику науки о личностных отношениях в качестве производной от логики не-личностных наук. Ни одна из естественных дисциплин не требует совершения той особой разновидности вывода, которая необходима в науке о людях.
Один человек, исследующий опыт другого, может непосредственно знать только лишь свое собственное переживание этого другого. Он не может обладать непосредственным знанием о том, что другой испытывает относительно “того же самого” мира. Он не может видеть глазами другого и слышать ушами другого. Единственным настоящим путешествием, как когда-то отметил Пруст, было бы не колесить через сто стран с одной единственной парой глаз, а увидеть одну и ту же страну сотней разных пар глаз. Все, что он “чувствует”, “ощущает”, “чует” относительно другого, есть привязка того вывода, который он делает на основе своего собственного переживания другого, к переживанию другим его самого. Это предполагает, что действия другого, каким-то образом, есть функция переживания другого, как это мне известно по себе самому. Только на основе этого предположения, как бы его ни расценивать, один человек, исходя из своего видения действий другого, может рискнуть сделать заключение о переживании другого.
Заключения, которые один человек делает относительно переживания другого, исходя из своего прямого и непосредственного восприятия действий другого, есть первая категория актов атрибуции3. Ни в какой другой науке нельзя позаимствовать адекватный критерий достоверности такого рода личностных атрибуций.
Слишком многих, если не всех аналитиков выбрасывают обратно вращающиеся двери на пороге царства феноменологии, а вторая попытка прорваться уносит оставшихся прочь от всякой науки. За простой атрибуцией мотива, действующего фактора, интенции, переживаний, которые клиент не признает, громоздятся странные напластования сил, энергий, динамических механизмов, процессов, структур для объяснения “бессознательного”. Психоаналитические представления этого вдвойне химерического порядка включают концепции психических структур, экономии, динамизмов, инстинктов смерти и жизни, интернализированных объектов4 и т.д. Они постулированы как упорядочивающие принципы, определяющие или базовые силы, определяющий или базовый опыт, которым, как думает Джек, обладает Джилл, не зная, что она им обладает, как заключил Джек из его переживания поведения Джилл. Между тем, что же есть Джеково переживание Джилл, переживание Джилл самой себя или переживание Джилл Джека?
Ситуация, как правило, еще хуже, потому что часто неясно даже, что является опытом, а что нет, и что для объяснения чего предназначено. Воображаемый опыт объясняется процессами, которые сами по себе являются вдвойне воображаемыми.
Джилл может соглашаться или нет, что она переживает себя, Джека или ситуацию, или действует таким образом, какой приписывает ей он. Но Джек опережает ее. В его заключениях речь часто идет не о том даже, как Джилл видит себя, как Джилл видит Джека или как Джилл видит ситуацию, которую она разделяет с Джеком.
И тем не менее вся психоаналитическая теория опирается на достоверность подобных заключений; и если они неверны, то все, что на них построено, теряет свой raison d’etre5. Я не хочу внушить мысль, что психоанализ заканчивается на этом уровне заключения. Я говорю, что до тех пор, пока он там начинается, он никогда не сдвинется с мертвой точки.
Я не пользуюсь термином “бессознательный опыт”, поскольку не способен удовлетворительно разрешить для себя противоречие между двумя этими словами. Я понимаю, что затруднение могло бы быть, вероятно, разрешено более тщательным определением того, что такое “бессознательное” и что такое “опыт”, но, избавляясь от этого затруднения, недолго вместе с водой выплеснуть и ребенка.
Опыт, как я намерен употреблять этот термин, не существует без испытывающего. Испытывающий не существует без опыта. Тем не менее одно и то же человеческое существо испытывает разные вещи по-разному, в разное время и даже в одно и то же время.
В какой-то один момент Питер находится в обществе Пола
представляет или воображает
Питер ——> слышит
видит
и понимает Пола,
вспоминает который говорит с ним
Давайте назовем Питера представляющего — Ппрд,
Питера вспоминающего — Пвпм,
Питера воспринимающего — Пвпр.
Питер в одно время включает в себя Ппрд, Пвпм, Пвпр.
Ппрд переживает в воображении или представлении;
Пвпм переживает в памяти;
Пвпр переживает в восприятии.
Воображение, память, восприятие есть три модальности опыта.
Полностью весь Питер не находится в коммуникации с Полом.
Часть Питера, коммуницирующая с Полом, может даже не знать о существовании Ппрд и Пвпм. Часть Питера, коммуницирующая с Полом, может знать, что “он”, Ппрд, нечто представляет себе, но быть при этом не в состоянии сказать, что же именно.
В этом случае я был бы готов сказать, не вдаваясь в тонкости, что Питер расщеплен. Он в данный момент бессознателен относительно своего воображения. Часть Питера, коммуницирующая с Полом, бессознательна к тому, что происходит в его воображении. Питер недостаточно хорошо коммуницирует с самим собой.
Часом позже находим Питера с Джилл.
воображение воображение
Питер <—— ——> Пол Питер <—— ——> Джилл
память память
Время А —————Время————>Время В
час назад настоящее
Часть Питера, коммуницирующая с Джилл, может помнить, что когда он был так утомлен этим ужасным разговором с Полом, ее мужем, то представлял себе, каково было бы заняться с ней любовью, когда он смог бы освободиться от Пола, и вспоминал, как они делали это в последний раз. Он может даже помнить, когда он находится с Джилл, что голова его как будто пустеет, когда он находится с Полом; но, как это ни удивительно, теперь, с Джилл, он не способен припомнить, что же Пол говорил ему.
Некоторые люди, похоже, обладают “особым внушением”, так что в их присутствии другие как будто бы обретают способность помнить то, что они так часто забывают, и, представляя себе нечто, как будто бы знают, что они воображают и что именно они воображают.
Стоит только залатать расщепленность в настоящем, и память всегда до какой-то степени открывается. Ибо, начиная осознавать свою память в настоящем, мы вспоминаем, скажем, прошлый раз, когда мы думали об этом, который был, когда мы представляли себе то, когда мы были с тем-то и так далее и тому подобное. Но беда в том, что когда одни двери открываются, закрываются другие.
“Бессознательное” — это то, что нами не сообщается самим себе или кому-нибудь другому. Мы можем каким-то образом передать нечто другому, без того, чтобы сообщить это самим себе. Нечто о Питере, очевидное для Пола, не очевидно для Питера. Это единственный смысл фразы “Питер бессознателен к ...”
Глава 2
Фантазия и коммуникация
Нам свойственно тем или иным образом проводить различия внутри опыта. Вот некоторые самые распространенные различения: внутренний и внешний, реальный и нереальный, насыщенный и пустой, важный, бессмысленный, частный, публичный, совместный. Есть различения во времени между прошлым и настоящим, “здесь и теперь” и “там и тогда”. Большинство из нас расценивает часть того целого, что мы переживаем в некое время, в некоем месте, как “я”, а остальное — как “не-я”. Мы также категоризируем опыт по его модальности: память, воображение, сон, бодрствующее восприятие и т.д.
В предыдущем абзаце и во всей остальной главе я намерен лишь указать некоторые пути использования подобных терминов и выражений и заострить дискуссию по поводу психоаналитической концепции “фантазии” и “бессознательного опыта”.
“Я” в последующих абзацах — это гипотетические “я”, к части из которых могли бы присоединиться некоторые из нас.
Я мыслю себя находящимся внутри моего тела и в то же время внутреннее пространство моего тела считаю каким-то образом находящимся “внутри” моего личного, интимного пространства. Если кто-либо зайдет в мою комнату без спроса, он не заставит меня испытать такую досаду, как если бы он вторгся в мое тело без моего позволения. Однако, коль скоро я нахожусь внутри моего тела, мое тело в каком-то странном смысле — снаружи меня.
Телесные чувства обычно ощущаются как реальные. Физическая боль в высшей степени реальна. Люди редко переживают какое-либо ощущение, которое они принимают за физическое, как нереальное, хотя некоторые из них имеют привычку называть боль, которую чувствую я, “твое воображение”, если они думают, что у меня нет достаточных оснований для того, чтобы испытывать боль. Встречаются также люди, которые не ощущают свое тело как реальное, и это достаточное основание в нашей культуре, чтобы считать их психически нездоровыми.
Я встречал и людей, которые были готовы назвать реальной боль, ощущаемую ими самими “в воображении”, хотя такие случаи, похоже, редки.
Человеческое тело имеет тройственную позицию в личном пространстве человека, в то время как все другие объекты внешни для всех людей. Обычно предполагается, что 1) к телу другого в некоторых отношениях можно быть сопричастным, 2) что это также публичное явление, существующее для всех, за исключением него (как объект, внешний для всех остальных) и 3) что тело другого является его частным опытом.
Наша культура, позволяя определенные маргинальные вольности, тем не менее со всей своей силой обрушивается на людей, которые не проводят разграничительной черты между внутренним/внешним, реальным/нереальным, я/не-я, частным/публичным там, где считается здоровым, правильным и нормальным ее проводить1.
Галлюцинаторный голос можно считать внутренним или внешним; реальным или нереальным; частным моим опытом, если у меня нет оснований думать, что кто-либо еще способен слышать его, или общедоступным, если я думаю, что и другие способны. Нереальный не является синонимом воображаемого. Свое воображение положено держать при себе. Окружающие скорее всего подумают, что со мной что-то не так, если я посчитаю, что то, что я “воображаю”, происходит вне моей “головы”, особенно если я называю это моим воображением и воображаю, что другие не воображают того же самого. Если хотя бы два человека разделяют подобные переживания, они начинают склоняться к тому, чтобы считать их реальными. Остальные, те, кто не разделяют эти переживания, начинают склоняться к тому, чтобы считать тех, кто их разделяет, страдающими какой-то разновидностью массового психоза.
Я считаю многие телесные ощущения принадлежащими к сфере исключительно частного опыта. Если у меня на руке ожог, я считаю боль от ожога сугубо личным переживанием, а то, как он выглядит, — общедоступным. Но это не всегда так. Есть люди, которые ощущают, что они могут действительно чувствовать боль другого или думать — непосредственно — мысли другого. Они могут также ощущать, что другие люди способны чувствовать их телесные ощущения или даже думать их мысли.
Мое тело, как я переживаю его, не только допускает сопричастность или публичность, но и является соединением исключительно интимных событий, а именно — телом-для-себя-самого. Тело-для-себя-самого предстает в снах, воображении и воспоминаниях. В любой из этих модальностей оно может переживаться живым или мертвым, реальным или нереальным, целостным или раздробленным. С точки зрения рефлексивного сознания, которое расценивается как здравое и нормальное, собственное тело-для-себя есть, по сути своей, приватный опыт, а тело-для-себя другого по определению недоступно. В фантазии2, однако, это не обязательно так. Невозможность третейского суда в данном вопросе, который мог бы, по общему согласию, вынести свое постановление, по-видимому, облегчает вторжение на чужую территорию посредством фантазии, не осознаваемой как таковая.
Поскольку каждый человек переживает любое событие по-своему, сколь бы публичным оно ни было, то переживание даже публичных, общедоступных событий вполне можно было бы назвать приватным или “частным” в определенном, условном смысле слова. Но мне кажется, большинство людей ощущают, что существует сфера опыта, которая является приватной в безусловном и безоговорочном смысле. Это та сфера безусловной сокровенности, о которой Джерард Мэнли Хопкинс говорит в следующих словах:
“...Мое само-бытие, мое сознание и чувство себя, этот вкус себя самого, вкус “я” и “меня” поверх и внутри всех вещей, который более отчетлив и различим, чем вкус эля или крепкой закваски, более неповторим, чем запах листвы грецкого ореха или камфоры, и непередаваем каким бы то ни было образом другому человеку”.
Мое само-бытие, мое сознание и чувство себя, этот вкус себя самого, вкус “я” и “меня” поверх и внутри всех вещей, включает мой вкус тебя. Я вкушаю тебя, и ты вкушаешь меня. Я — твой вкус, а ты — мой, но я не вкушаю твой вкус меня. Никто не может и быть всем и обладать всем в одно и то же время.
Трудно постичь само-бытие другого. Я не могу пережить его прямо и “в лоб”. Я должен опираться на действия и свидетельства другого, чтобы сделать заключение о том, как он переживает себя самое. Психиатр непосредственно включается в эту сферу, когда он прислушивается к свидетельству своих пациентов. По какому признаку перемены, происходящие в переживании человеком его само-бытия, его бытия-для-себя-самого, заставляют его определять самого себя как “больного”, физически или психически, и что приводит одного человека к решению, что само-бытие, бытие-для-себя-самого другого ненормально и нездорово?
Хопкинс эля и крепкой закваски, листвы грецкого ореха и камфары позже писал:
Я — горечь, я — горящая рана. Самое проникновенное
веление Бога
Горечью вкушать меня: мой вкус был мной;
Кости воздвигнуты во мне, плоти — в достатке, кровь
переполняет через край это проклятие.
“Я” — пена духа, тупая вязкая закваска. Я вижу
Таких же потерянных, и кара их — быть,
Как я сам для себя, их загнанным “я”, но хуже.
Тысячи людей приходят к психиатрам за “излечением” от гораздо меньшего, чем это. И после нескольких сеансов электрошока тысячи чувствуют себя “лучше”.
Хопкинс знал, что этот вкус эля или горечи был им. “Излечиться” от этого — вещь более сомнительная, чем любое другое излечение, если излечиться — это значит стать отчужденным от собственного само-бытия, потерять свое сущее “я”. Утрата переживания пространства безусловной приватности посредством превращения его в квазипубличную сферу часто является одной из решающих перемен, ассоциирующихся с процессом схождения с ума. Это не просто новая формулировка теории “потери границ Эго” (Laing, 1960). Ведь даже “мир”, хотя и “общий” для всех людей и в этом смысле “разделяемый”, вероятно, никогда не переживается двумя индивидуумами совершенно одним и тем же образом. Когда два человека смотрят на некий ландшафт и одному он нравится, а другому нет, — это уже пропасть между ними. Для одного человека ландшафт может быть просто сам по себе, полный своего “собственного существования”: он чувствует, возможно, легкую грусть своей инаковости по отношению ко всему этому. Другому “те же” деревья, небо и трава видятся как творение: как прозрачное покрывало, сквозь которое открывается их Творец. Для одного человека здесь может быть полное или почти полное отсутствие ощущения связи между ним и природой вне его; и для того же самого человека в другом случае может даже не быть существенной разницы между внутренним и внешним, “я” и природой.
Насколько мы переживаем мир по-разному, настолько мы, по существу, живем в разных мирах. “Мир полон людей, следующих сквозь все те же побуждения и те же обстоятельства, но несущих в своей глубине и распространяющих вокруг себя миры, столь же взаимно удаленные, сколь созвездия в небе” (Mounier, 1952). И в то же время Мир — мир вокруг меня, мир, в котором я живу, мой мир — есть в самой структуре, самой ткани своего образа бытия-для-меня, не исключительно мой мир, но и твой мир тоже, он окружает и тебя, и его, это общий мир, единственный мир — Мир.
Не существует обязательной корреляции между публичностью опыта, его реальностью и возможностью сопричастности к нему. Люди могут быть бесконечно одиноки в своем переживании самых публичных зрелищ; и более всего вместе в своей сопричастности к самым “реальным” и в то же время безусловно приватным событиям. Совместность переживания может быть признаком самой искренней и подлинной связи между двумя людьми или признаком самого низкого и презренного рабства. Фантазия может переживаться каждым из них по отдельности как нечто внутреннее или внешнее, приватное или публичное, разделяемое или неразделяемое, реальное или нереальное.
По иронии, нередко то, что я считаю самой что ни на есть публичной реальностью, оказывается тем, что другие считают моей самой интимной фантазией. А то, что я считаю моим самым интимным “внутренним” миром, оказывается тем, что я имею наиболее общего с другими человеческими существами.
Психоаналитик описывает свое переживание в определенные моменты групповой работы, когда он “чувствует, что им манипулируют, как будто бы он играет роль (неважно, можно ли определить, какую именно) в чьей-то чужой фантазии или готов это сделать за счет того, что задним числом можно назвать лишь временной потерей проникновения в ситуацию, ощущением переживания сильных эмоций и в то же время убежденностью, что их существование полностью оправдывается объективной ситуацией, не требуя обращения к более глубокому объяснению их происхождения” (Bion, 1955, курсив мой).
Этот эффект отчуждения подкрадывается незаметно. Мы все склонны втягиваться в социальные системы фантазии (Jaques, 1955) с потерей собственной идентичности в этом процессе и только ретроспективно осознаем, что это произошло. Бион продолжает: “Я уверен, что способность вытряхнуть “я” из цепенящего ощущения реальности, которое сопутствует этому состоянию, есть первое, что необходимо аналитику в группе...”.
Потеря собственного восприятия и собственных оценок, которая происходит вместе с занятием ложной позиции (вдвойне ложной в том смысле, что ее ложность не видна тому, кто ее занимает), “становится реальностью” только задним числом. Ложная позиция не обязательно полностью “безвыигрышная”3. Позже я собираюсь говорить о некоторых затруднениях при попытке занять безвыигрышную позицию или высвободиться из нее. Человек во вдвойне ложной позиции чувствует себя “подлинным”, “реальным”; не “ощущая” собственного оцепенения, он обездвижен и лишен собственных ощущений этим самым чувством “реальности”. Вытряхнуть “я” из ложного чувства реальности — значит навлечь дереализацию, которая ложно считается нереальностью. Только тогда у тебя есть возможность постичь систему социальной фантазии, в которой находишься. Нормальное состояние — это когда ты настолько погряз в своей погруженности в системы социальной фантазии, что принимаешь их за нечто реальное. Множество образов было использовано, чтобы напомнить нам об этом обстоятельстве. Мы мертвы, но думаем, что мы живы. Мы спим, но думаем, что мы бодрствуем. Мы грезим, но принимаем наши грезы за реальность. Мы — расслабленные, увечные, слепые, глухие, больные. Но мы больные вдвойне, мы дважды потеряли сознание. Наши дела так плохи, что мы больше не чувствуем себя больными, как это часто случается при смертельных заболеваниях. Мы безумны, но не догадываемся об этом.
Ошибка здесь скорее не в содержании, а в категории. Мы осознаем содержание опыта, но не отдаем себе отчета в том, что это иллюзия. Мы видим тени, но принимаем их за сущности. Близкая по смыслу ошибка категории — это смешение модальностей опыта. Мы с легкостью замечаем, когда другие впадают в подобное заблуждение, но совсем иное дело, когда это происходит с нами самими.
Мы можем видеть теперь, что любая дисциплина, провозглашающая себя “научной” в том смысле, в котором этот термин обычно используется в наши дни, и в то же время непосредственно связанная с категоризацией опыта и такими материями, как бессознательное и “бессознательная фантазия”, находится в очень большом и весьма характерном затруднении по поводу своего собственного критерия достоверности.
Нельзя рассчитывать на то, что твое впечатление, что другой вдвойне отчужден, будет подтверждено прямым свидетельством этого другого. Если бы другой мог согласиться с тобой, ты бы оказался неправ. Здесь легко можно занять позицию, что отказ или неспособность другого видеть мою правоту есть доказательство того, что я прав. Достоверно лишь то, что я мог бы оказаться частично неправ, если бы он все-таки согласился с тем, что я говорю, потому что тогда я ошибался бы, думая, что он неспособен видеть то, что, по моему мнению, могу видеть я. Можно пойти еще дальше и сказать: но он “реально”, “на самом деле” не понимает; это псевдоинсайт.
“Деперсонализация” может не переживаться как потеря каких-либо личностных атрибутов тем, кому аналитик приписывает деперсонализацию. Нужно всегда уточнять, когда сталкиваешься с употреблением этого термина, относится ли термин “деперсонализация” к состоянию, которое “я” приписывает самому “я”, или же это атрибуция, совершаемая по отношению к другому, идущая вразрез с самоатрибуцией другого.
Человек в отчужденной ложной позиции в системе социальной фантазии, который начинает частично догадываться о своем положении, может дать “психотическое” проявление своего частичного понимания действительной ситуации как фантазии, заявляя, что он подвергается воздействию ядов, которые ему подбрасывают в пищу, что у него отняли его мозги, что его действия контролируются извне и т.п. Мании подобного рода представляют собой частично достигнутую дереализацию — реализацию.
Все группы работают посредством фантазии. Тот тип опыта, который дает нам группа, есть одно из важнейших оснований, если (для некоторых людей) не единственное основание для того, чтобы находиться в группе. Что же люди хотят получить из опыта существования в определенном наборе человеческих коллективов?
Накрепко спаянные группы, которые возникают в некоторых семьях и других формированиях, держатся вместе потребностью обрести псевдореальный опыт, который возможен только в такой модальности опыта, как фантазия. Это значит, что семья переживается не как модальность фантазии, но как “реальность”4. Однако “реальность” в этом смысле является не модальностью, а качеством, которое способно накладываться на любую модальность.
Если член семьи обладает выигрышной позицией внутри системы семейной фантазии, импульс покинуть систему в том или ином смысле, похоже, приходит к нему только извне системы фантазии. Мы меняемся в своей готовности и в своем стремлении выйти наружу из систем бессознательной фантазии, которые мы считаем нашей реальностью. Пока мы находимся в очевидно выигрышной позиции, мы ищем любое основание, чтобы не допустить мысль, что мы существуем в ложном ощущении реальности и нереальности, защищенности или незащищенности, идентичности и отсутствия идентичности.
Ложное, социальное чувство реальности неотделимо от фантазии, неопознаваемой как таковая. Если Пол начинает пробуждаться от системы семейной фантазии, он может классифицироваться своей семьей только как сумасшедший или же негодяй, поскольку для них их фантазия есть реальность, а все, что не их фантазия — нереально. Если он свидетельствует в пользу некоего опыта, выходящего за пределы того, что кажется им реальным и истинным, это может говорить только о том, что он запутался в прискорбном сплетении выдумки и обмана, объясняя им, что то, что известно им как реальное и истинное, есть прискорбное сплетение выдумки и обмана, когда они объясняют ему, что то, что он знает как реальное и истинное (например: Бог наделил его особой миссией разоблачить то, что они принимают за реальное, как прискорбное сплетение выдумки и обмана, и для этой цели он разгуливал, не стыдясь, нагишом по главной улице города, и ему дела нет до того, что он позорит семью), есть прискорбное сплетение выдумки и обмана, от которого ему нужно лечиться.
Обычное состояние — это находиться в устойчивой и выигрышной позиции в системах фантазии узла5. Чаще всего такое состояние называется иметь “личность”. Мы никогда не понимаем, что находимся в этом. Мы никогда даже не помышляем о том, чтобы вырваться на свободу. А тех, кто пытается вырваться и говорит, что и нам следовало бы, мы терпим как неизбежное зло, наказываем или обходимся с ними как с безобидными больными или помешанными.
Человек может быть помещен в безвыигрышную позицию, заключающуюся в наборе несовместимых позиций. Когда его положение в системе социальной фантазии становится таковым, что он не может ни оставаться в своей собственной фантазии, ни покинуть ее, его позиция становится безвыигрышной.
То, что называется психотическим эпизодом у одного человека, часто может быть понято как особого рода кризис во взаимном опыте узла, так же как и в его поведении (см. Laing и Esterson, 1964; Laing, 1967).
Единственный путь, которым можно попробовать выбраться из семьи, это загнать семью внутрь себя самого, так что можно быть снаружи собственного нутра и, таким образом, быть свободным. Но куда бы вы ни пошли, вам придется идти куда-нибудь еще и еще, так что вы решаете остановиться и обзавестись каким-нибудь местом, чтобы звать его своим собственным.
Чем большая существует потребность в том, чтобы выбраться из безвыигрышной позиции, тем меньше шансов на то, чтобы добиться этого. Чем более безвыигрышным является положение, тем труднее из него выбраться. Эта тавтология стоит того, чтобы поразмышлять над ней.
Под безвыигрышной я имею в виду позицию, которую невозможно покинуть и в которой невозможно оставаться.
Находясь в отчужденной безвыигрышной позиции, мы не осознаем этого. Отсюда следует, что выйти невозможно. Коль скоро Пол осознает, что он в футляре, он может попытаться выбраться из него. Но так как для них футляр — это весь мир, то выбраться из футляра — это все равно что шагнуть в бездну, вещь, которой никто из любящих его просто не может перенести и которой они не позволят случиться.
Для дальнейшего понимания связанности, а может быть, и повязанности людей во взаимном опыте мы должны будем показать, как каждый из них оказывает влияние на фантазию остальных, так что его фантазия и их фантазия или все больше сближаются между собой, или расходятся в противоположные стороны все дальше и дальше. Чем больше расстояние между переживанием ситуации одним человеком и переживанием других в “той же самой” ситуации, тем в больший диссонанс начинают вступать его действия с действиями остальных. В определенный момент в нарастании рассогласования опыта и диссонанса действий, тот, кто в меньшинстве, начинает оцениваться большинством как “не наш”.
“Реальность” смещается от относительной к абсолютной. Чем больше человек, о котором мы думаем, что он абсолютно не прав, думает, что он абсолютно прав, а мы абсолютно не правы, тем скорее этот человек должен быть уничтожен, пока он не погубил себя сам или не погубил нас. Мы (конечно же) не имеем в виду, что мы хотим уничтожить его. Мы хотим спасти его от ужасного заблуждения, что мы хотим уничтожить его. Неужели он не видит, что единственное, что мы хотим сделать, это уничтожить его заблуждение? Его заблуждение в том, что мы хотим его уничтожить. Его заблуждение — это уверенность в том, что мы пытаемся втыкать иглы ему в глаза. Тот, кто думает, что люди втыкают иглы ему в глаза, может пойти к психиатру, чтобы подвергнуться лоботомии посредством игл, воткнутых ему в глаза, так как он предпочел бы скорее поверить в то, что он свихнулся, чем в то, что такое могло быть на самом деле.
Качество реальности, переживаемое внутри узла фантазии, может быть притягательным. Снаружи холодно, пусто, бессмысленно, там все нереально. Нет ни желания, ни, слава Богу, возможности уйти.
Уйти, без сомнения, нелегко. Но для некоторых людей система фантазии узла есть омерзительный ад, а не приятная передышка, и они хотят вон оттуда. Но это нехорошо, хотеть вон, это свидетельствует о неблагодарности. Это безумие — рваться наружу, там — бездна и хаос, там — дикие звери. И кроме того, не беспокойся, даже несмотря на твое отступничество и неблагодарность, ты можешь все-таки благодарить нас за то, что мы не позволим тебе улизнуть. Доктор тебе объяснит, что ты на самом деле не хочешь уйти, ты просто пятишься от нас, потому что боишься получить нож в спину. Ты ведь знаешь, мы не сделаем этого.
Выбор в фантазии становится выбором между тем, чтобы окончательно задохнуться внутри, и тем, чтобы рискнуть открыть свое “я” всему, что только есть устрашающего и угрожающего вовне. Но как только ты минуешь дверь в пространство, которое в настоящий момент есть внутреннее, ты попадаешь обратно прямо в изнанку внутреннего, которое ты вывернул с лица на изнанку, чтобы попасть наружу того, внутри чего ты был. Так что как только ты проходишь в эту дверь таким образом, ты тем больше внутри, чем больше ты думаешь, что ты снаружи6.
Когда внешнее и внутреннее вывернуты наизнанку, так что внутреннее-внешнее для А есть внешнее-внутреннее для Б, и оба мыслят в “абсолютных” категориях, то значит, мы достигли крайней степени расхождения взаимного опыта в нашей культуре — психиатры, психически здоровые, и пациенты, психически больные. Психиатр в такой ситуации чужд сомнений относительно постановки диагноза: пациент является психотиком и не догадывается об этом. Пациент считает, что это психиатр психически ненормален и не догадывается об этом. Пациент — это психотик и не догадывается об этом, потому что он считает, что психиатры — это опасные безумцы, которых следовало бы запереть для их же собственной безопасности, и если другие люди так основательно обработаны полицией мысли7, что даже не видят этого, то он намерен что-нибудь предпринять, чтобы исправить положение.
Выход наружу — через дверь. Однако в рамках фантазии узла уйти — это значит поступить неблагодарно, жестоко, губительно для себя или других. Первые шаги приходится предпринимать еще внутри фантазии, прежде чем она может быть разгадана как таковая. И здесь существует риск потерпеть поражение и сойти с ума.
Некоторые “психотики” рассматривают кабинет психоаналитика как относительно безопасное место для рассказа кому-нибудь, что они думают на самом деле. Они готовы вести себя как пациенты и даже поддерживать правила игры, оплачивая услуги аналитика при условии, что он не будет их “лечить”. Они даже готовы притвориться излеченными, если ему покажется неудобным иметь клиентуру, которая не обнаруживает явного улучшения.
Ну что ж, соглашение, не лишенное оснований.
Глава 3
Притворство и уклонение
Давайте посмотрим на этого официанта в кафе. Его движения быстры и уверенны, немного слишком стремительны и точны, он приближается к посетителям чуть-чуть быстрее, чем нужно, он склоняется перед ними чересчур услужливо, его голос, его глаза выражают слишком большое внимание к тому, что скажет клиент, но вот он возвращается, имитируя своей походкой отточенные движения некого автомата, с безрассудством канатоходца неся свой поднос, находящийся в неустойчивом равновесии, которое он постоянно восстанавливает легким движением плеча и руки. Все его поведение напоминает нам игру. Он старается, чтобы его движения сочетались друг с другом, как приводящие друг друга в действие детали механизма, даже его мимика и голос кажутся механическими; он придает себе быстроту и стремительность неодушевленных объектов. Он играет, он забавляется. Но во что он играет? Нам не понадобится долго наблюдать за ним, чтобы ответить на этот вопрос: он играет в официанта в кафе1.
Жан-Поль Сартр
Наше восприятие “реальности” является в полной мере достижением нашей цивилизации. Воспринимать реальность! Когда же люди перестали ощущать, что то, что они воспринимают, нереально? Возможно, ощущение и сама мысль, что то, что мы воспринимаем, реально, возникли совсем недавно в человеческой истории.
Сидишь в комнате. Представляешь, что комната не реальна, а вызвана в воображении: (А-В). Притворившись до почти полной убежденности, что комната воображаема, начинаешь делать вид, что она все же реальна, а не воображаема: (В-А1). Кончаешь тем, что притворяешься, что комната реальна, не воспринимая ее как реальную.
Уклонение — это такое отношение, при котором ты притворяешься, что ты — это не ты; затем притворяешься, что выходишь из этого притворства, так что создается впечатление, что ты возвращаешься обратно в первоначальную точку. Двойное притворство симулирует отсутствие притворства. Единственный способ “поймать” свое подлинное первоначальное состояние — это отказаться от первого притворства, но стоит только усугубить его вторым притворством, и уже не видно конца последовательности возможных притворств. Я — это я. Я притворяюсь, что я — это не я. Я притворяюсь, что я — это я. Я притворяюсь, что я не притворяюсь, что притворяюсь...
Позиции А и А1 на окружности отделены непроницаемым барьером, более тонким и прозрачным, чем можно себе вообразить. Начнем с А и переместимся в направлении к В. Вместо того чтобы вернуться по часовой стрелке к А, продолжим движение против часовой стрелки к точке А1. А и А1 — совсем рядом друг с другом и все же бесконечно далеки. Они так тесно примыкают друг к другу, что можно сказать: “Чем А1 хуже А, если она неотличима от А?” Можно при этом знать, что живешь за невидимой завесой. Нельзя увидеть, что отделяет тебя от тебя самого. Анна Фрейд (1954) вспоминает ребенка из книги А. Милна “Когда мы были совсем юными”:
“В детской этого трехлетнего малыша есть четыре стула. Когда он сидит на первом, он бывает путешественником-первооткрывателем, плывущим вверх по Амазонке сквозь ночную тьму. На втором он лев, пугающий своим ревом няню; на третьем — капитан, ведущий по морю свой корабль. Но на четвертом, высоком детском стульчике он пытается притворяться, что он — это просто он сам, всего лишь маленький мальчик”.
Если “он” преуспеет в притворстве, что он — это “просто” он сам, маска станет лицом, и он сам начнет думать, что каждый раз, когда он ведет себя так, как будто бы он — это не “просто маленький мальчик”, он притворяется, что он — это не просто он сам. Мне кажется, большинство трехлетних детей при поддержке родителей, которые, в свою очередь, поддерживаются такими авторитетами, как Анна Фрейд, приближаются к тому, чтобы успешно притворяться просто маленькими мальчиками и девочками. Именно в этом возрасте ребенок отрекается от своего свободного порыва и самозабвения и забывает, что он только притворяется просто маленьким мальчиком. Он становится просто маленьким мальчиком. Но он не в большей мере — это просто он сам, потому что он теперь просто маленький мальчик, чем тот мужчина — это просто он сам, потому что он — это официант в кафе. “Просто маленький мальчик” — это просто то, что думают многие специалисты по детям о том, что есть такое трехлетнее человеческое существо.
Спустя шестьдесят лет этот человек, уверенный, что он был “просто маленьким мальчиком”, которому нужно было научиться кое-каким вещам, чтобы стать “взрослым мужчиной”, и затвердивший кое-какие другие вещи, которые большие мужчины должны говорить маленьким мальчикам, из взрослого мужчины начинает становиться стариком. Но внезапно он начинает вспоминать, что все это была игра. Он играл в маленького мальчика, во взрослого мужчину, а теперь благополучно играет в “старика”. Его жена и дети начинают сильно беспокоиться. Друг семьи — психоаналитик объясняет, что гипоманиакальное отрицание смерти (понятие, которое он почерпнул у экзистенциалистов) нередко встречается у определенных людей, особенно успешных; это возврат к инфантильному всемогуществу. С этим, возможно, удастся справиться, если он поддерживает общение с какой-либо религиозной группой. Было бы неплохо пригласить священника зайти пообедать. Нам нужно поостеречься, чтобы банковские вклады были в полной сохранности, просто на всякий случай...
Он пытается притвориться, что он — это “просто он сам, всего лишь маленький мальчик”. Но он не может вести себя так до конца. Трехлетний ребенок, который не очень успешно пытается притвориться, что он — это “просто маленький мальчик”, напрашивается на неприятности. Он, весьма вероятно, будет отправлен на психоанализ, если его родители имеют для этого средства. И горе шестидесятитрехлетнему человеку, если он не способен притвориться, что он — это “просто старик”.
Если в детстве у тебя не получается играть в то, что ты не играешь, когда ты играешь в то, что ты — это “просто ты сам”, то очень скоро возникает тревога по поводу твоего слишком затянувшегося инфантильного всемогущества. А если спустя шестьдесят лет ты осознаешь, как ловко ты притворялся, что даже не помнил все эти годы, что ты притворяешься, то обнаружишь, что окружающие думают, что ты слегка впал в старческий маразм. Попытаться ли тебе еще раз притвориться, теперь уже в том, что ты — это “просто маленький старичок”?
Джилл замужем за Джеком. Она не хочет быть замужем за Джеком. Она боится расстаться с Джеком. Поэтому она остается с Джеком, но представляет себе, что она не замужем за ним. В конце концов она уже не чувствует, что она замужем за Джеком. Поэтому ей приходится представлять себе, что она замужем за Джеком. “Мне нужно напоминать себе, что он — это мой муж”.
Обычный маневр. Уклонение — это способ закруглить конфликт без прямой конфронтации или принятия решения. Оно переигрывает ситуацию конфликта, вбрасывая в игру одну модальность опыта против другой. Джилл представляет себе, что она незамужем, затем представляет, что замужем. Спираль уклонений уходит в бесконечность.
Некоторые люди2 годами притворяются, что у них благополучные сексуальные отношения. Их жизнь становится основанной на притворстве, причем до такой степени, что они теряют различие между тем, что их на самом деле удовлетворяет или фрустрирует, и тем, что их притворно удовлетворяет или фрустрирует.
Сексуальное желание без сексуального удовлетворения. Джилл не получает настоящего удовлетворения от своих тайных выдуманных отношений, и все же ей не хватает сил отказаться от призрака отношений, чтобы дать дорогу обнаженной действительности. Стоит только довериться каким-то “реальным” отношениям, как тут же наступит разочарование, потому что они окажутся фальшивыми, как и все остальные. Когда ты знаешь, что имеешь дело со своим воображением, оно не создает тебе особых неприятностей. Беда, если ты начинаешь представлять себе, что то, что ты представляешь себе, реально.
Отношения-призраки возбуждают телесные переживания. Возлюбленный-фантом держит тело в постоянном напряжении. Этот непрерывный зуд возбуждения толкает к непрерывному поиску сексуальной разрядки. Воображаемая половая близость с фантомом пробуждает в теле реальные ощущения, однако не так просто добиться реальности их разрядки. Кое-кто говорит, что его чувства более реальны в воображаемой ситуации, чем в реальной. Джилл ощущает реальное сексуальное возбуждение, когда в воображении предвосхищает реальный половой акт, но когда доходит до дела, она каждый раз переживает лишь отсутствие желания и отсутствие удовлетворения. Жить в прошлом или в будущем может быть менее радостно, чем жить в настоящем, но зато там никогда не бывает такого крушения иллюзий. Настоящее никогда не будет тем, что уже случилось, или тем, что могло бы быть. В поисках чего-либо вне времени — лишь опустошающее чувство бессмысленности и безнадежности.
Чтобы длиться, уклонение требует вкуса к самому процессу, и один из способов — это сделать тебя пленником ностальгии. Чары прошлого никогда не должны ослабевать. В откровенном виде оно становится отталкивающим. Исчерпывающий пример тому в литературе — “Мадам Бовари”.
Время — пусто, оно лишено содержания. Упование на него столь же тщетно, сколь и тщетны попытки от него убежать. Нечто, присвоенное себе на все времена, которое длится и тянется бесконечно, принимает облик обманчивой вечности. Это попытка жить вне времени за счет жизни в каком-то отрезке времени, жить, позабыв о времени, в прошлом или в будущем. Настоящее никогда не наступает.
“Я” другого оказывается объектом уклонения, когда к другому относятся как к воплощению фантазии. Ты якобы принимаешь другого “как он есть”, но чем более ты полагаешь, что так обстоит дело, тем более ты обращаешься с ним как с воплощенным фантомом, “как будто бы” он иная, отдельная личность и в то же время как будто бы твоя неотъемлемая собственность. Другой выступает в роли “промежуточного объекта”, по выражению Винникотта (1958). Это еще одно притворство. В одном смысле или на одном уровне “я” признает, что другой — это другой, что это “личность”, а не “полуобъект” или вещь, однако полное принятие этого остается притворным. Особенно благоприятствует такой ситуации, когда другой вступает в сговор с твоим уклонением и подыгрывает твоим выдумкам. Характерно, что ты начинаешь пугаться и впадать в негодование, обнаруживая, что другой не является воплощением твоего прототипа другого. Живя таким образом, ты, может быть, часто обольщаешь себя надеждами, но что еще вероятнее, слишком часто испытываешь разочарования. Каждый следующий встречный может казаться оазисом в пустыне твоей действительности, но стоит к нему приблизиться, и он превращается в мираж. Примешивая к тому, что существует, то, что не существует, в этой почти незаметной, неуловимой путанице ты не усиливаешь потенциал ни того, ни другого, но выхолащиваешь и то, и другое, получая тем самым некоторую степень дереализации и деперсонализации, осознаваемых только отчасти. При этом ты живешь в своеобразном заточении. В своем бегстве от полноты жизни и обратно, в поисках полноты жизни ты можешь “внутренне” связать себя определенными отношениями с другими через воображаемое их присутствие для тебя, что и помыслить себе не могли люди с более простыми способами получать удовлетворение от жизни. Однако, не довольствуясь “всего лишь” воображением, ты можешь сделаться зависимым от других в надежде, что они будут воплощать в действительность твое воображение и помогать тебе уклоняться от пугающих и зловещих сторон твоей фантазии. Потребность воплотить фантазию в действительность, заставляющая искать фактически существующих других вместо воображаемых, может послужить причиной чрезмерной сложности и запутанности отношений с внешним миром. Ты хочешь добиться от фактически существующих других того удовлетворения, которое ускользает от тебя в воображении, и все время воображаешь себе удовольствия, которых тебе не хватает в “реальности”.
После нескольких месяцев любовной связи, которая началась как волшебное приключение, а теперь приносила все больше разочарований, перед взором Иветт замаячил близкий конец. Она представляла себе различные варианты окончательного разрыва, обнаруживая при том, что горько плачет, поглощенная воображением этих сцен. Она заметила, как это характерно для нее — проливать такие настоящие слезы и с таким чувством в ситуации, которую она сама выдумала и которая существует пока что только в ее воображении. Она сказала, довольно точно предвосхищая события, что “когда этот момент наступил бы”, она бы ничего не почувствовала. Действительный конец ее романа был скучным и прозаическим, лишенным всякого трагического или комического начала. Когда все окончательно завершилось, Иветт была спокойна и безмятежна в течение нескольких недель. Но затем начала драматизировать прошлое, так же, как драматизировала будущее. Она воскрешала в воображении прошлое, которое никогда не было ничем иным, кроме как ее воображением. Выдуманное прошлое задним числом становилось реальным прошлым. Чувства Иветт попадали в такт с ее настоящей ситуацией лишь тогда, когда ее любовная история только завязывалась так пленительно и многообещающе. Все остальное время она вымучивала чувства в действительно происходящей ситуации и, похоже, могла быть по-настоящему счастлива или несчастна только в воображении. Может быть, она уклонялась от переживания недвусмысленного поражения, но ценой того, что чувство недвусмысленного удовлетворения ускользало от нее.
Уклонение благодаря самой его природе очень трудно “прижать к стенке”. Такова его характерная особенность. Оно имитирует искренность двойным притворством. Можно придать этому маневру более четкие очертания, сравнивая его с некоторыми явлениями, исследованными в “Разделенном Я” (Laing, 1960).
В этой работе были даны описания modus vivendi3 при некоторых формах тревожности и отчаяния. Особое внимание я уделил той форме расщепления “я”, за которой скрывается разрыв бытия человека на бестелесный разум и обездушенное тело. При этой потере единства человек оберегает чувство, что у него есть “внутреннее”, “истинное “я”, которое, однако, нереализовано, тогда как “внешнее”, “реализованное” или “фактическое “я” — “фальшиво”. Мы пытались раскрыть эту позицию как отчаянную попытку приспособиться к единственной форме “онтологической незащищенности”.
“Человек с улицы” многое принимает как само собой разумеющееся: например, то, что у него есть тело, у которого есть внутренние и внешние аспекты; что вначале он родился, а в конце, с точки зрения биологии, умрет; что он находится в том или ином месте в пространстве; что он занимает то или иное положение во времени; что он продолжает существовать непрерывно при переходе от места к месту и от одного момента времени к другому. Обыкновенный человек не пускается в размышления над этими базовыми элементами своего бытия, он просто считает свой способ переживания себя и других “нормальным”. Однако есть люди, которые так не считают. Обычно их называют шизоидными. А шизофреник и вовсе не принимает как само собой разумеющееся то, что его собственная особа (а также другие люди) — это в достаточной мере воплощенное, живое, реальное, вещественное и непрерывное существо, которое остается “тем же самым” независимо от места и времени, в которых оно находится. В отсутствии этой “основы” ему остро недостает обычного чувства собственного единства, ощущения себя как начала собственных действий, а не робота, машины, вещи; чувства, что это он воспринимает и познает, а не кто-то другой использует его уши, его глаза и тому подобное.
Человек всегда находится между бытием и небытием, но небытие не обязательно переживается как дезинтеграция личности. Незащищенность, которая сопутствует выстроенному на непрочном фундаменте единству личности, есть единственная форма онтологической незащищенности, если использовать этот термин для того, чтобы обозначить неизбежность этой незащищенности, ее нахождение в самой сердцевине, в самой предельной точке бытия человека.
Пауль Тиллих (1952) указывает, что возможность небытия открывается в трех направлениях: через предельную бессмысленность, предельное осуждение и предельное уничтожение в смерти. В этих трех отношениях человек, как существо духовное, как существо моральное, как существо биологическое, стоит лицом к возможности собственного уничтожения или небытия.
Онтологическая незащищенность, подробно описанная в “Разделенном Я”, — это четвертая возможность. Здесь человек как личность сталкивается с небытием, которое в форме предупреждения открывается как частичная утрата синтетического единства “я” и сопутствующая ей частичная утрата соотнесенности с другим, а в предельной форме — как предположительный конец в хаотическом ничто, тотальная утрата “я” и связи с другим.
Одни занимаются безнадежным выстраиванием защиты, другие пускаются в махинации с честностью. Корни противоречия между ними — совсем не на этом уровне переживания и действия, однако потребность одних блюсти свою искренность и честность может подрывать систему защиты других.
Если исключить случаи депрессии, именно другие, а не сам человек, жалуются на отсутствие у него искренности и неподдельности в поведении. Считается, что патогномической чертой специфической стратегии истерика является фальшивость его поступков, их наигранность и театральность. Истерик, со своей стороны, обычно настаивает, что его чувства реальны и подлинны. Это мы чувствуем, что они нереальны. Истерик настойчиво утверждает, что его намерение покончить с собой вполне серьезно, мы же говорим о простом “жесте” в сторону суицида. Истерик жалуется, что он рушится на части. Но до тех пор, пока мы чувствуем, что он не рушится на части, разве только в том отношении, что он играет в это или пытается убедить нас в этом, мы называем его истериком, а не шизофреником.
В один прекрасный день ты можешь твердо заявить, что осознал, что только разыгрывал роль, что ты притворялся перед самим собой, что пытался убедить себя в том-то и том-то, но теперь ты должен признаться, что все это было напрасно. И тем не менее это осознание или признание вполне может быть еще одной попыткой “выиграть” благодаря притворству из притворств, еще раз играя последнюю правду о себе самом, и тем самым уклониться от того, чтобы просто, прямо и действительно принять ее в себя. Это единственная форма безумной “игры”, неистовое стремление сделать притворное реальным. Другие формы все же не столь безоговорочны и оставляют пространство для отступления. Мы не хотим сказать, что все, кто ведет себя подобно психотикам, и есть “истинные” шизофреники или подверженные “истинному” маниакальному или “истинному” депрессивному психозу люди; хотя не всегда легко отличить “истинного” шизофреника от того, кто, по нашему ощущению, способен разыгрывать из себя мнимого сумасшедшего, поскольку мы склонны объяснять безумием то, что человек притворяется безумным. Сам акт притворства, в своем крайнем проявлении, с большой вероятностью расценивается как само по себе безумие.
Мы склонны считать, что безумно не только притворяться безумным и перед самим собой, и перед другими, но безумно любое основание к тому, чтобы хотеть претендовать на безумие. Следует помнить, что ты рискуешь в социальном плане, если порываешь с социальной реальностью: если ты намеренно пускаешься в систематические попытки не быть тем, за кого тебя все принимают, пытаешься бежать от этого отождествления, играя в то, что это не ты, что ты аноним или инкогнито, принимая псевдонимы, утверждая, что ты умер, что тебя нет, потому что твое тело не принадлежит твоему “я”. Не стоит притворяться, что ты — это не просто маленький старичок, если в фантазии ты уже сделался просто маленьким старичком.
Истерик, как в свое время предположил Винникотт, “пытается достичь безумия”. Уклонение порождает уклонение. Безумие может быть желанным как выход. Но даже справка о психической ненормальности, которую ты можешь с успехом получить, не изменит того, что твое безумие останется подделкой. Подделка, в той же степени, как и “реальная вещь”, способна поглотить жизнь человека. Но “реальное” безумие будет так же ускользать, как и “реальное” здравомыслие. Не каждому дано быть психотиком.
Глава 4
Полифония опыта
Реальное телесное возбуждение в соединении с воображаемым опытом заключает в себе для многих особое очарование, смешанное с некоторой долей ужаса.
Молодой человек испытывает возбуждение, когда видит привлекательных девушек. Он вызывает их в своем воображении. Реальный половой акт иногда может быть не столь желанным, сколь воображаемый половой акт, сопровождаемый “реальным” оргазмом.
Сартр (1952) называет “честным” мастурбатором того, кто мастурбирует за неимением лучшего. То, что он называет “нечестной” мастурбацией, описано там, где он говорит о Жане Женэ.
“Мастурбатор по собственному выбору, Женэ предпочитает ублажать себя сам, поскольку удовольствие полученное совпадает с удовольствием доставленным, момент пассивности — с моментом величайшей активности; он в одно и то же время и это застывшее, сгустившееся сознание, и эта рука, бешено работающая как маслобойка. Бытие и существование; доверие и грубое использование; мазохистская инерция и садистский напор; окаменение и свобода; в момент наивысшего наслаждения две противоположных составляющих Женэ, совпадают; он преступник, который совершает насилие, и святой, который предает себя в руки насильника. Мастурбатор делает себя нереальным — он перекраивает реальность в себе самом; он очень близок к тому, чтобы найти магическую формулу, которая откроет, наконец, все шлюзы.
Однако жертва в руках палача, любящий и любимый — эти фантазии, порожденные Нарциссом, рано или поздно входят в плоть и кровь Нарцисса. Нарцисс боится людей, их оценок и их реального присутствия; он хочет лишь нежиться в ауре любви к себе самому, единственное, что ему требуется, — это быть чуть-чуть отдаленным от собственного тела, чтобы легкая оболочка инаковости покрывала его плоть и его мысли. Его персона — словно тающая во рту конфетка; это отсутствие определенности поддерживает в нем уверенность и служит его кощунственному замыслу: оно есть жалкое подобие любви. Мастурбатор — в заколдованном круге, он обречен на неспособность чувствовать себя достаточно другим и должен постоянно создавать для себя демонический призрак своей второй половины, который с неизбежностью развеивается, стоит только войти с ним в соприкосновение. Удовольствие ускользает, но в этом и есть вся соль удовольствия. Мастурбация, как чисто демоническое действо, поддерживает в центре сознания призрак присутствия: мастурбация есть дереализация мира и самого мастурбатора. Но этот человек, снедаемый собственными грезами, знает достаточно хорошо, что эти грезы остаются с ним только усилием его воли; Дивина (этот другой в некоторых мастурбационных фантазиях Женэ) беспрестанно растворяет в себе Женэ, а Женэ беспрестанно растворяет в себе Дивину. Однако посредством перетекания туда и обратно, которое доводит экстаз до его наивысшей точки, это чистое ничто (clair neant), абсолютно отрицательная величина, может вызвать реальные события в непридуманном мире; причина эрекции, эякуляции, мокрых пятен на постельном белье — нечто воображаемое. Простым движением мастурбатор увлекает мир к его распаду и вводит порядок нереального в универсум; образы действуют, отсюда — они обязаны быть. Нет, мастурбация Нарцисса — это не маленькая шалость, которой предаются ближе к ночи, как некоторые ошибочно полагают, не милая ребяческая компенсация в награду за трудовой день: она по своей сущности есть воля к преступлению. Женэ извлекает для себя удовольствие из отсутствия: из одиночества, из бессилия, из порока, из чего-то ненастоящего, из искусственно созданного в обход бытия события”.
Не всякому, даже если бы ему захотелось, дано быть Нарциссом, отмечает Сартр где-то в другом месте. Для Нарцисса, опирающегося на образ как на тончайшую связь между своими разобщенными “я”, мастурбация есть акт свободного выбора. Женэ материализует дух другого, только чтобы изгнать его, мастурбируя, а вместе с ним и себя самого, — и когда заклинание духов заканчивается, остается только Женэ, но Женэ, существующий лишь посредством этих бесплотных гомосексуальных духов, кристаллизованных в образы. “Я существую лишь через посредство тех, кто есть не что иное, как бытие, которым они обладают посредством меня”.
Здесь мы находим дальнейшее уклонение. Пробуждать к жизни в воображении нереальное присутствие другого — это попахивает тем, что мы до сих пор называли фантазией. Фантазия и воображаемое образуют такое слияние, что уже невозможно понять, где начало и где конец мастурбации. Реальное незаметно сливается с воображением, воображение — с фантазией, а фантазия — с реальным.
Мастурбатор обладает телом, испытывающим реальный оргазм в воображаемых ситуациях, но реальный оргазм может быть необходимым, чтобы положить конец воображаемой ситуации.
Воображение вызывает реальный физический результат, но есть здесь тонкое отличие от опыта невоображаемых отношений. Так, привыкнув к оргазму от мастурбации, он неуверенно обращается со своим телом в невоображаемых ситуациях. Он может, следовательно, испытывать неловкость, смущение и страх по поводу того, как бы не “включиться” в реальном присутствии других в самый неподходящий момент. Он опасается, что его тело начнет реагировать подобно тому, как оно делает это “в” воображении. Огромная разница может быть между тем, как он ощущает свое тело, и тем, как оно видится другими. Но слияние в оргазме невоображаемых ощущений с воображаемыми другими может закончиться тем, что он будет смешивать их в публичной ситуации.
Если тело в его аспекте тела-для-себя-самого есть нечто, возбуждающееся по отношению к воображаемым другим, то будут ли его возбуждать невоображаемые другие? Если это сокровенное тело, позорный опыт в тиши уединения, начнет пробуждаться к жизни на людях, то это будет переживаться совсем по-другому. Мужчина видит женщину в свете привычного для него опыта, то есть как некий образ в совокуплении с его одиноким телом. Это смешение при мастурбации его тела и ее воображаемого тела сказывается и в реальной близости с ней, и он продолжает рассчитывать, что она видит его тело, исходя из того, как он его ощущает, и ожидать от нее понимания того, каким именно образом он представляет ее в своих мастурбационных фантазиях.
Так, один молодой человек натолкнулся в коридоре офиса на девушку, с которой он только что в туалете мысленно занимался любовью, и был настолько смущен, что пошел и уволился с этой работы.
Рассмотрим предложенное Ференци (1938) описание женской сексуальности. Поведение и переживание, описанные здесь, есть фантазия в смеси с воображением, претворенные в тело. Вероятно, эта женщина не в состоянии мастурбировать в одиночестве, потому что ей нужен кто-то другой, чтобы воплощать собой ее фантазии. Мы рассматриваем работу Ференци как описание возможной женщины, а не современной фемининности вообще, как он полагал.
“Развитие генитальной сексуальности (у женщины) характеризуется, сверх всего прочего, замещением эрогенности клитора (женский вариант пениса) эрогенностью полости вагины. Психоаналитический опыт, однако, неотвратимо приводит к предположению, что не только одна вагина, но и другие части тела, так сказать в духе истерии, точно так же “генитализуются”, в особенности сосок и прилегающая к нему область ... Частично оставленное мужское стремление вернуться в материнское чрево не отвергнуто вовсе, по меньшей мере в сфере психического, где оно выражает себя как фантазия идентификации в коитусе с обладающей пенисом мужской стороной, и как вагинальное ощущение обладания пенисом (“полый пенис”), а также как идентификация с ребенком, которого она вынашивает в своем собственном теле. Маскулинная агрессивность обращается в наслаждение пассивным переживанием сексуального акта (мазохизм), что объяснимо отчасти с точки зрения существования весьма архаических инстинктивных сил (влечения к смерти, согласно Фрейду), а отчасти — с точки зрения механизма идентификации с мужчиной-завоевателем. Все эти новоприобретения со сложным опосредованием и замещением генетически обусловленных механизмов удовольствия кажутся более или менее установленными в порядке утешения за утрату пениса.
По поводу перехода женщины от (маскулинной) активности к пассивности можно сформулировать следующую общую идею: все целиком тело и все целиком Эго женщины поглощают в себя регрессивно генитальность женского пениса, выделившуюся из них, как мы полагаем, в ходе нормального полового развития, так что вторичный нарциссизм написан ей на роду; поэтому с эротической стороны она становится вновь скорее ребенком, который хочет, чтобы его любили, и, таким образом, является существом, все еще цепляющимся, по сути дела, за фикцию пребывания в материнской утробе. Так что следующим шагом она может легко идентифицировать себя с ребенком в своем собственном теле (или с пенисом как его символом) и совершить переход от переходного к непереходному, от активного проникновения к пассивности. Вторичная генитализация тела у женщины объясняет также ее большую склонность к истерическим проявлениям.
При наблюдении полового развития женщины создается впечатление, что в момент первого сексуального контакта это развитие все еще является в достаточной степени незавершенным. Первые попытки к коитусу есть, так сказать, только акты насилия, в которых должна даже пролиться кровь. Лишь позже женщина научается переживать сексуальный акт пассивно и без внутреннего сопротивления, и еще позже — испытывать удовольствие или даже брать на себя активную роль. В самом деле, в каждом половом акте первоначальная защита повторяется в форме мускульного сопротивления со стороны суженной вагины; и только потом вагина становится увлажненной и легко доступной для вхождения, и лишь еще позже возникают сокращения, которые, видимо, имеют своею целью всасывание семени и инкорпорацию пениса — последнее, безусловно, содержит в себе намек на кастрацию. Эти наблюдения, а также определенные соображения филогенетического характера, которыми в более полном объеме мы займемся несколько позже, подсказали мне мысль о том, что здесь мы имеем, в индивидуальном плане, повторение некой из фаз борьбы между полами — той фазы, в которой женщина берет верх хитростью, так как она уступает мужчине привилегию в действительном смысле слова проникать в материнское тело, сама же полностью удовлетворяется фантазиеподобными замещениями, в особенности это касается вынашивания ребенка, участь которого она разделяет. Во всяком случае, согласно психоаналитическим наблюдениям Гроддека, женщине пожаловано особое удовольствие, скрывающееся даже за родовыми муками, в котором отказано мужскому полу”.
Собственные телесные переживания женщины в этом описании погребены под нагромождениями фантазии, так что со стороны телесного опыта она почти полностью отчуждена от себя как от реального существа женского пола. Ференци видит ее как “потерянную” в фантазии и в воображаемом. Эти две категории не следует путать между собой. Было бы неправильным сказать, что она “воображает себе”, что у нее есть пенис. Она, возможно, была бы шокирована самой этой мыслью и никогда не рискнула бы вообразить себе подобную вещь. “В фантазии” — она мужчина; “в воображении” — женщина. Она не открыла по-настоящему собственного тела. Воображая себя женщиной и действуя словно женщина, она пытается стать женщиной. Она пытается отделаться от фантазии, пуская в ход свое воображение и свое тело, но, похоже, тем больше увязает в своей фантазии, чем меньше она признается себе в ней.
Женщина Ференци не ведает своего собственного фемининного телесного опыта, отличного от фантазии и воображения, потому что она целиком погружена в свою фантазию. Если ее фантазия обладания пенисом приобретает достаточную “реальность”, она начинает воображать себе не то, что у нее имеется пенис, а то, что ей не досталось оного. Воображение используется при этом для того, чтобы представлять то, чего тебе не досталось, в фантазии. Это еще одна форма подлога. Она не знает, что то, что она переживает, — это фантазия. Сотворенное фантазией тело, неосознаваемое как таковое, невидимой завесой ложится поверх ее “собственного” тела, так что акт совокупления для нее в некотором смысле есть акт мастурбации.
Хотя мастурбация является нечестной, поскольку она — отрицание реального, “реальное” можно использовать нечестно для маскировки тайной игры фантазии и воображения. Мастурбация имитирует половое сношение, как половое сношение имитирует мастурбацию.
Следующий отрывок взят из “Богоматери цветов” Женэ (Genet, 1957а):
“Что-то новое, вроде ощущения собственной силы, взошло (в растительном смысле, в смысле прорастания) в Дивине. Она ощутила, что становится мужественной. Безумная надежда делала ее сильной, крепкой, смелой. Она чувствовала, как вздуваются ее мускулы и она становится похожей на высеченную из камня статую, подобную микеладжелову рабу. Не напрягая ни одной мышцы, но с внутренней яростью она боролась с собой, подобно Лаокоону, который пытался задушить чудовище. Потом, когда руки и ноги ее обрели плоть, она осмелела и захотела драться по-настоящему, но очень скоро получила на бульваре хороший урок, ведь она, забывая о боевой эффективности своих движений, подходила к ним с мерками чисто эстетическими. При таком подходе из нее в лучшем случае мог получиться более или менее ладно скроенный мелкий хулиган. Ее движения, особенно удары по корпусу, должны были любой ценой, даже ценой победы, сделать из нее даже не Дивину-драчуна, а скорее некоего сказочного боксера, а иногда — сразу нескольких великолепных боксеров. Мужественные жесты, которым она пыталась научиться, редко встречаются у мужчин. Она и свистела, и руки держала в карманах, но все это подражание было таким неумелым, что казалось, за один вечер она могла предстать одновременно в четырех или пяти разных образах. Зато уж в этом она добилась великолепной разносторонности. Она металась между девочкой и мальчиком, и на этих переходах, из-за новизны такого стиля поведения, часто спотыкалась. Прихрамывая, она устремлялась вслед за мальчиком. Она всегда начинала с жестов Великой Ветренницы, потом, вспомнив, что, соблазняя убийцу, она должна вести себя по-мужски, обращала их в шутку, и эта двойственность давала неожиданный эффект, превращая ее то в по-обывательски боязливого, робкого шута, то в назойливую сумасшедшую. Наконец, в довершение этого превращения бабы в самца, она сочинила дружбу мужчины к мужчине, чтобы та связала ее с одним из безупречных “котов”1, о которых уж никак нельзя сказать, что его жесты двусмысленны. Для большей уверенности она изобрела для себя Маркетти. Тут же выбрала для него внешность; в тайном воображении одинокой девушки имелся ночной запас бедер, рук, торсов, лиц, зубов, волос, коленей, и она умела собирать из них живого мужчину, которого наделяла душой всегда одной и той же, вне зависимости от ситуации, такой, какую бы ей хотелось иметь самой”2.
Женэ говорит о мужчине, которого он называет Дивина, как о “ней”, поскольку именно так он переживает себя “в фантазии”. В какой-то момент “она” начинает “в растительном смысле, в смысле прорастания” ощущать в себе вновь обретаемую мужественность. “Она” не “воображает себе” это: оно происходит с “ней” само, но иссякает на полдороге: по мере того, как эта сексуальная трансформация улетучивается, “она” начинает подыгрывать и притворяться, что “она” мужчина. “Она” пускает в ход воображение, жесты, поступки, чтобы посредством волшебной метаморфозы вернуть свою утраченную мужественность. Но это все равно что делать лед из кипящей воды.
Гений Достоевского безошибочно ухватил эту полифонию модальностей опыта: сна, фантазии, воображения и воспоминания. Во всех его романах косвенно или прямо показано одновременное пребывание в этих модальностях. Непросто продемонстрировать это в сжатом виде. Но мы совершим такую попытку, рассматривая описание Достоевским Раскольникова в самом начале “Преступления и наказания”, до убийства включительно, с точки зрения сна, фантазии, воображения и реальности.
Модальность “фантазии”, в отличие от “воображения”, показана здесь с достаточной определенностью.
За день до того, как он убил старуху, “страшный сон приснился Раскольникову” (стр. 60, 1957)3. Это длинный, запутанный, очень яркий сон. Мы значительно сократим его в пересказе.
“...Приснилось ему его детство, еще в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом.
Они с отцом шли по дороге к кладбищу, где были могилы его бабушки и брата, который умер в шестимесячном возрасте и которого Раскольников не мог помнить. Они проходили мимо кабака, он держался за отцовскую руку и испуганно смотрел в сторону заведения, которое в его памяти связывалось со сценами пьяного веселья и пьяных драк. Напротив кабака стояла большая телега, такая, в которую обычно впрягают здоровую ломовую лошадь...
...Но теперь, странное дело, в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые — он часто это видел — надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка.
Но вот вдруг становится очень шумно: из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками пьяные-препьяные большие такие мужики в красных и синих рубашках, с армяками внакидку. “Садись, все садись! — кричит один, еще молодой, с толстою такою шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом, — всех довезу, садись!”
Бедная старая кляча не может справиться с таким грузом. Крестьянам это кажется очень смешным:
“...Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться: этака лядащая кобыленка да таку тягость вскачь везти будет! Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке”.
Они начинают стегать ее.
“— Папочка, папочка,— кричит он отцу,— папочка, что они делают! Папочка, бедную лошадку бьют!
— Пойдем, пойдем! — говорит отец,— Пьяные, шалят, дураки, пойдем, не смотри! — и хочет увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает.
— Секи до смерти! — кричит Миколка, — на то пошло. Засеку!”
Миколка все больше расходится, и веселье становится все более шумным. Он кричит, что лошадь — его собственность.
“— Не трожь! Мое добро! Что хочу, то и делаю. Садись еще! Все садись! Хочу, чтобы беспременно вскачь пошла!”
Только семилетний Раскольников жалеет бедную старую клячу.
“...Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу — он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику с седою бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет увесть: но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних усилиях, но еще раз начинает лягаться.
— А чтобы те леший! — вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над савраской.
— Разразит! — кричат кругом.
— Убьет!
— Мое добро! — кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар.
— Секи ее, секи! Что стали! — кричат голоса из толпы.
А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывезти; но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить.
— Живуча! — кричат кругом.
— Сейчас беспременно падет, братцы, тут ей и конец! — кричит из толпы один любитель.
— Топором ее, чего! Покончить с ней разом, — кричит третий.
— Эх, ешь те комары! Расступись! — неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. — Берегись! — кричит он и что есть силы огорошивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул; кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом.
— Добивай! — кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня, с телеги. Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают что попало — кнуты, палки, оглоблю — и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает.
— Доконал! — кричат в толпе.
— А зачем вскачь не шла!
— Мое добро! — кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит, будто жалея, что уж некого больше бить.
— Ну и впрямь, знать, креста на тебе нет! — кричат из толпы уже многие голоса.
Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его, наконец, и выносит из толпы.
— Пойдем! пойдем! — говорит он ему, — домой пойдем!
— Папочка! За что они... бедную лошадку... убили! — всхлипывает он, но дыхание ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди.
— Пьяные, шалят, не наше дело, пойдем! — говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть, и просыпается.
Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе.
— Слава богу, это только сон! — сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. — Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается: такой безобразный сон!
Все тело его было как бы разбито; смутно и темно на душе. Он положил локти на колена и подпер обеими руками голову.
— Боже! — воскликнул он, — да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?”
Первое переживание Раскольникова по пробуждении показывает, что его собственное тело было до самой глубины задето этим сном. Он проснулся в страхе, как будто это его засекли до смерти, и немедленно вспомнил с глубочайшим ужасом о своем намерении убить старуху способом, очень напоминающим тот, которым была погублена бедная старая кляча.
Исходя из этого, можно предположить, что “собственное” тело переживается Раскольниковым в рамках физической идентификации со старой клячей и со старухой. Место происшествия находится недалеко от кладбища, где похоронены его бабушка и младший брат. Он отнюдь не “воображает” себя старой лошадью или старухой. Напротив, “в своем воображении” он, насколько это возможно, далек от ситуации, в которой находится во сне или в фантазии. В своем сне он — семилетний мальчик, сочувствующий старой кобыле, в фантазии его собственное тело разделяет смерть старой клячи, а также старухи. Но “он”, как мы узнаем позднее, воображает себя Наполеоном! Он “блуждает” между своим воображением, где он представляет себя Наполеоном, своим сном, где он маленький мальчик, и своей фантазией, где он — забитая до смерти старая кляча и старуха, которую он вот-вот убьет.
Раскольников знает свой сон и знает, что намерен убить старуху-процентщицу. Ему неведома связь между Миколкой и им самим, а также связь между старой лошадью и старухой. Он не связывает все это со своими “собственными” чувствами по отношению к матери4. Он не отдает себе отчета в том, что идентифицирует свою мать (или бабушку) со скупердяйкой-процентщицей и ни на что не годной старой клячей. Не осознает он и того, что идентифицирует себя самого со старой клячей, со своей матерью и с процентщицей.
Когда он окончательно “знает”, что старуха будет убита завтра, он чувствует себя как человек, приговоренный к смерти. В модальности фантазии он — жертва, тогда как “в воображении” и в “реальности” он — палач.
Непосредственно перед тем, как он входит в старухин дом, чтобы убить ее, он замечает по поводу своих собственных мыслей: “Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге...” Значит, в фантазии он скорее жертва, которую ведут на казнь, чем палач.
Перед тем, как старуха открывает дверь, он внезапно теряет ощущение собственного тела. Очевидно, что для того, чтобы убить эту старуху, он действием-в-фантазии ре-проецирует “старую клячу” на личность процентщицы, которая “в реальности” для него никто.
Раскольников убивает старуху, “чтобы быть Наполеоном”, “из-за денег” или просто “назло всему”, как он рассуждает позже. Но Достоевский показывает также его фантазию, модальность действия и переживания, в качестве сна, который снится Раскольникову и в котором его не принимают в рассчет, останавливают и уводят. Так, поневоле он “сам”, в качестве “собственно” молодого человека, отстранен от участия в “реальном” мире. В этом состоянии и другой остается для него ничего не значащим инкогнито.
В “Преступлении и наказании” глубоко исследована тема проституирования. Старуха — это еще одно про-ституированное5, как и сам Раскольников, существо, в том смысле, что это некто, представляющий или символизирующий другого. Достоевский определенно указывает, что Раскольников сразу же почувствовал жесточайшую неприязнь к ней, хотя ничего о ней и не знал. “Старуха” и ее сестра до такой степени переживались в модальности фантазии, что почти ничего больше Раскольников и не заметил. Понимание того, что он скорее фантазирует их, чем воспринимает их “самих по себе”, было исключительно мимолетным. Раскольников был замурован “внутри” своей фантазии. Недаром он ощущал, что задыхается.
Глава 5
Холод смерти
Следующий отчет отражает переживания 34-летней женщины вскоре после рождения ее третьего ребенка, охватывающие период в пять месяцев. В течение этих месяцев сочетание фантазии, сна и воображения образовывало так называемый послеродовой психоз, который с клинической точки зрения не представлял ничего необычного.
Врач не обнаружил какого-либо органического заболевания, однако миссис А. спустя три недели после рождения третьего ребенка все еще была не в состоянии встать с постели. Две предыдущие беременности уже повлекли за собой, хотя и в более легкой форме, подобный упадок сил, полное нежелание что-либо делать, отсутствие интереса к близким людям и всему содержанию ее жизни.
Однажды ночью в ее голове разразилась “ужасная буря”. Казалось, что паруса трещат и рвутся на ветру. Это можно было бы принять за так называемый сон, если бы женщина точно не знала, что не спала в это время. Когда на следующий день ее муж вернулся домой из деловой поездки, она обвинила его в том, что он погубил ее бесконечными беременностями, и сказала, что он жесток и бессердечен. Никогда прежде она не проявляла никаких чувств. Женщина была совершенно истощена и не способна взять на себя заботу о младенце или хоть как-то присматривать за двумя другими детьми. Вызвали врача, и хотя тот не обнаружил никаких физических симптомов, но диагностировал цистит и прописал лекарства. Пациентка не принимала эти лекарства вплоть до вечера, опасаясь, что они не только не помогут ей, но в ее состоянии даже могут причинить вред. Такое предубеждение заставило окружающих впервые подумать, что это что-то “психическое”.
Однако вечером, когда зашли друзья, женщина поднялась и вела себя нормально, но у нее оставалось отчетливое, хотя и трудноописуемое ощущение, что она “какая-то не такая”, которое, как считала сама пациентка, вызвано состоянием отравления. Она провела еще одну ужасную ночь, когда внутри нее опять бушевала жестокая буря, а в голове трещали и хлопали на ветру паруса. Вдобавок к этому ее преследовало странное ощущение, что ее мысли затухают и останавливаются. Очнувшись от неспокойного сна, она уже больше не чувствовала, как прежде, что у нее жар. Женщину “осенило”, что ее уже ничего не касается, — она не принадлежит больше “этому” миру. Комната и младенец в кроватке внезапно показались ей маленькими и удаленными, “как будто смотришь в подзорную трубу не с того конца”. Миссис А. ощущала полное безразличие ко всему. Она была “абсолютно и совершенно безчувственна”.
Лежа в таком состоянии, женщина начала ощущать нечто странное в области языка. Было похоже на то, что его парализовало и свело. Она посмотрела на свой язык в зеркало: он выглядел вполне нормально, но расхождение между ощущаемым и видимым состоянием ее напугало. Ближе к полудню ей стало казаться, что ее отравили и что яд распространяется по всему телу. Она измерила температуру. Факт, что температура была нормальной, был понят ею как следствие того, что ее тело не реагирует на яд.
Идея яда в ее крови сохранялась в течение всех последующих пяти месяцев, а также проявлялась в различных снах в период выздоровления, когда она была еще наполовину в своем состоянии “не-реагирования”. Вначале женщина считала, что зараза исходит от каких-то бактерий в мочевом пузыре; через несколько недель у нее появилась простуда, и она пришла к убеждению, что другие бактерии, простудные, уничтожили и вытеснили первые. Затем ей стало казаться, что источник инфекции — в кишечнике, и дело, скорее всего, в кишечных глистах. Ни одно название не передавало до конца ее ощущения того, что находится у нее внутри. Микроб, червь, “маленький зверек” отравлял ее и заставлял ее тело слабеть и чахнуть.
Она пребывала в “холоде смерти”. Все выступающие части ее тела были холодными, руки и ноги отяжелели. Стоило невероятных усилий сделать малейшее движение. В груди образовалась какая-то пустота. В этом состоянии, на грани смерти, она беспокоилась за врачей нисколько не меньше, чем за саму себя, ее волновало, что у них могут быть ужасные неприятности после ее смерти, когда обнаружится ошибочность диагноза. Врачи трагическим образом заблуждаются в связи с отсутствием физических признаков приближения смерти. Отсутствие этих признаков и есть основная характеристика ее исключительно необычного состояния. Совершенно логично, что врачи не нашли никакой аномалии, раз ее тело находится в состоянии “не-реагирования”. Вряд ли она может винить их за это прискорбное заблуждение; ей хотелось бы, чтобы и она и врачи были правы, но, к сожалению, это, кажется, невозможно. Когда она умрет и в ее теле обнаружат яд, то могут подумать, что это было самоубийство, но когда обнаружится полная картина событий, не исключено, что она станет тем уникальным случаем, который перевернет всю медицинскую науку. Врачи, наблюдавшие ее, будут страдать от угрызений совести. И несмотря на то, женщина жаловалась на полный упадок сил, она была готова без конца с неиссякающим оживлением обсуждать свое предсмертное состояние.
Ей казалось, что ее кожа покрыта смертельной бледностью. Ее руки казались ей неестественно синими, почти черными. Сердце готово было остановиться в любую минуту. Кости казались какими-то выкрученными. Плоть разлагалась. Уже возвратившись из мира смерти в мир жизни, с того света на этот свет, она описала некоторые события, явившиеся началом ее возвращения:
“Однажды — это было примерно в середине марта — я стала осознавать ужасный холод в ногах, но в то же время заметила, что ступни моих ног были теплыми. Это никак не укладывалось в мою собственную теорию и заставило меня призадуматься. В голову, однако, ничего не приходило, но через несколько дней, когда я сидела, ни о чем особенно не думая, мне вдруг явилась мысль, что любая болезнь, достаточно серьезная для того, чтобы заставить кого-либо “начать” умирать, прежде всего должна была бы сломить волю человека, невзирая на то, сколь велика сила его воли. Эта идея сильно меня встряхнула, но все же мне требовалось подтверждение врача, что это было правильное соображение, и за этим все-таки не последовало реального улучшения, так как в моем сознании было все еще слишком много того, что нейтрализовало действие этой идеи, и я была еще не способна задерживаться на каких-либо мыслях долгое время. Вскоре после этого я увидела всю нелепость моей идеи состояния, при котором “начинается умирание”, и осознала, что я говорила о состоянии умирания как о синониме того, что перестала реагировать на высокую температуру, результатом которой должна была бы явиться смерть в течение нескольких часов (так я предполагала). Я все еще чувствовала себя очень плохо, как если бы у меня было воспаление легких и мне приходилось переносить его на ногах, в особенности когда нужно было выйти на улицу. Я ощущала, что пульс у меня очень слаб, дыхание очень поверхностное, а руки все время синеют, если их не засовывать в воду. Я была в некотором возбуждении и чувствовала, что сбита с толку, и однажды ночью в постели мне внезапно явилась мысль, что на самом деле я нахожусь в состоянии нереальности и что я на грани того, чтобы выйти из него; и я запаниковала при мысли о выходе из него, — чувствуя свою беспомощность и слабость. Я сжалась в комок, полная решимости крепко держаться за него, и это чувство прошло.
Вскоре я нашла психологическое объяснение синеве моих рук, а неделей позже поняла, зачем я плещу на руки водой, чтобы вызвать синеву, и что означает эта необходимость создавать мыльную пену. После этого ночью мне было совсем хорошо, я могла глубоко дышать, чувствовала, что полностью согрелась и что у меня хороший пульс. На следующее утро я была счастлива в предвкушении нового дня и не помышляла о возможности, что он принесет мне смерть, однако у меня были приступы боли по всему телу, особенно в запястьях и голове. На следующий день я опять вернулась в исходное состояние, испытывала все те же симптомы еще более остро и полностью утвердилась в мысли, что мой собственный диагноз был верен. Это продолжалось неделю, в течение которой мои попытки доказать врачам свою правоту были настойчивы как никогда. В конце этой недели я отправилась на первый уик-энд, не потому что чувствовала себя сколько-нибудь лучше, а потому что не могла больше отказываться от приглашений своей подруги, была сыта по горло своим пребыванием в больнице и чувствовала, что хуже быть уже не может. На воле я обнаружила, что чувствую себя нормально с людьми, не ощущаю больше барьера между мной и ними, и опять не могла согласовать этот факт со своей теорией о том, что я нахожусь в состоянии умирания.
Тем не менее я все еще чувствовала постоянную близость смерти и провела остаток недели в попытках доказать свою точку зрения. Я решила отправиться на следующий уик-энд, потому что мне жутко надоело больничное окружение и психиатры, жизнь больничной палаты раздражала и пугала меня, и я хотела сбежать от всего этого. В течение этого уик-энда мне удавалось уговаривать себя всякий раз, когда внутри меня поднималась паника, все аргументы против моей собственной гипотезы разом вставали передо мной, и я чувствовала, что то объяснение, которое я дала синеве моих рук, было действительно правильным и точным.
Поэтому, возвратившись в больницу и получив от врача предложение перейти на амбулаторный режим, я очень обрадовалась, хотя и испытывала еще все симптомы, за исключением холода в ногах, и была приятно удивлена, обнаружив, что способна на такую эмоцию, как удовольствие. У меня появилось мощное побуждение бежать от однообразия моего окружения в больнице: осознавая непредсказуемость поведения пациентов, я чувствовала, что мне очень не по себе [sic] в палате. Даже если я в самом деле чувствую себя очень плохо, подумала я, то все же лучше находиться в более приятной обстановке, в жилом доме с нормальными людьми.
Я обнаружила, что музыка вызывает во мне отклик, что я способна воспринимать не только медицинские статьи, но также комиксы и любое юмористическое и развлекательное чтение — я обрела, без сомнения, позитивный настрой ума. Все же у меня еще часто возникали приступы паники, во время которых я была не способна воспринимать что-либо, помимо сиюминутных ощущений, которые были ощущениями смертного ужаса и неминуемой гибели, но когда мне пришлось поехать в больницу без сопровождающих, я вверила себя Богу, укрепилась верой психиатра в мою способность совершить это и была тверда в том, чтобы не подвести его и саму себя. Я становилась все более оптимистичной, и вот однажды утром у меня возникло мгновенное озарение, что врач способен диагностировать состояние умирания независимо от того, что его вызвало. Вместе с этим явилось отчетливое понимание, что я заблуждалась и что этого больше не будет. С тех пор каждый день приносил улучшение, апатия проходила, я стала стремиться домой, чтобы увидеть детей и мужа. Я потеряла всякий интерес к своим симптомам и могла с совершенной отчетливостью видеть, что со мной приключилось и как это все происходило”.
“Психологическое” истолкование ее иссиня-черных рук произошло как озарение. Руки женщины были ее вторым ребенком, его иссиня-черное личико она поливала холодной водой, когда у него был сильнейший астматический приступ.
Теперь у нее были многократные “озарения”, когда она на короткое время вырывалась из того, что сама назвала “полотном символов”, которым было окутано все ее тело. Как-то ночью, лежа без сна, тревожно прислушиваясь к каждому удару сердца, она осознала внезапно, что ее сердце — это ее третий ребенок, когда он находился в утробе и у него плохо прослушивалось сердцебиение; в течение следующего месяца она поняла, что окостеневший язык — это язык ее отца, которого разбил паралич; что кожа и грудь — это кожа и грудь ее брата, когда она видела его умирающим от туберкулеза. Эти “вспышки” вырвали ее из “состояния нереальности”, но время от времени, вопреки себе, она возвращалась в него. Иногда, как пациентка говорила выше, она цеплялась за свою “нереальность”, и реальная жизнь ускользала. У нее была серия снов, как нам представляется, имеющих отношение к этой теме.
В первом из снов ее загнал в угол какой-то мужчина и собирался напасть на нее. Казалось, выхода нет. Она совсем потеряла голову, когда, все еще во сне, попыталась сбежать в бодрствующее состояние, но осталась все в том же углу. Это фактически было теперь еще хуже, потому что это было реально, и тогда она убежала обратно, в сон, так как “это, по крайней мере, был только сон”.
В другом своем сне она находилась внутри темного дома и выглядывала наружу через дверной проем, поперек которого лежал черный зонтик. Во сне она чувствовала, что внутри была нереальность, а снаружи — реальность, но зонтик служил преградой на пути ее выхода наружу.
Третий сон, который приснился пациентке как раз после того, как она окончательно вышла из состояния “холода смерти”, включал в себя следующие элементы: она смотрела на большой самолет снаружи; в дверном проеме этого самолета стоял врач, воплощавший в себе черты различных людей, в том числе и мои. В тот момент она знала, что снаружи — реальность, а внутри — нереальность. Она хотела вовнутрь, в нереальность, но врач преграждал ей дорогу. Пять месяцев своего состояния умирания она подытожила следующей фразой: “Я жила в метафорическом состоянии. Я соткала картинку из символов и поселилась внутри нее”.
После выхода из метафорической формы существования, в которой женщина была ни жива, ни мертва, она ощущала жизнь гораздо острее, чем когда-либо раньше. Пять лет спустя она продолжала чувствовать себя хорошо и родила еще одного ребенка без каких-либо осложнений.
Почему люди приходят в состояния этого рода, нам неизвестно. Ключевым моментом состояния пациентки был “холод смерти”. Она никогда в действительности не переступала порога, чтобы почувствовать, что была мертвой. Она была “не такой”, она была “далеко”, она “ушла в какой-то другой мир”. Этот мир свелся к тому свету. Ее кожа, язык, руки, легкие, сердце, мочевой пузырь, кишки, кровь, кости — все было втянуто в орбиту смерти. Мир живых открылся ей вновь во вспышках внезапного понимания. После самой холодной зимы ее жизни опять наступила весна.
Но возвращение принесло ей свободу не только от смертного плена последних нескольких месяцев. Внезапные вспышки понимания высветили следующую картину: в ее тело вселились тела умерших (единственным исключением было ее сердце, которое действительно, по ощущению пациентки, перестало биться, когда на мгновение она подумала, что ее малютка умер). Женщина поняла, что все это было еще до того, как она начала ощущать холод смерти; и почувствовала, что, заново открывая свое собственное тело, которое сделалось чем-то вроде кладбища, где похоронены части ее отца, брата и матери, она в некотором смысле воскресла из мертвых. Она вернулась к жизни из царства мертвых.
Я уже делал где-то намек на возможность того, что так называемый психоз может иногда быть естественным процессом исцеления (точка зрения, на которую я не заявляю приоритета).
Применительно к опыту этой женщины клиническая психиатрическая терминология и в своем описательном, и в теоретическом аспекте оказывается почти полностью неадекватной. Не способные описать, не можем и объяснить.
Здесь сквозит обнаженная и неприглаженная действительность опыта, со всей его сложностью и запутанностью, в котором те из нас, кто не отрицает того, чего они не способны объяснить или даже просто описать, имеют шанс разобраться. Теория может иметь законное основание, если она базируется на опыте, а не создана для того, чтобы отрицать опыт, который не вписывается в теорию. Следующие наброски есть только первый шаг феноменологического анализа.
Привычное для миссис А. переживание мужа, детей, друзей разом поблекло, и его место занял новый образ переживания. Она вышла из этого мира в какой-то другой мир, где ее обволакивал кокон из символов. То, что мы считаем “реальным”, для нее перестало что-либо значить. Однако тогда ее переживания не ощущались ею как нереальные. Тогда, пребывая в холоде смерти, она не жаловалась на то, что переживает свое тело или других людей каким-либо нереальным образом. И только при выходе из того, в чем она была, оглядываясь назад, она осознала как “реальность”, что жила, по ее выражению, в состоянии “нереальности”.
Наше привычное ощущение какой-то связанности с другими, “связности” нашего собственного существования, того, что мы реальные и живые, часто поддерживается посредством модальности фантазии, о которой мы ничего не знаем. Фантазия обычно не переживается как нечто нереальное. “Реальное” и живое, в противоположность “нереальному” и мертвому, больше являются качествами фантазии, чем воображением. Влюбленность — это переживание часто почти целиком “в” фантазии, но, как ничто другое, реальное и живое.
Отправившись в путь, который вел ее в “холод смерти”, миссис А. перестала чувствовать какую-то личную связь между собой теперешней и своим прежним миром. Она разошлась с этим миром, в котором, как она могла видеть, все еще пребывали ее муж, дети, друзья. Эта отрешенность, сколько я знаю, не была с ее стороны намеренной. Имей миссис А. даже сознательное намерение исчезнуть из этого мира, то как бы ей это удалось, когда большинство людей, стремящихся изо всех сил уйти от самих себя и от мира, не могут достигнуть этого?
В приводимых ниже колонках перечисляются некоторые соотношения, установленные ею благодаря “вспышкам” внезапного понимания. Миссис А. установила их сама. Для меня они были такой же неожиданностью, как для нее. Никто не делал даже намека на толкование, хотя бы отчасти напоминавшее эти соотношения.
В холоде смерти не было ничего реальнее ее предсмертного состояния и того, что она должна умереть, подобно ее отцу, матери и брату. И наименее реальной была какая-то связь между набором ее симптомов и ее отцом, матерью, братом или ребенком1.
Ее язык, ощущавшийся как сведенный, но выглядевший нормальным,
Ее грудь, в которой ощущалась какая-то пустота, и ее кожа, которая казалась ей пожелтевшей,
Ее рука, которую она видела иссиня-черной,
Ее сердце
Ее кости
Экстремальный опыт вместе с множеством из второй колонки был отображен3 на части ее тела. Посредством такой операции интроективной идентификации определенные части ее тела приобрели значение. Она воспринимала их с точки зрения их значения, не осознавая, что ее переживание их есть продукт операции отображения. Как ей удалось проделать эту операцию, а потом удерживаться в этом состоянии и посредством какой последующей операции она смогла исключить предыдущую из своего опыта, я не знаю.
Часть II
ФОРМЫ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО
взаимодействия
Глава 6
Комплементарная идентичность
Рабби Кабиа (в неволе у римлян) — своему любимому ученику, Симону бен Йохай1: “Сын мой, теленок жаждет сосать, но еще сильнее корова жаждет кормить”.
Описывая переживание и действие, которые происходят в воображении, во сне или в фантазии, мы непременно должны включать в наше описание весь “узел” других, воображаемых, снящихся, фантазируемых или “реальных”. Я попытаюсь придать более рельефные очертания зависимости между этими другими и “я”.
Наиболее значительный шаг в теории и методологии психиатрии за последние два десятилетия заключается, на мой взгляд, в растущей неудовлетворенности любой теорией или исследованием отдельного индивидуума, изолирующими этого индивидуума от его контекста. Чтобы исправить такое положение, были предприняты усилия с самых разных сторон. Однако легко заметить, что и здесь существуют свои весьма опасные ловушки. Система воззрений может накладывать на реальность неправомерную схему дробления. Следует проводить различия между фрагментацией, идущей наперекор персональной рельности, и вполне оправданным анализом одного за другим каждого отдельного аспекта ситуации. Мы не хотим разобщать “разум” и “тело”, “психическое” и “физическое”. Мы не должны подходить к “личности” как к “животному” или “вещи”, но было бы неразумным пытаться оторвать человека от его отношения к другим существам и от той живой ткани, которая является его жизненной средой. Особая трудность заключается в том, чтобы невольно не подвергнуть нашу человеческую рельность концептуальному искажению, в котором по ходу дела была бы утрачена первоначальная данность.
В итоге мы просто не можем дать неискаженного описания “личности”, если не дадим описания ее отношений с другими. Даже описывая отдельного человека, мы не можем позволить себе забыть, что любой человек постоянно действует на других и подвергается действию с их стороны. Другие всегда присутствуют. Нет никого, кто бы действовал или переживал в вакууме. Личность, которую мы описываем, и относительно которой строим теории, не единственная действующая сила в своем “мире”. Как она воспринимает других и действует по отношению к ним, как они воспринимают ее и действуют по отношению к ней, как она воспринимает их в качестве воспринимающих ее, как они воспринимают ее в качестве воспринимающей их — все это разные аспекты одной “ситуации”. И все они прямо относятся к делу, если мы хотим разобраться, как отдельная личность присутствует в ней.
Комплементарность
Женщина не может быть матерью без ребенка. Ей нужен ребенок, чтобы идентифицировать себя как мать. Мужчине нужна жена, чтобы быть мужем. Влюбленный без объекта любви — это всего лишь мнимый влюбленный, трагедия или комедия, в зависимости от точки зрения. Любая идентичность требует существования другого: некой другой стороны в отношениях и некого другого, посредством отношений с которым самоидентификация становится действительной. Другой своими действиями может навязать “я” совсем нежеланную идентичность. Муж-рогоносец может нести на себе эту идентичность, хотя и возложенную на него вопреки его собственной воле.
Комплементарностью2 я называю такую функцию человеческих отношений, посредством которой другой позволяет осуществиться “я” или придает ему определенную цельность. Один человек бывает комплементарен другому в самых разных смыслах. С одной стороны, эта функция биологически детерминирована, а с другой — является делом в высшей степени индивидуального выбора. Комплементарность более или менее оформлена, в зависимости от культурных норм. Обычно о ней говорят, используя категорию роли.
Говорят о поступке, действии, чувстве, потребности, роли или идентичности, дополнительных соответствующему поступку, действию, чувству, потребности, роли или идентичности другого.
Ребенок может быть счастливым даром своим родителям, позволяя осуществиться им в их отцовстве и материнстве. Такая комплементарность способна быть искренней или фальшивой. Вспоминаю случай Стефана, который рассказывал, что его мать была настолько самодостаточна, что все, что бы он ни делал, казалось, не имело для нее никакого значения. И все же она в нем нуждалась. Он не имел ни малейшего шанса быть великодушным, тогда как она была великодушна всегда. Однако в конце концов он открыл один способ “достать” ее, а именно отказаться принять ее великодушие. Ее самоидентичность зависела от негласного сговора с другими, по которому она была бы дающей стороной, а они — получающей. Получающая сторона была обречена на постоянный конфликт между завистью и благодарностью. Уже ребенком Стефан почувствовал, что это то слабое место, которое позволит ему отыграться за навязанную ему позицию.
Одаривать и выражать благодарность — истоком этих действий и душевных движений является кормление грудью. Здесь может быть подлинная взаимность. Потребность ребенка в груди и потребность груди в ребенке изначально сосуществуют. Мать получает от ребенка, а ребенок одновременно получает от матери. “Хорошая грудь” — это грудь, способная получать в той же мере, в какой и давать. Брать и давать — эти действия могут сопровождать друг друга, брать будет одновременно давать и давать будет одновременно брать.
С этой точки зрения пустота — не обязательно пустой желудок. Ощущение физической пустоты возникает, когда ты не вкладываешь себя в то, что делаешь, или когда то, во что ты вкладываешь себя, ощущается, по сути, бессмысленным для тебя. Но ощущение пустоты и тщетности может возникнуть, когда ты вкладываешь себя в свои действия, даже когда эти действия, кажется, обладают осмысленностью, если ты не получаешь никакого признания другого и если ты чувствуешь, что не способен для кого-нибудь что-нибудь значить. Именно на этом основании, реальном в воображении или фантазии, раздраженные нападки в фантазии на самодостаточно “хорошую” грудь разрастаются до зависти и злобы. В фантазии уничтожают то, что ненавидят, и ненавидят то, чем не могут обладать после того, как уничтожили его. Невосприимчивый или недоступный другой вызывает чувство пустоты и бессилия. Уничтожение в фантазии другого запускает порочный круг. “Я” получает и дает. Другой необходим, чтобы давать и получать. Чем больше “я” получает, тем больше нуждается в том, чтобы давать. Чем более другой не способен получать, тем больше “я” нуждается в том, чтобы уничтожать. Чем больше “я” уничтожает другого, тем более пустым оно становится. Чем больше пустота, тем больше зависть, чем больше зависть, тем больше разрушительная сила.
Прототип другого как дающего, но не способного получать, невосприимчивого или недоступного, имеет тенденцию вырабатывать в “я” чувство поражения. Можно добиться успеха на разных жизненных поприщах, но постоянно испытывать такое чувство: “Мне на самом деле нечего дать. Все, что я могу, — это брать. Да и как бы там ни было, мне все равно!” Такой человек может чувствовать, что его жизнь только тогда обладает смыслом, когда она небезразлична другим, ибо единственное, что важно, — это “оставить свой след”. Он может быть в сексуальном смысле вполне “нормальным”, но чувствует, что по-настоящему никогда “не доходит до сути”, испытывая постоянное разочарование в самый острый момент сексуального наслаждения. Быть небезразличным другому — это победа. Позволить другому быть небезразличным ему — поражение. Неспособный к настоящей взаимности, он никогда ее не находит. Он боится всех и каждого, как бы они не стали небезразличны ему. Если другой дарует ему любовь, он надменно отклоняет ее, если чувствует, что ему что-то дают; и ни во что не ставит ее, если чувствует, что другой от него зависит. В итоге он утрачивает и ощущение того, что сам способен давать, и ощущение того, что “другой” способен что-либо получать.
Рассмотрим это в отношении к сексу. Две основные интенции в сексуальном общении — это приятная разрядка напряжения и некий взаимообмен с другим. Секс может быть пустым и бессодержательным, если другой не дает ни малейшего резонанса. Чистое самоуслаждение посредством подъема и падения напряжения может быть более чем фрустрирующим. Любая теория сексуальности, которая ставит целью сексуального инстинкта достижение самого по себе состояния оргазма, предполагая, что другой, хотя и тщательно выбранный, является всего лишь объектом, средством для достижения этой цели, не принимает в расчет эротического желания быть небезразличным другому. Когда Уильям Блейк бросил фразу, что самое необходимое — “черты удовлетворенной страсти” в другом, он хотел указать на то, что одно из самых убийственных переживаний — это полная разрядка энергии или либидо, пусть и приятная, но при полном безразличии другого.
Фригидность у женщин — это часто отказ мужчине в триумфе победителя, то есть того, кто “дает” удовлетворение. Ее фригидность — это триумф и способ досадить. “У тебя может быть твой пенис, твоя эрекция, твой оргазм, а мне все это совершенно безразлично!” Действительно, эрекция и оргазм — весьма ограниченные аспекты потенции: потенции, бессильной что-нибудь значить для другого. Импотентность у мужчин, аналогично фригидности у женщин, часто определяется тем, чтобы не дать женщине удовольствия доставить ему удовольствие.
У Джека нормальная потенция. Джилл фригидна. Джек не желает эякулировать в одиночестве. Это лишено для него смысла. Или, правильнее сказать, он чувствует себя отверженным. Ему хочется дать ей оргазм. Ей не хочется быть фригидной, потому что ей хотелось бы дать ему свой оргазм, это было бы нечто вроде подарка. Но если Джек принуждает Джилл к тому, чтобы у нее был оргазм, то это уже представляется не подарком, а проигрышем. Он одержал бы победу, а она потерпела бы поражение. Однако Джилл была бы не прочь потерпеть поражение, но Джек, похоже, не тот, кто способен взять над ней верх. Между тем, если она собирается продолжать в том же духе, то будь он проклят, если не отплатит ей тем же, и вот он становится импотентом. Обычно требуется несколько лет брака, чтобы дойти до этого положения, однако встречаются люди, которые могут проделать указанные ходы буквально в считанные месяцы.
Фрустрация перерастает в отчаяние, когда человек начинает сомневаться в собственной способности для кого-нибудь что-нибудь “значить”.
Требуемые “знаки” комплементарности можно получить за деньги у проститутки. Если таких “знаков” невозможно добиться от Джилл, Джек начинает отчаиваться в том, что ему под силу быть кому-нибудь небезразличным, но может решить вопрос хорошей подделкой. Возможно, Джилл и сама будет готова играть роль проститутки. Тогда сор, так сказать, не выносится из избы.
Любые отношения между людьми неявно содержат определение “я” другим и другого — “я”. Такая комплементарность может быть центральной или периферической, может усиливаться или ослабляться по значимости в различные периоды жизни отдельного человека. В определенный период ребенок бунтует против того узла отношений, который привязывает его именно к этим родителям, а также братьям и сестрам, которых он не выбирал; он не желает, чтобы его определяли и идентифицировали в качестве сына его отца или брата его сестры. Эти люди могут казаться ему чужими. Ему, конечно, ближе родители, которые лучше, мудрее, выше. Но в то же время этот узел комплементарных связей есть та надежная опора, по которой тоскуют другие. У сирот и приемных детей иногда развивается чрезвычайной силы стремление выяснить, “кто же они такие”, разыскав родных отца или мать. Они чувствуют собственную ущербность из-за отсутствия матери или отца, в их представлении о себе остается какая-то недосказанность. Чего-нибудь осязаемого, даже надгробного камня, может оказаться достаточно. Это, как представляется, позволяет “закрыть вопрос”.
“Собственная” идентичность отдельного человека не может быть рассмотрена отвлеченно, полностью абстрагирована от его идентичности-для-других. Его идентичность-для-себя-самого; идентичность, приписанная ему другими; идентичности, которые он приписывает другим; идентичность или же идентичности, которые, как он думает, они приписывают ему; что он думает, они думают, он думает, они думают...
“Идентичность” — это то, посредством чего ты чувствуешь, что ты тот же самый, независимо от места и времени, прошлого или будущего; это то, посредством чего происходит идентификация. Мне кажется, что большая часть людей склонны к прочному ощущению, что они те же самые неизменные существа от утробы матери и до могилы. И эта “идентичность” отстаивается тем более решительно, чем более она является фантазией.
“Идентичность” нередко становится “объектом”, который теряется или считается потеряным и который начинают искать. Многие первобытные фантазии вращаются вокруг идентичности и “ее” овеществления. Неоднократно описанные в наше время поиски “идентичности” становятся еще одним сценарием для фантазии.
Сильнейшую фрустрацию вызывает неудача в поисках того другого, который нужен для создания удовлетворительной “идентичности”.
Другие люди становятся своего рода инструментом для идентичности, с помощью которого можно собрать по кусочкам картину себя самого. Ты
узнаешь себя самого в этой привычной улыбке узнавания, которой встречает тебя этот давний друг.
Если человек обнаруживает, что он обречен на идентичность, дополняющую кого-то другого, которую он не признает, но от которой не может отказаться, возникает, по-видимому, не чувство вины, а скорее чувство стыда. Как можно образовать непротиворечивую идентичность — то есть видеть себя последовательно одним и тем же образом, — если другие определяют тебя непоследовательно или взаимоисключающе? Другой может определять “я” одновременно несовместимыми способами. Двое и более других могут идентифицировать “я” вразнобой. Приспособить друг к другу все эти идентичности или отказаться от них от всех может быть просто неосуществимым. Отсюда — мистификация, путаница и конфликт.
Противоречивые или парадоксальные идентичности, сообщенные открыто или косвенным образом, посредством атрибуций, предписаний или других средств (см. главу 10), могут не признаваться как таковые ни другими, ни самим “я”. Одно предписание, например, настаивает на негласной договоренности, несмотря на то, что негласная договоренность неосуществима. Негласная договоренность может заключаться в том, чтобы не признавать, что существует предписание негласной договоренности, и не признавать, что предписанная негласная договоренность неосуществима. В такой ситуации человек оказывается не просто в конфликтном состоянии, но в состоянии такой путаницы, что он находится в неведении, по поводу чего эта путаница, и не осознает, что он не осознает, что он сбит с толку. Путаница и неясность могут порождаться другими, предлагающими идентичности, комплеметарные своим идентичностям, пригодные, если их распределить между несколькими людьми, но несовместимые в одном человеке. Брайан не мог быть сыном своего отца и сыном своей матери одновременно (см. ниже). Другое дело, если бы у них было два сына. С такой подорванной в основе своей идентичностью он чувствует себя вынужденным контролировать любые возможные попытки как-то его определить. “Я” в таком случае отвергает все элементы идентичности, которые ему навязаны, — биологические и социальные. Я — это тот, кем я выбираю быть. Если я выбираю быть женщиной, я и есть женщина. Если я выбираю быть в Сан-Франциско, я — в Сан-Франциско. Этот “способ выхода из игры”, относимый обычно к категории маниакального, есть безумный способ освободиться от нестерпимого диссонанса взаимоисключающих идентичностей, отображенных на “я” самим “я” и другими.
Что может сделать человек, чтобы приспособить друг к другу два диссонирующих определения, кроме как выработать внутренне несообразное поведение и тем самым одновременно быть и той и другой идентичностью? Или, не зная сам почему, он испытывает удушье, чувство подавленности, угнетенности, стесненности со всех сторон. Или находит тот самый маниакальный выход. Щелчок пальцами, и он обретает ту ипостась, то место, то время, которые сам для себя избрал; и может любого другого превратить точно так же в кого угодно.
Следующие две истории наглядно показывают, что человек может даже совсем потерять рассудок, если комплементарная другим идентичность, такая как сын или дочь такого-то отца и такой-то матери, поставлена под вопрос или зиждется на призрачном основании. И тот, и другой находились в больнице в течение нескольких месяцев.
Брайан
В возрасте двадцати девяти лет Брайан был помещен в психиатрическую лечебницу в состоянии полного помрачения ума и отчаяния, в котором он оказался после десяти лет, казалось бы, счастливого брака. Он начал жестоко избивать свою жену веревкой, завязанной узлами, и пристрастился к спиртному. Брайан твердил, что он испорченный, злой человек, “потому что не может быть большего зла, чем причинять незаслуженные страдания хорошему человеку, который любит тебя и которого любишь ты”.
До четырех лет он жил со своей матерью и был убежден, что отец его умер. Мать в его памяти сохранилась доброй, милой, ласковой и простодушной. Когда ему было четыре года, мать, как он вспоминает, взяла его с собой в дальнее путешествие. Они оказались в незнакомом доме, где он встретился с незнакомыми мужчиной и женщиной. Его мать разрыдалась, поцеловала его и выбежала вон из дома. Больше он никогда не видел ее и ничего не слышал о ней. Незнакомые мужчина и женщина обратились к нему по имени и сказали ему, что они его мама и папа. Брайан помнит, что он был в полном недоумении. Это недоумение заслонило все его остальные чувства, включая тоску по матери. Он вспоминает, что все его силы уходили на отчаянные попытки осмыслить, что же произошло, и их уже не хватало на то, чтобы оплакивать потерю матери. “Родители” ничего не говорили. Его мучили два вопроса: “Кто моя мама?” и “Кто я?” Чтобы ответить на второй, ему необходимо было ответить на первый. Потеряв свою “прежнюю” мать, он потерял свое “прежнее” “я”. Неожиданная потеря идентичности (“я — сын моей мамы”) и назначение ему новой двумя незнакомцами (“ты — наш сын”) означало: его прежняя мама сбыла его с рук, потому что он плохой. Эта мысль была для него единственным, за что он мог ухватиться. В ней для него было все. Она стала для него единственным несомненным фактом. Он не знал, кто он был, но он точно знал, какой он был. И если он был отвратительным, тогда ему следует быть отвратительным.
Он помнит, что пришел к такому решению как раз накануне своего пятилетия. Он не знал за собой никаких ужасающих преступлений, ему не в чем было себя винить, но он знал, что он отвратительный. И поскольку он был отвратительным, он должен был делать отвратительные вещи. С тех пор как такая идентичность окончательно устоялась, первейшей его задачей стало вести себя отвратительно.
У “родителей” было двое своих детей — сын Джек и дочь Бетти — на восемнадцать и шестнадцать лет его старше соответственно. С ним обращались как с младшим братом. Брайан помнит, что брат пытался с ним подружиться, но он слишком замкнулся в своих переживаниях, чтобы ответить ему взаимностью. Позже, когда он был уже чуть постарше, брат уехал в Канаду.
Брайан стал совсем непослушным, и ему начали говорить, что он плохой мальчик и из него ничего не выйдет. Каждый раз, когда ему удавалось спровоцировать кого-нибудь на такое замечание, он ликовал. В школе Брайан издевался над девочкой, которая сидела перед ним и которую он считал “доброй, милой, ласковой и простодушной”. Связь между его “собственной” мамой и этой девочкой позднее стала для него очевидной. Он начал вынашивать мысли о причинении всевозможных мучений всякой девочке или женщине, “доброй, милой, ласковой и простодушной”. Это было высшей степенью отвратительности, и позволять себе это в мечтах было главной и самой тайной усладой.
Когда Брайану было девять, произошло событие, которое многое решило. Без ведома “родителей” он обнаружил документы о своем усыновлении и узнал, что он не имеет к “ним” отношения. Он утаил от всех свое открытие и преисполнился презрения к своим приемным родителям. Какое жалкое лицемерие, какой обман и какое малодушие! Эти люди рассчитывали, что Брайан поверит в их росказни, будто бы он один из “них”, просто на том основании, что они так сказали! Каждый раз, когда он не слушался и они сгоряча говорили, что из него не выйдет проку, он укреплялся в своей уверенности, что их “любовь” к нему всего лишь обман и лицемерие, и что на самом деле он для них ничего не значит. “Они просто завели себе мальчика вместо собаки на старости лет”. Однако Брайан думал: “Я пока поиграю в их игру”. Неприкрытая злоба просто была бы им на руку.
За год до этого он пришел к убеждению, что они пытаются подтолкнуть его к тому, чтобы он был плохим, говоря ему, что он плохой. Брайан чувствовал, если он ничего не достигнет, то просто доставит им удовольствие. Если в будущем ему уготовано стать ничтожеством, то лучший способ досадить им, разрушить их планы — это стать кем-то. В соответствии с этим решением фаза трудного мальчика-“психопата” закончилась, он начал делать успехи в школе и в целом вести себя хорошо, таким образом заставляя “родителей” блефовать, вызывая у них лицемерные проявления удовольствия по поводу его достижений. В подростковом возрасте Брайан достиг уровня притворства чрезвычайной сложности. В шестнадцать лет родители сообщили ему, что он был усыновлен, будучи в полной уверенности, что он считает себя членом их семьи и забыл свою мать. Брайан сделал вид, что расстроен этим открытием, в то время как внутренне кипел ненавистью и презрением к этим глупцам, которые думали так легко превратить его в негодяя.
Окончив школу, он пошел в бизнес. Его подстегивало желание отомстить, наперекор всем чего-то достигнуть, и он стал преуспевающим бизнесменом.
С тех пор как в школе Брайан издевался над маленькой девочкой, больше такого не повторялось, и он не пытался исполнить свои мечты о мучении девочек. Он считал себя тихим, робким и обаятельным с женщинами. В свое время, когда ему исполнилось двадцать с небольшим, он женился на девушке своей мечты, “доброй, милой, ласковой и простодушной”. Брак был счастливым, у них родился сын. А потом он начал ругаться с женой без всякого повода и не мог ничего с этим поделать. Брайан сильно запил. Раздобыв толстую веревку и завязав ее узлами, он стал избивать свою жену этой веревкой, пока она не сбежала к своим родителям, в полном ужасе и недоумении по поводу происходящего. Их сыну было четыре года.
Он довел свою жену до того, что она ушла, когда их сыну было столько же лет, сколько было ему, когда его бросила мать. Достижение сыном этого возраста пробудило в отце исходный кризис, когда вместе с утратой матери он утратил свою первоначальную идентичность. Напомним: его мать не просто ушла. Та женщина, которая ушла, не была его матерью. Так кто же был он, которого бросили?
Запои и избиение жены обнажили давно скрываемую инфраструктуру фантазии, которую он так хорошо упрятал, что даже сам уже не подозревал о ней. Коэффициент реальности, если так можно выразиться, при идентификации личности его жены резко упал.
К двум катастрофам в его жизни — потере прежней идентичности и открытию, что новая идентичность является ложной, — должна была присоединиться еще одна. Это, видимо, оказалось последним, решающим фактором. Как раз перед тем, как у Брайана начались нарушения поведения, он вновь побывал “дома” на Рождество. Он почти расстался с ожесточенностью, со своей женой он впервые в жизни нашел, как ему казалось, истинное счастье. После стольких лет он наконец примирился с тем фактом, что был усыновлен, то есть с тем, что он не родной. Он смог “понять”, что его “родители” “думали сделать как лучше”, когда обманывали его. Будучи “дома”, он беседовал как-то с сестрой и впервые хоть немного смог говорить о тех переживаниях, которые держал в тайне всю свою жизнь. Однако было очень печально, что ему никогда не узнать, кто же его отец.
“Так ты не знаешь? — спросила сестра. — Я думала, родители говорили тебе. Джек был твоим отцом”.
Джек, тот самый “брат”, который как-то особенно старался, чтобы они стали “друзьями”, когда мать оставила его в этой семье, недавно умер в Канаде. Это был уже явный перебор, нечто совсем нешуточное. Самое ценное тайное достояние Брайана заключалось в том, что он знал: он не “один из них”. Смысловая структура его жизни была уничтожена. Он сам был разодран на куски. Он был одурачен полностью. Не подозревая того, он вырос там, где и было его родовое гнездо. Какая глупость, какая бессмыслица! И он вернулся в исходное состояние, к несомненности, которую никто не способен был бы отнять у него. Он должен был удостовериться, что он плохой. Он — испорченный и отвратительный. У него не должно было быть и тени сомнения на сей счет. Он стал пить до полного одурения и избивать жену, пока она не ушла, а его не пришлось увезти в больницу.
Когда жена ушла от него, Брайан только наполовину осознавал, что сам ее к этому вынудил. Отчасти он был застигнут врасплох. Он лелеял надежду, что жена настолько “добра, мила, ласкова и простодушна”, что никогда не покинет его, как бы ни был он плох и что бы ни делал. Брайан тайно хранил в себе “мать”, безропотно выносящую все истязания, не помышляющую о наказании или о том, чтобы бросить его. Он смешивал свою “мать” со своей женой. Когда жена ушла от него, она обнаружила тем самым, что она ничуть не лучше, чем он, так как ее любовь не была безусловной. Он придумал, как можно добиться окончательного реванша, чтобы в одно и то же время “отплатить ей сполна” и сделать обязанной себе навсегда. Он должен покончить с собой, а она должна получить его деньги в наследство. Тогда она никогда не сможет его покинуть, потому что никогда не сможет себя простить.
Жизнь Брайана настолько насыщена нелепыми ситуациями и комическими эффектами, что производит впечатление какой-то почти дьявольской шутки. Его история исключительна, но именно в силу этого мы получаем возможность с особенной ясностью увидеть некоторые основополагающие истины.
Трудно заранее предсказать, что за идентичность изберет для себя человек. Называя ее осевой, я имею в виду, что вся иерархия целей и планов на будущее, все и вся, что он любит, ненавидит, чего боится, его понимание успеха и неудачи — вращается вокруг этой идентичности. И лишь некое, может быть, незначительное по видимости событие высвечивает ее осевой характер.
Что-то случается, несовместимое с этой осевой идентичностью, пусть и скрытой, но определяющей всю его смысловую систему. Кто-то выдергивает ось, которая соединяла в одно целое весь мир. Реальность перестает быть осмысленной. Выбивается почва из-под ног. Причастность к миру, такие понятия, как “связь с реальностью” и “ощущение реальности”, становятся пустым звуком. Ситуация жесточайшего кризиса несомненна. Или он целиком пересматривает “реальность” своего взгляда на мир и других людей, а также “реальность” собственного самоопределения; или он игнорирует расхождение между тем, каково положение дел, и тем, что он знает как положение дел, предпочитая оставаться при том, что он знает. Нет ничего более реального и несомненного, чем чистая фантазия; ничего более очевидного; ничего, что было бы так бесспорно и так легко доказуемо.
Самоидентичность — это история, которую он рассказывает сам себе, о том, кто он такой. Его потребность верить этой истории часто напоминает желание сбросить со счетов другую историю, более простую и более страшную. Необходимость помещать в центр своей жизни комплементарную идентичность (я — сын своего отца, жена своего мужа) намекает на страх фантазии и неприятие существующего.
Иисус говорил о том, чтобы оставить своих родителей. Может быть, он имел в виду, наряду с другими вещами, что нет мудрости в том, чтобы для максимальной безопасности держаться их системы координат, что это не тот путь, которым можно найти самого себя.
Смысл, извлеченный Брайаном из ситуации внезапного и необъяснимого ухода матери, заключался вот в чем: это потому, что я плохой. Быть плохим стало его кредо. Он жил этим. Это был фундамент, на котором он строил свою жизнь. “Раз я плохой, ничего не остается, кроме как быть плохим”. В восемь лет он утвердился в своей сатанинской ненависти и презрении, притворившись добрым, милым, ласковым, простодушным, а также преуспевающим. Быть плохим, притворившись, что ты хороший, — этот просто еще один оборот вокруг центральной оси, которая остается по-прежнему неизменной. Он “знал”, что не был их ребенком. Он “знал”, что по существу он плохой. Он “знал”, что они не знают, что он “знает” правду. На этом он продолжал основывать самого себя. Слова сестры: “Разве ты не знаешь, что Джек был твоим отцом?” — возымели такое действие, как будто кто-то выдернул ось, скреплявшую воедино весь мир. Когда обнаружилась иллюзорность его утраты иллюзий, то соломинкой, за которую он ухватился, чтобы его не засосало в бездну, было все то же: “Я плохой”. И еще: “Я забылся немного, но я наверстаю упущенное”.
В фантазии “Я плохой” содержится не столько комплементарная идентичность, сколько идентичность посредством интроективной идентификации, то есть смешение себя самого с “плохой матерью”. Нападения на жену заключали в себе нападения “в фантазии” на ре-проекцию этой “плохой матери”, а также на проекцию своей собственной “невинности”. Брайан ощущал их как проявления абсолютной “плохости”, направленные на абсолютную “хорошесть”. Он полностью был внутри фантазии и, следовательно, не мог видеть ее как таковую. Она была “бессознательна”. Его абсолютно плохая и абсолютно хорошая мать беспорядочно перепутывались друг с другом внутри него самого, а также в соотношении “он — и его жена”. Его полнейшая бессознательность относительно этого является для меня индикатором того, что с тех пор, как Брайана бросила мать, он утратил себя и больше уже не находил, несмотря на то, что со стороны выглядел совершенно нормальным, вплоть до того момента, когда на него внезапно “свалилось с неба” то самое “помрачение”.
Кто ты такой, тебе говорят другие. Вслед за этим ты либо подписываешься под данным определением, либо пытаешься от него избавиться. Просто не принимать в расчет то, что они говорят, практически невозможно. Можно пытаться не быть тем, кто, как ты “знаешь”, ты есть в самой своей основе. Можно пытаться вырвать из своего “я” эту “чуждую” идентичность, которой ты наделен или, может быть, заклеймен, и собственными усилиями создать для себя свою идентичность, которую ты попытаешься заставить других принять. Но какие бы превращения ни постигли ее в дальнейшем, первая идентичность социального толка присваивается другими. Нам говорят, кто мы такие, и мы учимся этим быть.
Когда тебе ничего не известно о своих настоящих родителях или, став взрослым, ты обнаруживаешь, что люди, считавшиеся твоими родителями, не являются ими, возникает вопрос: чувствовать ли себя лишенным таковой идентичности или радоваться, что счастливо от нее отделался. Чаще всего такие люди чувствуют неодолимую тягу узнать что-нибудь о своих родителях, особенно о своей матери. Мотивы здесь самые разнообразные, в том числе месть и ненависть, но, по-видимому, всегда присутствует допущение, что посредством установления своего биологического происхождения можно по-настоящему понять, кто ты есть на самом деле. Или, по крайней мере, обратное: если тебе не известны твои родители, ты не можешь знать самого себя. Один человек сказал: “Я книга, которая не имеет начала...” И все-таки изыскания на предмет того, кто же были твои родители, хотя и вполне понятны, но вряд ли способны как таковые привести тебя к тебе самому.
В “семейном мифе” заключена мечта о том, чтобы поменять других, тех, кто определяет “я”, так чтобы идентичность “я” можно было самоопределить, пере-определив других. Это попытка устроить так, чтобы чувствовать гордость вместо стыда, будучи сыном или дочерью этой матери или этого отца.
Джон
Джон был сыном проститутки и морского офицера. Он жил с матерью, пока ему не исполнилось шесть лет, после чего был переведен под опеку отца. Он попал в совершенно другой мир. Его отец, который не был женат, отдал его в школу, и дела Джона шли вполне успешно до тех самых пор, пока совершенно неожиданно он не завалил вступительный экзамен в университет. Вслед за этим его призвали на флот, но офицером он стать не смог. Отец, человек очень требовательный, был крайне расстроен тем, что сын потерпел неудачу при поступлении в университет, но еще больше его расстроила неудача Джона на офицерском поприще, и у него вырвалось замечание, что он просто не представляет, как у него вообще может быть такой сын. Когда в течение следующих нескольких месяцев Джон опозорился в качестве моряка, отец сказал ему прямо, что Джон ему больше не сын и теперь он понял, что никогда им и не был. Отец официально отказался от него.
В первые месяцы, как Джон оказался на флоте, он был замечен в том, что время от времени на него нападает тревожность, и в офицеры его не взяли как раз на том основании, что он страдает неврозом тревожности. Однако впоследствии его поведение получило название “психопатической делинквентности”, и это никак не вязалось с его “характером”, как он проявлялся до сих пор. Когда от него отказался отец, отклонение поведения переросло в то, чему дали название острый маниакальный психоз. Все его поведение выводилось из следующей посылки: он может быть кем угодно, по собственному желанию, достаточно щелкнуть пальцами.
Метод отцовского наказания сводился к тому, чтобы уничтожить его идентичность в качестве сына. Отец своего добился. То, что его “не признают своим”, этот Дамоклов меч, который висел над Джоном, в итоге обрушился на него. Ситуация Джона была такова, что вместо того, чтобы чувствовать: “Я сын моего отца, неважно, что я при этом делаю и нравится это ему или мне или нет”, — он рос с совершенно другим чувством: “Только тогда я буду сыном моего отца, если я преуспею в определенных вещах”. Джон должен был доказать, что он сын своего отца. Не имея другого твердого основания, он опирался на то, что нам заблагорассудилось называть бредом, на то, что он может быть тем, кем захочет. Однако посылка его отца только на первый взгляд кажется более здравой.
Вот что втолковывал ему отец: “Ты мой сын, если я говорю, что ты мой сын, и ты мне не сын, если я говорю, что ты мне не сын”. Джон заменил это следующим: “Я — это тот и только тот, кто, я говорю, я есть”.
Когда у него начался психоз, он еще не вполне пришел к пониманию, что истина где-то рядом. Но он приблизился к истине на один шаг по сравнению с прежним состоянием. Джону следовало еще понять, что он в ложной4 позиции, помещенный туда отцом, и эта позиция стала безвыигрышной5. Когда он был в состоянии принять как реальность тот факт, что кто он такой, не зависит от слов отца, он прекращал подставлять на место этого понимания некий самообман. Он осознавал, что вводил себя в заблуждение точно таким же образом, как это проделывал с ним отец.
Коренная ошибка его психоза вырастает из допущений, принятых им в допсихотический период. Его психоз представляется не столько reductio ad absurdum допсихотических допущений, сколько магическим заклинанием уже существующего абсурда, а именно, что “он есть тот, кто, его отец говорит, он есть”. Он отрицал это следующим образом: “Нет, я есть тот, кто, я говорю, я есть”. Но истинное здравомыслие лежит с совершенно другого бока: отрицание психотического отрицания ложной первоначальной посылки. Я есть не тот, кто они говорят, я есть, и не тот, кто я говорю, я есть.
Бинсвангер назвал маниакальное состояние мошенничеством, имея в виду, что здесь существует двойной обман. Тебя обманом лишают того, что тебе по праву принадлежит, внушая тебе, что ты нищий и попрошайка, а ты совершаешь ответный трюк, делая вид, что на самом деле ты не нищий, а принц. К счастью, другие не верят ни первому, ни второму.
Глава 7
Подтверждение и неподтверждение
В человеческом обществе, на всех его уровнях и во всех слоях, люди на практике повседневной жизни в той или иной степени подтверждают друг друга в личных качествах и способностях, и общество может определяться как человеческое лишь в той мере, в какой его члены подтверждают друг друга.
Основа человеческой жизни среди людей двуедина — это желание каждого человека быть подтвержденным другими людьми таким, как он есть, и даже каким он способен стать; а также естественная способность каждого человека подтверждать подобных себе в этом же отношении. То, что эта способность остается в огромной мере неразвитой, составляет поистине слабость и сомнительность человечества: действительно человеческое существует только там, где эта способность раскрыта. С другой стороны, конечно, пустая претензия на подтверждение, лишенная искренней приверженности тому, чтобы быть и становиться, вновь и вновь искажает правду жизни в отношениях между людьми.
Людям необходимо, и им это дано, подтверждать друг другу их личное бытие посредством подлинных соприкосновений; но сверх этого людям необходимо, и им это дано, прозревать другим, собратьям истину, которую душа обретает в борьбе, осветившуюся по-другому, и даже так быть подтвержденными.
Мартин Бубер
Полное подтверждение одного человека другим есть редко реализуемая идеальная возможность. На практике, как утверждает Бубер, подтверждение всегда существует “в той или иной степени”. Любое взаимодействие между людьми предполагает определенную степень подтверждения, по меньшей мере в том, что касается физических тел участников, даже если один человек убивает другого. Малейший знак узнавания со стороны другого уже подтверждает твое присутствие в его мире. “Нельзя изобрести более жестокого наказания, — писал Уильям Джеймс, — будь такая вещь возможна физически, чем выпустить кого-либо в общество и оставить абсолютно незамеченным всеми членами оного”.
Таким образом, мы можем считать подтверждение не только частичным и различающимся по способу, но и всеобщим и абсолютным. Результаты действия или взаимодействия можно рассматривать с точки зрения подтверждения или неподтверждения. Подтверждение может варьировать по интенсивности и широте охвата, количественным и качественным характеристикам. Поддерживая одни проявления другого, мы не поддерживаем другие, реагируя на них равнодушно, поверхностно, невнимательно и т.п.
Модальности подтверждения или неподтверждения могут разниться, например, подтверждение через ответную улыбку (визуальное), через рукопожатие (тактильное), через словесное выражение симпатии (аудиальное). Ответ, содержащий в себе подтверждение, релевантен инициирующему действию, он указывает на признание этого действия и соглашается с его важностью, по крайней мере, для самого инициатора. Реакция подтверждения — это прямой ответ, ответ “по существу дела” или “в том же разрезе”, что и инициирующее действие. Ответ, подтверждающий отчасти, не обязательно состоит в согласии, стремлении угодить или доставить удовольствие. И отказ может служить подтверждением, если он прямой, а не косвенный, признает инициирующее действие как факт, соглашаясь с его значимостью и правом на существование.
Существуют разные уровни подтверждения и неподтверждения. Действие может подтверждаться на одном уровне и не подтверждаться на другом. Некоторые формы “отвержения” предполагают ограниченное подтверждение — понимание того, что отвергается, и желание откликнуться на то, что отвергается. “Отвергаемое” действие воспринято, и такое восприятие показывает, что оно учитывается как факт. Прямое “отвержение” — это не перевод разговора на другую тему, высмеивание или лишение силы еще каким-либо способом. Оно не нуждается ни в том, чтобы недооценивать, ни в том, чтобы преувеличивать первоначальное действие. Оно не равняется безразличию или глухоте.
Некоторые стороны бытия отдельного человека в большей мере взывают о подтверждении, чем другие. Некоторые формы неподтверждения оказываются более губительными для развития “я”, чем другие. Можно обозначить их как шизогенные. Онтогенез подтверждения и неподтверждения только начал изучаться. Степень отзывчивости к проявлениям другого, адекватная, если мы имеем дело с младенцем, будет неуместна при взаимодействии с ребенком старшего возраста или взрослым. Некоторые периоды жизни могут быть отмечены переживанием большего подтверждения или неподтверждения, чем другие периоды. Совершенно разные качества и способности могут подтверждаться или не подтверждаться матерью, отцом, братьями, сестрами, друзьями. Одна и та же черта человека, отрицаемая одними, может поддерживаться кем-то другим. Некая часть или черта его “я”, “ложная” или та, которую он считает ложной, может активно и настойчиво подтверждаться одним или обоими родителями и даже всеми значимыми другими одновременно. Фактическая или переживаемая потребность в подтверждении/неподтверждении в различные периоды жизни варьирует, как в смысле определенных сторон бытия человека, так и в смысле модальности подтверждения/неподтверждения определенных сторон.
В настоящее время исследовано много семей (и не только тех, где один из членов признан психически больным), в которых есть недостаток настоящего подтверждения между родителями, а также ребенка родителями, по отдельности или вместе. При всей внешней неочевидности такое явление поддается объективному изучению. Обнаруживаются взаимодействия, характеризующиеся псевдоподтверждением, поведением, симулирующим подтверждение1. Притворное подтверждение работает на внешних признаках подтверждения. Отсутствие подлинного подтверждения, или псевдоподтверждение, может облекаться в такую форму, что вместо действительного ребенка, который не получает признания, родители подтверждают какую-то фикцию или выдумку, которую они считают своим ребенком. Специфическая семейная структура, выявленная в исследованиях семей шизофреников, включает в себя ребенка, не то чтобы совершенно заброшенного или даже явно травмированного, но ребенка, который, как правило, непреднамеренно подвергался весьма утонченному, но стойкому и упорному неподтверждению. Многолетнее отсутствие подлинного подтверждения облекается в форму активного подтверждения ложного “я”, так что тем самым человек, чье ложное “я” подтверждается, а реальное не подтверждается, помещается в ложную позицию. Человеку в ложной позиции неудобно, стыдно или страшно не быть фальшивым. Подтверждение ложного “я” происходит при том, что никто в семье не имеет ясного понимания настоящего положения дел. Шизогенный потенциал ситуации коренится, как кажется, в первую очередь в том, что она остается никем не признанной; и если мать, отец, какой-то другой член семьи или друг дома понимает происходящее, то об этом не говорится открыто и не делается попыток вмешаться — даже если такое вмешательство является всего лишь простой констатацией факта.
Давайте рассмотрим ряд ситуаций, содержащих подтверждение или неподтверждение, не вынося предварительного суждения, являются ли они шизогенными и до какой степени.
Бывает, что человека не признают как действующую силу. Атрибуция человеческим существам свойства быть источником действия представляет собой тот способ, с помощью которого мы отличаем людей от предметов, приводимых в движение силами, внешними по отношению к ним самим. У некоторых людей это качество бытия человека, посредством которого достигается ощущение, что ты имеешь полное право на собственные действия, в детстве не подтверждалось значимыми другими. Поучительно сопоставить наблюдения относительно того, каким образом родители обращаются с ребенком с “бредовыми высказываниями”, которые демонстрирует больной ребенок или же взрослый.
Джулия говорила, что она “колокол, в который звонят” (“tolled bell”, что звучит похоже на “told belle” — куколка, которой приказывают), что она “сделанный на заказ хлеб” (“tailored bread”, звучит как “bred” — порода, порождение). Наблюдая взаимодействие между Джулией и ее матерью, легко было заметить, что ее мать не подтверждала или не могла подтверждать активность со стороны Джулии. Она не способна была отвечать на спонтанные проявления и вступала во взаимодействие с Джулией, только если она, мать, могла инициировать взаимодействие. Мать посещала больницу ежедневно. И каждый день вы могли наблюдать Джулию, сидящую в полной пассивности, в то время как мать причесывала ей волосы, прилаживала бантики и заколки, пудрила ей лицо, подкрашивала губы помадой, накладывала тени, так что в конце концов перед вами представало нечто, больше всего похожее на красивую, в натуральный рост, но лишенную всякой жизни куклу, которой распоряжается (“told” — “tolled”) мать. Джулия, очевидно, была для своей матери “промежуточным объектом”, если использовать терминологию Винникотта. Кто-нибудь мог бы сказать: “Что же еще, кроме этого, делать матери, если ее дочь находится в кататонии?” Однако самое важное и примечательное, что именно эту пассивную, апатичную “вещь” мать и считала нормальной. Она реагировала на спонтанные действия со стороны Джулии с явной тревогой и считала их проявлением или дурного нрава, или безумия. Быть хорошей — это значило делать то, что тебе говорят (Laing, 1960,).
Дополнительные примеры
подтверждения и неподтверждения
1. Во время прямого наблюдения взаимодействий между матерью и ее шестимесячным младенцем фиксировались все случаи, в которых проявлялась улыбка. Прежде всего было отмечено, что мать и ребенок улыбаются друг другу довольно часто. Далее было отмечено, что мать в течение всего периода наблюдения ни разу не улыбнулась в ответ, когда первым улыбался ребенок. Тем не менее она вызывала у ребенка улыбку, улыбаясь ему сама, тормоша его и играя с ним. Если ей удавалось инициировать у ребенка улыбку, то она улыбалась ему в ответ, но если инициатором был ребенок, она отвечала скучным и хмурым взглядом (Brodey, 1959).
2. Маленький мальчик лет пяти бежит к своей матери, в руке у него большой жирный червяк, он говорит: “Мама, смотри, какой у меня огромный жирный червяк”. Она говорит: “Ты измазался, а ну, иди и немедленно приведи себя в порядок”. Этот ответ матери — яркий пример того, что Руэш (1958) называл соскальзывающим ответом.
Руэш писал:
“Критерии, определяющие соскальзывающий ответ, могут быть сведены к следующему:
l Ответ звучит невпопад начальному сообщению.
l Ответ обладает фрустрирующим воздействием.
l Ответ не учитывает намерения, стоящего за первоначальным сообщением, как его можно понять из слов, действий и целостного контекста ситуации. Ответ подчеркивает аспект ситуации, являющийся побочным” (Ruesch, 1958).
С точки зрения того, что чувствует мальчик, ответ матери, так сказать, звучит “ни к селу, ни к городу”. Она не говорит: “О, какой замечательный червяк”. Она не говорит: “Какой грязный червяк, нельзя брать в руки таких червяков, выброси его”. Она не выражает ни удовольствия, ни отвращения, ни одобрения, ни осуждения по поводу червяка, но ответ ее сосредоточен на чем-то, что мальчик совсем не имеет в виду и что не составляет для него сиюминутной важности, а именно, грязный ли он или чистый. Она могла хотя бы сказать: “Я не буду смотреть на твоего червяка, пока ты не умоешься”, или: “Меня не волнует, есть у тебя червяк или нет, мне важно, чистый ты или грязный, и ты мне нравишься, только когда ты чистый”. С точки зрения развития можно сказать, что мать игнорирует генитальный уровень, символизируемый большим толстым червем, и признает только анальный — чистоту или грязь.
В этом “соскальзывающем” ответе нет подтверждения того, что мальчик делает с его точки зрения, а именно, показывает маме червя. “Мальчик с червем” есть идентичность, которая может в дальнейшем облегчить возникновение идентичности “мужчина с пенисом”. Упорное отсутствие подтверждающего ответа по отношению к “мальчику-с-червем” может заставить мальчика сделать значительный крюк, прежде чем он дойдет до “мужчины-с-пенисом”. Может быть, он решит собирать червей. Может быть, он будет чувствовать, что вправе собирать червей, только если содержит себя в чистоте или только пока его мать ничего об этом не знает. Или он будет чувствовать, что самое важное — чистота и одобрение матери и что собирание червей совсем не имеет значения. Может быть, у него обнаружится боязнь червей. Как бы то ни было, можно представить, что хотя мать и не выразила явного неодобрения его обладанию червем, ее безразличие спровоцировало как минимум временное замешательство, тревогу и чувство вины у мальчика, и если такой ответ отражает стиль общения между ним и матерью в этот период его развития, то нет никаких сомнений, что стеснительность, чувство вины и тревоги, потребность вести себя вызывающе будут преградой между ним и истинным пониманием многих сторон бытия “мальчика-с-червем”, а также “мужчины-с-пенисом”.
Кроме того, поскольку в тех рамках, в которых воспринимает его мать, обсуждаются только вопросы грязного-чистого, плохого-хорошего и чистый приравнивается к хорошему, а грязный — к плохому, ему в какой-то момент придется ответить себе, являются ли эти вопросы решающими для него и есть ли необходимость такого приравнивания. Если он грязный, до него может дойти, что хотя мать говорила ему, что он плохой, он не чувствует за собой ничего плохого; и наоборот, что если он чистый, он не является неизбежно хорошим: он вполне может быть хорошим и в то же время грязным, или плохим и в то же время чистым, или даже не мучиться больше над этой головоломкой, комбинируя грязного-чистого-плохого-хорошего. Может случиться, что через эти определения и уравнения он будет себя идентифицировать и станет хорошим-чистым или плохим-грязным мальчиком, а затем мужчиной, игнорируя как прямо не относящиеся к делу все те аспекты и стороны своей жизни, которые не укладываются в данные категории.
3. Я начал сеанс с двадцатипятилетней женщиной, страдающей шизофренией. Она сидела на стуле на некотором расстоянии от меня, я же сидел на другом стуле вполоборота к ней. Примерно минут через десять, в течение которых она не двинулась и не произнесла ни слова, я начал уже забывать о ее присутствии и погрузился в себя. И вдруг я услышал, как она говорит очень тихим голосом: “О, пожалуйста, не уходите так далеко от меня”.
Психотерапевтическая работа с настоящими, “патентованными” шизофрениками — это отдельный предмет, и далее я предлагаю лишь несколько наблюдений по поводу подтверждения или неподтверждения в терапии.
Когда клиентка это сказала, я мог бы ответить по-разному. “Вы чувствуете, что я от Вас отдалился”, — прокомментировал бы кто-то из психотерапевтов. Этим не подтверждается и не отрицается достоверность ее “ощущения”, что я уже больше не “с” ней, но подтверждается факт того, что она переживает меня как отсутствующего. Признание самого “ощущения” не дает никакого определенного ответа относительно достоверности этого ощущения, а именно, отдалился ли я от нее действительно или нет. Другая возможность — это “интерпретировать”, почему она так пугается моего отсутствия, указав на ее потребность в том, чтобы я оставался “с” ней, как на защиту от собственного раздражения по поводу моего ухода. Можно истолковать ее просьбу как выражение потребности заполнить ее пустоту моим присутствием или использовать меня как “промежуточный объект” и т.п.
По моему мнению, важнее всего мне было безоговорочно подтвердить тот факт, что она совершенно верно заметила то, что я перестал “присутствовать”. Многие пациенты весьма восприимчивы к таким “уходам”, но они не уверены в надежности и тем более в полной здравости собственного чутья. Они недоверчивы к другим, но точно так же не могут довериться и собственному недоверию. Джилл, например, терзается тем, что она не знает, то ли это всего лишь “чувство”, что Джек полностью поглощен собой, делая в то же время вид, что он чрезвычайно внимателен и заботлив, то ли ей следует “доверять” своим ощущениям в том, что касается происходящего между ней и Джеком. Поэтому один из наиболее важных вопросов состоит в том, не возникает ли подобное недоверие к своим “ощущениям”, а также к свидетельствам других из постоянных противоречий внутри первичного узла (между эмпатической очевидностью ее атрибуций и свидетельством других относительно их чувств, между тем, как она переживает саму себя, и теми конструкциями, которые они подставляют на место ее переживания и ее намерений относительно них и т.п.), так что она оказывается попросту неспособной докопаться до чего-нибудь верного в себе хоть в каком-либо отношении.
Следовательно, единственное, что я мог сказать моей пациентке, это “Прошу прощения”.
4. Медицинскую сестру пригласили ухаживать за пациентом, страдающим гебефренной формой шизофрении с легкими проявлениями кататонии. Вскоре после их встречи сестра подала пациенту чашку чаю. И этот хронический больной, взяв чашку чаю, сказал: “Впервые в жизни мне наконец-то дали чашку чаю”. В последующем общении с пациентом наметился ряд доказательств сущей правды этого утверждения2.
Не так-то просто одному человеку дать чашку чаю другому. Если какая-то дама наливает мне чашку чаю, то это, возможно, лишь демонстрация нового чайника или сервиза, или попытка меня задобрить, чтобы что-нибудь от меня получить, или стремление произвести хорошее впечатление, или, быть может, желание заполучить во мне союзника в каких-то своих интригах против других. Она может ткнуть в мою сторону чашкой с блюдцем, после чего я должен схватить их, не мешкая ни секунды, пока у нее не отвалилась рука. Действие может быть механическим, в котором мое присутствие в нем остается инкогнито. Чашка чаю может быть подана мне без того, чтобы мне подали чашку чаю.
Наша чайная церемония заключает в себе простейшую и самую трудную вещь на свете — одному человеку, искренне оставаясь самим собой, дать на самом деле, а не по видимости, другому человеку, взятому в его собственном бытии, чашку чаю — действительно, а не по видимости. Этот больной хотел сказать, что в течение его жизни множество чашек чаю переходили из рук других в его руки, но, однако, в его жизни не было чашки чаю, которую бы ему действительно дали.
Некоторые люди более восприимчивы, чем другие, к тому, что кто-то не видит в них человека. Если кто-либо очень чувствителен в этом смысле, у него весьма серьезные шансы получить диагноз “шизофрения”. Фрейд говорил об истериках, как позже Фромм-Райхман о шизофрениках, что они хотят получать и давать больше любви, чем большинство людей. Можно сделать обратное заключение: если ты хочешь получать и давать слишком много “любви”3, ты рискуешь подпасть под диагноз “шизофрения”. Этот диагноз приписывает тебе неспособность давать или получать “любовь” так, как это делают взрослые люди. Если ты улыбнешься подобной мысли, это можно будет рассматривать как подтверждение диагноза, поскольку ты страдаешь “неадекватным аффектом”.
Глава 8
Негласная договоренность
Термин “collusion” (негласная договоренность, сговор), имеет родство со словами de-lusion (бред, заблуждение), il-lusion (иллюзия, обман чувств) и e-lusion (уклонение, увертка). “Lusion” происходит от слова “ludere”, значение которого варьирует в классической и современной латыни. Оно может означать “играть, резвиться”, “играть во что-то” или “потешаться, забавляться”, “разыгрывать, насмехаться, пародировать”, “обманывать”.
Бред (delusion) предполагает тотальный самообман. Иллюзия (illusion), как этот термин часто используется в психоанализе, предполагает самообман под воздействием страсти, но не включает в свою компетенцию столь полного самообмана, как бред (delusion).
Негласная договоренность (collusion) по смыслу перекликается с “игрой во что-то”, а также с “обманом”. Это “игра”, разыгрываемая двумя или большим количеством людей, посредством которой они обманывают самих себя. Весь “фокус” этой игры состоит в совместном и взаимозависимом самообмане. В то время как бред, уклонение и иллюзия могут вполне относиться и к одному человеку, негласная договоренность — это игра, как минимум, для двоих. Каждый участвует в игре другого, хотя и не обязательно до конца понимает свою роль. Существенная особенность этой игры состоит в том, чтобы ни под каким видом не признавать, что это игра. Когда один человек — преимущественно пассивная “жертва” интриги, обмана, манипуляции (его могут сделать “жертвой” за то, что он не играет “жертву”), такие отношения нельзя назвать “негласной договоренностью”. На практике не так-то просто определить, являются ли отношения “негласной договоренностью” и в какой мере. Однако попытки теоретического различения выглядят еще более безнадежными. Раб может как бы договориться с хозяином о том, что он раб, чтобы спасти свою жизнь, вплоть до того, что будет делать то, что ему приказывают, даже если это губительно для него самого.
В отношениях между двумя людьми может существовать подтверждение или подлинное дополнение одного другим. И все же открыться другому тяжело, не имея доверия к самому себе и упования на другого. Оба жаждут признания со стороны другого, но оба мечутся между доверием и недоверием, надеждой и безнадежностью, и оба довольствуются в итоге мнимыми актами подтверждения, основанными на притворстве. Для этого оба должны играть в игру “негласной договоренности”.
Вот ситуация, которую предлагает нам рассмотреть Мартин Бубер (1957б):
“...Представьте, что двое людей, в жизни которых господствуют видимости, сидят и разговаривают между собой. Назовем их Питер [я] и Пол [д]1. Давайте составим перечень различных конфигураций, которые можно отсюда извлечь. Во-первых, здесь мы имеем Питера, каким он хочет выглядеть перед Полом [я ——>
(д ——> я)], и Пола, каким он хочет выглядеть перед Питером
[д ——> (я ——> д)]. Затем здесь присутствует Питер, каким он на самом деле выглядит перед Полом, то есть представление Пола о Питере [д ——> я: я ——> (д ——> я)], которое чаще всего нисколько не совпадает с тем, что Питер хотел бы представить Полу; а также обратная ситуация [я ——> д: д ——> (я ——> д)]. Далее, мы находим Питера, как он видится самому себе [я ——> я], а также Пола, как он видится самому себе [д ——> д]. Наконец, здесь присутствуют Питер и Пол во плоти, два живых существа, а вместе с ними шесть призраков, которые создают настоящую мешанину, когда эти двое беседуют между собой. И где же здесь может быть место для живого общения между людьми?”
Посмотрим на эти отношения как на игру в имитацию отношений. Здесь может присутствовать попытка со стороны Питера или Пола образовать свою собственную идентичность путем достижения определенной идентичности для другого. Питер считает, что Полу необходимо видеть его в определенном свете, для того чтобы он, Питер, чувствовал себя тем человеком, каким ему хочется быть. Питер нуждается в том, чтобы Пол был каким-то определенным человеком, для того чтобы Питер был тем, кем он желает быть. Чтобы Питер мог видеть в себе определенного человека, Пол должен видеть в нем этого человека. Если Питеру нужно, чтобы его ценили, то Пол должен казаться тем, кто его ценит. Если Пол не выглядит тем, кто его ценит, Питер делает вывод, что Пол не способен его оценить. Если Питеру нужно быть благородным и великодушным, Пол должен безоговорочно признавать благородство и великодушие Питера. Если Пол, вместо того чтобы быть благодарным Питеру за то, что Питер делает для него, говорит, что Питер просто хочет продемонстрировать свое превосходство тем, что он человек, который способен что-то давать или что он пытается вымогать благодарность у Пола, Питер может порвать отношения с Полом или сделать открытие, что Пол не может позволить себе принять чью-либо помощь. Пол может видеть Питера или Питер — Пола более реалистично, чем тот способен видеть себя. Потребность в таких видимостях порождена фантазиями каждого из них двоих. Эта потребность в видимостях предполагает не то, что оба скрывают свое настоящее “я”, которое им втайне известно, но то, что ни Питер, ни Пол не обладают каким-либо истинным пониманием ни себя, ни своего собрата.
Существуют различные реакции, до сих пор относительно неиссследованные систематическим образом в психологии межличностного общения, на то, что другой видит тебя не так, как ты видишь себя сам. При расхождении между собственной идентичностью Питера, я ——> я, и его идентичностью для Пола, д ——> я, можно вполне ожидать такой реакции Питера, как раздражение, гнев, тревога, чувство вины, отчаяние, полная безучастность. Подобное расхождение служит подпиткой для некоторых отношений или цементом, как бы скрепляющим некоторых людей друг с другом. В таких отношениях это “больной вопрос”, который они постоянно решают друг с другом, будучи не в силах остановиться. Другие люди, напротив, разрывают отношения при малейшем намеке на подобное расхождение.
Такого рода больной вопрос характерен для ситуации, когда существует несовместимость между тем “дополнением”, которым Питер хотел бы быть для Пола, и тем “дополнением”, которым Пол хотел бы быть для Питера. Мужчина хочет, чтобы его жена относилась к нему как к сыну, а она, в свою очередь, хочет, чтобы он о ней по-матерински заботился. Их желания не стыкуются, они, так сказать, не “скроены” друг под друга. Они ненавидят друг друга или же презирают друг друга, или терпят слабость другого, а может быть, они признают потребность другого, не удовлетворяя ее. Однако если Джек упрямо настаивает на том, чтобы видеть в Джилл свою мать, и ведет себя с ней соответственно, оставаясь глухим к тому, что она ощущает себя маленькой девочкой, расхождение между его концепцией Джилл и ее самопереживанием может разверзнуться пропасть полной несовместимости, через которую окажется не способна перебросить мост никакая негласная договоренность.
Здесь мы имеем нечто иное, чем то, что обозначается психоаналитическим термином “проекция”. Один человек не использует здесь другого лишь как крючок для навешивания проекции. Он старается сделать все, чтобы найти в другом (или же индуцировать в нем) настоящее воплощение этой проекции. Негласная договоренность с другим человеком необходима для “дополнения” идентичности, которую “я” чувствует настоятельную потребность поддерживать. Тут может переживаться своеобразное чувство вины, характерное, как я думаю, для этого расхождения. Отвергая негласную договоренность, человек испытывает чувство вины за то, что он не становится воплощением того, что требуется другому, в качестве дополнения к его идентичности. Однако, если он все же уступит, даст себя заманить, то окажется отчужденным от себя самого и, следовательно, виновным в предательстве себя самого.
Если он не поддается страху, испытывая на себе постоянный нажим другого, если он возмущен, что его “используют” и каким-либо образом протестует против негласной договоренности, то под гнетом ложной вины он может стать, по его собственному ощущению, невольным соучастником или жертвой другого, хотя “быть жертвой” тоже может являться актом негласной договоренности. Однако его могут склонять и к принятию того ложного “я”, которое в нем самом страстно стремится к жизни и которое он воплотил бы с великой радостью, особенно если другой отвечает взаимностью и становится воплощением желаемой фикции. Мы отложим на время более детальный анализ различных форм и приемов привлечения и принуждения, открытых или подспудных, согласующихся взаимным образом или взаимонесовместимых, которые один человек применяет к другому, а также широкого спектра возможных форм ответного переживания и поведения.
Заключение негласной договоренности происходит всегда, когда “я” обнаруживает в другом (а другой обнаруживает в “я”) того, кто готов подтверждать “я” в его ложном “я”, претендующем на реальность. Тогда образуется прочное основание для совместного бегства от правды и истинной полноты жизни, которое может длиться довольно долго. Каждый из них находит себе другого для того, чтобы подкреплять собственный ложный взгляд на себя самого и придавать этой видимости некое сходство с реальностью.
Если же существует третья сторона, она всегда представляет угрозу негласной договоренности двоих. Сартр с геометрической точностью, напоминающей самого Спинозу, изобразил в пьесе “При закрытых дверях” (1946) адский круговорот негласно-договорных пар в неком неразрешимом треугольнике. Пьеса “При закрытых дверях” в обнаженном виде показывает мучительную безысходность попыток сохранить идентичность, когда вся твоя жизнь строится таким образом, что сколько-нибудь приемлемая идентичность-для-себя-самого нуждается в негласной договоренности. Трое умерших, две женщины и мужчина, оказываются вместе в одной комнате. Мужчина — трус, одна из женщин — типичная самка, другая — умная лесбиянка. Мужчина боится, что он трус и что другие мужчины не будут его уважать. Гетеросексуальная женщина боится, что она недостаточно привлекательна для мужчин. Лесбиянка боится, что женщины ее не полюбят. Мужчине нужен другой мужчина или, что даже лучше, интеллигентная женщина, чтобы она видела в нем смельчака и тогда он мог бы обманывать себя в том, что он смелый. Он готов, насколько может, быть кем угодно для каждой из этих женщин, лишь бы только они пошли с ним на “сговор”, заверяя его, что он смелый. Однако первая женщина способна видеть в нем лишь сексуальный объект. Другая же, лесбиянка, ничего от него не хочет, кроме одного — чтобы он был трусом, потому что именно так ей нужно видеть мужчин, чтобы иметь себе оправдание. Обе женщины также ни с кем не могут образовать устойчивой негласной договоренности: лесбиянка — потому, что она находится в обществе мужчины и гетеросексуальной женщины, гетеросексуальная женщина — потому, что она не способна быть гетеросексуальной женщиной без того, чтобы что-либо “значить” для какого-нибудь мужчины. Но этому мужчине не до того. Каждый из них не может поддерживать эту свою “игру”, лишенный негласной договоренности, и ему остается мучиться и терзаться собственными тревогой и безысходностью. При таком положении дел “l’enfer, c’est les autres”2.
Жан Женэ (1957б) в пьесе “Балкон” обращается к теме фальши человеческих отношений, основанных на негласно-договорном и комплементарном совпадении идентичности-для-себя и идентичности-для-другого. Большая часть действия разворачивается в борделе. Девушки в борделе являются проститутками (pro-stitute — за, вместо поставленный) в буквальном смысле этого слова. Они работают символом того, что требуется клиенту, чтобы сам клиент хоть на время мог стать тем, кем он желает быть. Три таких идентичности, нуждающихся в негласной договоренности с проститутками, представлены Генералом, Епископом и Судьей. Епископ нуждается в кающемся, чтобы его осуждать, Судье нужен вор и палач, Генералу — его кобыла.
Судья объясняет девушке, предназначенной быть воровкой, для того чтобы он был судьей: “Ты должна быть образцовой воровкой, если я образцовый судья. Если ты будешь ненастоящей воровкой, то и я становлюсь каким-то фальшивым судьей. Понятно?”
Он говорит палачу: “...Без тебя я был бы ничто... — И затем воровке: —...И без тебя тоже, крошка. Вы двое так безупречно меня дополняете. Ах, что за прелестное трио мы составляем!”
“Судья (воровке): Но у тебя есть преимущество перед ним, как, впрочем, и передо мной — ты предшествуешь. Существование меня как судьи происходит от существования тебя как воровки. Достаточно, чтобы ты отказалась... — но не вздумай этого сделать! — ...чтобы ты отказалась быть тем, кто ты есть, чтобы я перестал быть... чтобы я исчез, испарился. Лопнул как мыльный пузырь. Улетучился. Был перечеркнут. Отсюда: добро, происшедшее от... Но тогда... Что тогда? Но ты ведь не откажешься, не так ли? Ты не откажешься быть воровкой? Это было бы нехорошо. Это было бы преступно. Ты лишила бы меня существования! (умоляюще) Скажи, крошка, любовь моя, ты не откажешься?
Воровка (кокетливо): Кто знает!
Судья: Как? Что ты такое говоришь? Ты отказала бы мне? Говори мне — где? И еще говори — что ты украла?
Воровка (сухо, вставая): Не буду.
Судья: Скажи мне, где. Не будь жестокой.
Воровка: Извольте мне не тыкать!
Судья: Мадемуазель... Мадам... Я Вас прошу. (Бросается на колени.) Видите, я Вас умоляю. Не оставляйте меня в напрасной надежде, я хочу быть судьей. Если не будет судей, что будет с нами, но если не будет воров...”
Люди используют публичный дом для превращения того, что без чужой помощи было бы лишь иллюзорной или бредовой идентичностью, в “идентичность по сговору”. Мадам (хозяйка борделя) перечисляет те “идентичности”, ради которых ее клиенты наведываются в бордель.
“...Есть два французских короля с их церемониями коронования и всеми ритуалами; адмирал на корме своего идущего ко дну миноносца; епископ, без устали бьющий поклоны; судья, отправляющий свои служебные функции; генерал верхом на своей лошади; мальчик из алжирских капитулянтов; пожарный, который тушит пожар; коза, привязанная к колышку; хозяйка, возвращающаяся с рынка; вор-карманник; ограбленный человек, связанный и избитый; святой Себастьян; фермер на гумне... шефа полиции нет... нет и колониальных чиновников, зато есть миссионер, умирающий на кресте, а также Христос собственной персоной”.
Единственный человек, Начальник полиции, не посещает бордель, чтобы стать кем-то другим. Он чувствует, что его жизнь была бы полностью состоявшейся, когда кто-то другой захотел бы взять на себя его идентичность, стать Начальником полиции. Он страдает, так как никто не хочет играть в него, ибо в истории борделя его идентичность — единственная, на которую до сих пор еще не было покупателя. Каждое человеческое существо служит ему дополнением. И это его больше не радует. Он единственный не желает чьей-то другой идентичности. Только когда кто-то другой идентифицирует себя с ним, он получит то, чего ему не хватает, и тогда сможет уйти из жизни.
Бордель принимает вызов, брошенный Революцией. Революция — это значит покончить с иллюзией и негласной договоренностью. Революция — это возможность стать самим собой, быть серьезным, быть тем, кто ты есть. Одна из девушек борделя совершает побег, чтобы стать возлюбленной Роджера, вождя Революции. Но ее призвание — быть проституткой. Она не привыкла попросту делать то, что она делает. Она не способна совершать действие ради него самого. Если она перевязывает рану, то непременно играет в то, что она перевязывает рану, делается ли это с нежной заботой или на скорую руку и без особых чувств. Вожди Революции осознают, что на борьбу и на смерть народ требуется вдохновлять. Вождям нужен какой-то символ. Они не могут дальше поддерживать восстание, не прибегая к иллюзии. Они решают использовать Шанталь, девушку из борделя, с ее прирожденным свойством воплощать мужские иллюзии. Роджер принципиально не согласен с этим использованием Шанталь, но его доводы отклоняются. Член Революционного Комитета обращается к Роджеру:
“Люк: Меня твои речи не убедили. Я продолжаю настаивать, что в определенных случаях ты должен использовать оружие противника. Что это является необходимым. Энтузиазм по поводу свободы? Это хорошая вещь, и я ее не отвергаю, но было бы еще лучше, если бы свобода была хорошенькой девушкой с нежным голосом. В конце концов, какая тебе разница, если мы берем баррикады, следуя за самкой как свора разгоряченных самцов во время течки? И что из того, если смертный стон сольется со стоном желания?
Роджер: Мужчины не поднимают восстания для того, чтобы броситься в погоню за самкой.
Люк (с тем же упрямством): Даже если погоня ведет их к победе?
Роджер: Тогда их победа уже ущербна. Их победа заражена триппером, выражаясь в твоем стиле...”
Шанталь воплощает то, что Роджер хочет разрушить. И все же он любит в ней то, что сделало для нее возможным прийти в бордель, а также ее неспособность не быть символом и воплощением того, за что умирают мужчины.
“Шанталь: Бордель принес мне, по крайней мере, какую-то пользу, потому что именно он преподал мне искусство игры и притворства. Мне надо было играть так много ролей, что я знаю их почти все. И у меня было столько партнеров...”
Способность Шанталь слишком заманчива для революционных вождей, чтобы не попробовать обратить ее в свою пользу, подписав тем самым приговор своей Революции.
“Марк: Мы собираемся использовать Шанталь. Ее работа — быть воплощением Революции. Вдовы и матери нужны нам, чтобы оплакивать мертвых. Дело мертвых — взывать о мщении. Дело наших героев — радостно умирать... Дворец будет захвачен сегодня вечером. С балкона Дворца Шанталь будет петь и воодушевлять народ. Время размышления миновало, пришла пора силы и яростного сражения. Шанталь воплощает борьбу; народ ждет ее, чтобы она явила собой победу.
Роджер: И когда мы придем к победе, чего мы этим добьемся?
Марк: У нас еще будет время об этом подумать”.
Серьезность Революции оборачивается карнавалом. Агент Королевы, свой человек в борделе, говорит:
“Я не ставлю под сомнение их смелость или их ум, но мои люди — в самой гуще революционных событий, и в некоторых случаях — это сами повстанцы. Теперь простой народ, опьяненный своими первыми победами, достиг того уровня экзальтации, когда с легким сердцем покидают действительное сражение ради принесения бессмысленных жертв. Такой переход произойдет без труда. Народ больше не занят борьбой. Он предается разгулу”.
Между тем Революция, казалось бы, совсем уже победила, Королева, Епископ, Судья и Генерал были убиты или просто исчезли, если только они вообще когда-то существовали. Но агент Королевы уговаривает Мадам (хозяйку борделя) нарядиться Королевой, а троих клиентов — Епископом, Судьей и Генералом. Переодетые таким образом, они появляются на балконе борделя. Они едут по городу. Их фотографирует пресса, у них берут интервью. Хотя каждый из трех клиентов получает девушку из борделя для подыгрывания ему (Епископ — грешницу, Судья — воровку, Генерал — лошадь), когда все люди вокруг начинают вести себя с ними как с Епископом, Судьей и Генералом, фальшивый Епископ становится настоящим Епископом, фальшивый Судья — настоящим Судьей, Генерал — Генералом, а Мадам становится Королевой, в таком же истинном смысле, в каком любой человек только и есть Епископ, Генерал, Судья, Королева.
Герой пьесы, если он есть, это Начальник полиции. Никто все еще не выдал себя за Начальника полиции, но он осознает, что явная слабость в мускулах дает ему знать, что настал момент, когда можно уже закончить деятельность, сесть и спокойно ждать смерти. Он единственный человек, который реально действует на протяжении пьесы. Другие, будь они хоть чуть-чуть последовательны, должны были бы признать, что даже если бы они были тем, кто они есть, — Епископом, Судьей, Генералом, — они все равно оставались бы просто мошенниками.
Начальник полиции бросает им вызов:
“Начальник полиции: Вы же ни разу не совершали ни одного действия ради того, чтобы что-либо сделать, но всегда для того, чтобы это действие, не нарушая общей картины, создавало образ Епископа, Судьи, Генерала...
Епископ: Это и так, и не так. Ибо каждое действие содержало в себе самом зародыш чего-то нового.
Начальник полиции: Прошу прощения, Монсиньор, но этот зародыш чего-то нового тотчас же сводился на нет тем фактом, что действие было зациклено на само себя.
Судья: Зато наше достоинство увеличивалось”.
Начальнику полиции не отказано в счастливом исходе. Он, к своему полному удовлетворению, получает возможность, прежде чем пьеса заканчивается, пронаблюдать, как вождь Революции, Роджер, приходит в бордель и становится первым, кто когда-либо пожелал сыграть Начальника полиции. Чтобы сделать это, он должен вступить в сообщество обитателей Мавзолея, ради постройки которого тяжко трудился целый народ, где могилы свято хранятся среди могил, памятники — среди памятников, гробницы — среди гробниц, все в мертвом безмолвии, где витают лишь холод смерти и тяжкие вздохи тех, кто трудился как раб, чтобы выдолбить этот камень, в котором запечатлено свидетельство, что его любят и что он — победитель.
Женэ оставляет открытым вопрос, может ли здесь вообще быть — и в каком смысле — нечто иное, чем негласно-договорное притворство. Существует или же нет эта возможность “видеть вещи такими, как они есть, вглядываться в мир беспристрастно и принимать ответственность за этот пристальный взгляд, что бы он там ни обнаружил”? Однако последнее слово принадлежит Мадам.
“Ирма: В скором времени придется все начинать сначала... опять зажигать везде свет... одеваться... (Слышен крик петуха.) Одеваться ... Ах, маскарад! Заново распределять роли... взваливать на себя свою... (Она останавливается на середине сцены лицом к публике.) Подготавливать ваши... судьи, генералы, епископы, камергеры, бунтовщики, согласные, чтобы бунт заглох. Я собираюсь достать костюмы и подготовить свои мастерские на завтра... А сейчас вам пора домой, где все, не сомневайтесь, будет еще фальшивее, чем здесь... Вам пора уходить. Вы пройдете направо, проулком... (Она тушит оставшийся свет.) Уже утро. (Треск пулемета)3”.
Вопросы, которыми Сартр и Женэ задаются в своих пьесах, затрагивают нас всех в каждый момент нашей жизни. Рассмотрим ряд примеров, взятых из практики аналитической группы и отражающих поиск в другом “недостающей половины”, необходимой для поддержания негласно-договорной идентичности4.
Группа включала в себя семерых мужчин в возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти лет. За единственным исключением это были вполне преуспевающие представители среднего класса. Джек владел гаражом. Билл работал в бакалейном бизнесе своего отца. Исключение составлял Ричард, многократно проваливавшийся на экзаменах и живший теперь у матери, в надежде скопить силы для еще одной попытки стать дипломированным бухгалтером.
На первых же встречах группа повела себя исходя из предположения, что они собрались здесь, чтобы слушаться аналитика. Он должен был говорить им, что делать, задавать им вопросы и предлагать советы. Когда он ограничивался молчанием или короткими замечаниями относительно происходящего, они думали (эту идею внушил им Джек, который казался наиболее независимым), что ему нужно выждать, чтобы помочь им, и что лучший способ помочь им — это говорить о самих себе. Джек взял на себя роль лидера, он задавал вопросы, вызывал на откровенность, направлял дискуссию (в основном в русло разговоров о женщинах), сглаживал неловкости и говорил немного о своих собственных чувствах, главным образом касающихся женщин. Группу это разогревало, за исключением Билла. Он вступал в разговор только по собственной инициативе, не очень часто и никогда не заговаривал первым с Джеком. Если Джек задавал ему вопрос, он отвечал односложно. Джека, казалось, ничуть не волновало, что Билл не поддается его руководству, подобно другим.
На пятом занятии происходила обычная дискуссия о женщинах, возглавляемая Джеком, в которой участвовали все, кроме Билла. Последний, явно некстати, вмешался вдруг в разговор и с горячностью заявил о своем отвращении к футболу и толпам болельщиков, посещающих футбольные матчи. Футбол — это игра для дураков, а футбольные фаны — тупицы, с которыми он не способен почувствовать ничего общего. Все остальные ходили на футбольные матчи. Джек также ходил, однако не ради футбола, сказал он, но потому, что ему хочется быть “вместе с ребятами”. Билл продолжал говорить о том, как он жаждет встретить кого-нибудь с близкими интересами, кого-нибудь, кто так же, как он, ценил бы искусство, кто не был бы так безнадежно скучен и туп, как все остальные люди, начиная с его отца, который не может оценить его по достоинству. Джек подхватил разговор, заметив, что художники любят говорить об искусстве друг с другом. Билл сказал: “Да, я немного художник. Балуюсь живописью”. Тогда Джек было заметил, что футбольные болельщики тоже любят говорить о футболе, но Билл пропустил это мимо ушей и продолжал говорить о понимании живописи. Тогда Джек заявил, что только очень хорошо образованные люди способны по-настоящему ценить искусство. Это худшее, что в такой ситуации можно было сказать Биллу, для которого отсутствие у него формального образования являлось больным местом. Однако хрупкий мир был восстановлен, когда все согласились с предположением Джека, что каждый способен по-настоящему понимать музыку.
Билл хотел быть в своих глазах и в глазах других людей человеком высшего сорта, человеком с изысканным вкусом, но он никогда не мог избавиться от ощущения, что для тех, кто действительно что-то собой представляет, он всего лишь ничтожество. Он чувствовал, что никогда не сможет “на самом деле” стать кем-то, поскольку, что бы он сам по себе ни делал, он создан из той же плоти и крови, что и его родители, которые “пусты, глупы и неинтересны”. Во мне он, однако, видел все признаки и свойства идеального “другого”. Будучи аналитиком, я был могущественным, образованным, умным и понимающим. К несчастью, я был также способен отличить истину от фальши.
Отчаявшись в своей собственной подлинности, он ощущал пустоту, и поэтому ему нужно было получить что-нибудь от меня. Он то и дело высказывал неудовольствие по поводу того, что “в этой технике” аналитик дает ему недостаточно. Аналитик, этот “идеальный другой”, также разочаровывал. Его “приемы” “не вызывали энтузиазма”, были “пусты, глупы и неинтересны”. Чем больше он чувствовал пустоту, отчаявшись в том, чтобы быть самим собой, тем более аналитик становился бесчувственным и глухим к его нуждам существом, в котором было воплощено все то, чего ему не хватает. Мужской атрибут аналитика превратился в символ всех свойств аналитика, к которым он жаждал приобщиться. Все это нашло выражение в пассивном гомосексуальном влечении ко мне как к его идеальному другому, в котором он признавался в адресованном мне письме. Остальные в группе исключали по отношению к ним любую возможность пассивной гомосексуальной ориентации, нажимая на то, что они мужчины, то есть те, для кого подходящим другим может быть исключительно женщина. Их постоянные разговоры о женщинах, как бы создавая присутствие женщин в их отсутствие, были своеобразной “защитой” против внутригрупповых гомосексуальных напряжений.
Как и Билл, Джек испытывал чувство, что родители ничего ему не дали, или же дали мало, или не то, что нужно. Тем не менее он активно стремился к тому, чтобы самому быть хорошим отцом и мужем, а также хорошим пациентом. Он хотел все время давать, и роль, которую он на себя взял, демонстрировала эту его потребность. Однако самого Джека тревожило, что он постоянно злился и обижался на тех, кого он “любил”, а точнее на тех, кому он чувствовал себя обязанным благодетельствовать. Он говорил о своем “неврозе” как о том, что он не может перестать обижаться и негодовать на тех, кого он любит, за то, что он им дает.
Эти двое, Билл и Джек, постепенно начали образовывать негласно-договорные отношения, основанные на подтверждении друг друга в их ложной позиции. Джек подтверждал Билла в его иллюзорном превосходстве и ложном предубеждении, что он по существу своему никчемен. Билл подтверждал иллюзорное представление Джека о том, что он “дающая сторона”. Негласно-договорное подтверждение ложного “я” — совершенная противоположность истинному подтверждению. Их близость была имитацией истинной дружбы. Джек, как ему казалось, был независимым, трезвым, практичным и приземленным бизнесменом, с ярко выраженной гетеросексуальностью, хотя женщины для него были лишь теми отсутствующими гипотетическими существами, которых он обсуждал в мужской компании. Он не любил оставаться в долгу и был очень щедр.
Билл грезил о далеких мирах, где вещи были бы прекрасны, а люди тонки и изысканны, а не вульгарны и грубы, как здесь и теперь. Люди не смыслят ничего в изяществе и красоте. Что, казалось бы, мог дать ему Джек, и наоборот, он — Джеку?
Для того, кто их слушал, ясно было одно: когда они говорили друг с другом, то это всегда был разговор между “Джеком”, как он сам себя представлял, и “Биллом” в его собственном представлении. Каждый из них подтверждал другого в его иллюзорной идентичности. Каждый утаивал от другого то, что могло бы это разрушить. Так продолжалось до тех пор, пока Билл не начал делать намеки, что он испытывает по отношению к Джеку сексуальные чувства. Этого Джек не мог принять.
Группа вела себя так, “будто бы” этот союз имел сексуальный характер и, таким образом, отрицала, реальность этого, наряду с другими аспектами негласной договоренности, которые группа предпочитала не замечать. Джек спросил Билла, о чем тот думает, когда занимается мастурбацией. После некоторого упрашивания Билл ответил, что иногда он думает о мужчинах. Джек быстро сказал, что он всегда думает о женщинах, и тотчас же сверился с остальными, что они делают то же самое. Таков был его способ “отвадить” Билла. В этом единственном пункте негласная договоренность, казалось, заканчивалась; впрочем, сам по себе “отвод” был частью негласной договоренности. Сексуальный объект для Джека должен был быть женского пола, и ему непереносимо быть сексуальным объектом для мужчины.
Другие члены группы каждый по-своему реагировали на эту неловкую негласную договоренность. Наиболее очевидным образом проявил тревогу один человек, который всегда считал, что его родители причиняли друг другу вред, и боялся обидеть свою жену. Он особенно остро воспринимал агрессию Джека по отношению к Биллу и его неприятие Билла. Во время одной из их, если так можно выразиться, садомазохистских пикировок, Джек нападал на Билла за то, что тот не ходит на футбольные матчи. Тот человек вмешался, чтобы сказать, что он чувствует себя так же нехорошо, как вчера вечером во время просмотра боксерского матча по телевидению, когда один боксер страшно избил другого.
Единственным, кто, казалось, хотел, чтобы все это продолжалось до бесконечности, был Ричард. Ричард был ярко выраженным шизоидом. Как-то раз, незадолго до описываемых событий он, оставив на время свои учебники, отправился на прогулку в парк. Был чудесный вечер, ранняя осень. Сидя на скамейке, глазея на влюбленные парочки и любуясь закатом, Ричард вдруг почувствовал, что он одно со всем этим, со всей природой, со всем космосом. Он вскочил и в панике помчался домой. Вскоре это прошло и он опять “стал самим собой”. Ричард мог сохранять свою идентичность лишь в изоляции. Отношения угрожали утратой идентичности — подавлением, растворением, поглощением, потерей своей отдельности. Он мог быть только с самим собой, но любил смотреть на людей, когда они вместе. Это его завораживало. Это казалось столь невозможным для него, столь недосягаемым, что он почти не ревновал и не завидовал. Его внутреннее “я” было пустым. Он жаждал быть вместе с кем-нибудь, но не мог сохранять отдельность, если к кому-то привязывался. По его выражению, он присасывался, как пиявка, если вступал в близкие отношения. Он был “по ту сторону” жизни. Он мог только наблюдать. Когда Джек задавал ему “объективно” безобидный вопрос, он отвечал, что чувствует, что его существованию угрожают вопросы, и тотчас же спрашивал Билла, что думает тот. Он мог лишь подглядывать, быть вуайеристом. Ясно, что подобное негласно-договорное партнерство — это нечто, на что Ричард был не способен. Играть в такую игру — это в любом случае означает делать что-то вместе с другим. Это предполагает определенную степень свободы от страха уничтожения, который фактически устраняет возможность любых отношений, с кем бы то ни было и в каком бы то ни было смысле5.
В корне пресечь поиск негласно-договорного дополнения ложной идентичности — вот чего требовал Фрейд, когда говорил, что анализ следует проводить в условиях максимальной фрустрации, причем в самом строгом смысле этого слова.
Отдельного рассмотрения заслуживает место терапевта в подобной группе и место, которое, как считают члены группы, они занимают по отношению к нему.
Одна из базовых функций настоящей аналитической или экзистенциальной терапии — это обеспечение обстановки, в которой как можно меньше затруднена способность каждого члена группы к раскрытию собственного “я”.
Не вдаваясь во всестороннее обсуждение этого, прокомментируем один из аспектов позиции терапевта. Намерение терапевта заключается в том, чтобы не позволять себе негласного договора с пациентами, не вписываться в их систему фантазии, а также не использовать пациентов для воплощения какой-либо собственной фантазии.
Ту группу неоднократно захватывала фантазия, выражавшаяся в вопросе, располагаю ли я ответом на их проблемы. Они решали проблему, есть у меня “ответ” или нет, и если он есть, то как его из меня извлечь. В мою задачу входило не подыгрывать ни групповым иллюзиям, ни разрушению этих иллюзий, а также пытаться артикулировать лежащие в основе происходящих событий системы фантазии.
Терапевтическое исскуство в огромной своей части — это тот такт и та степень прозрачности, с которыми аналитик способен раскрыть, какими путями и способами негласная договоренность поддерживает иллюзии и маскирует заблуждения. Господствующей фантазией в группе может быть то, что терапевт знает “ответ” и что если бы “ответ” был у них, они не страдали бы. Поэтому задача терапевта напоминает задачу мастера дзэн: показать, что страдание не вызвано тем, что у них нет “ответа”, что оно есть само состояние желания, предполагающее существование такого рода ответа и фрустрацию от того, что его никак не заполучить. Барт (1955) сказал об учении мастера дзэн Цзы Юня, жившего около 840 года до нашей эры, что его цель состояла в том, чтобы дать вопрошающему понять, “что настоящая трудность не столько в том, что его вопросы остаются без ответа, сколько в том, что он продолжает пребывать в том состоянии ума, которое заставляет его их задавать”. Иллюзия ли, крушение ли иллюзии, равно могут базироваться на некой фантазии. Где-нибудь существует “ответ” или “нет ответа” где бы то ни было. Хоть так, хоть этак — одно и то же.
Терапия, исключающая негласную договоренность, не может достичь цели, не фрустрируя те желания, которые порождены фантазией.
Глава 9
Ложная и безвыигрышная
позиции
1. По собственной вине
Nam in omni actione principaliter intenditur ab agente, sive necessitate naturae sive voluntarie agat, propriam similitudinem explicare; unde fit quod omne agens, inquantum buiusmodi, delectatur, quia, cum omne quod est appetat suum esse, ac in agendo agentis esse quodammodo amplietur, sequitur de necessitare delectatio... Nihil igitur agit nisi tale existens quale patiens fieri debet.
Dante1
Говорят: “Он поставлен в ложное положение”, “Он в безвыигрышном положении”. Люди ставят себя и других и, в свою очередь, могут быть поставлены другими в ложное или безвыигрышное положение. Развивая теорию отчуждения в этом смысле, было бы очень разумно обратить внимание на два набора расхожих речевых оборотов, указывающих на положение, в которое можно поставить себя или другого, и на положение, в которое ты можешь быть поставлен другими. Это обыденное и распространенное убеждение, что человек способен поставить себя в ложное или безвыигрышное положение, а также быть поставленным в ложное или безвыигрышное положение другими. “Положение” употребляется здесь в экзистенциальном смысле, а не в смысле экономического или социального положения или же положения в какой-либо иной иерархической системе.
Повседневная речь изобилует выражениями о “роли себя самого” в переживании человеком “места” или “позиции”. Говорят, что человек “вкладывает себя в” свои действия или что его самого нет “в” том, что он говорит или делает. Обычное дело — рассматривать действие человека как то, посредством чего он теряет себя, забывает себя или выходит из себя. Нам может казаться, что он “полон собой” или “вне себя”, что он “пришел в себя” после того, как “был сам не свой”. Все эти выражения есть атрибуции того, в каком отношении человек находится к собственным действиям, и используются они вполне “естественно”, как язык “человека с улицы”. Главное в них в конечном итоге — это та степень, в которой действие видится или чувствуется как потенциирующее бытие или экзистенцию деятеля или в которой действие, как полагал Данте в приведенной выше цитате, делает явным скрытое “я” деятеля (даже если изначальным намерением деятеля не было самораскрытие). Для экзистенциального анализа действия насущным является вопрос, в какой мере и каким образом деятель раскрывается или скрывается (сам того желая или сам того не желая) в действии и посредством действия.
Повседневная речь дает нам определенные ключи, которым разумно бы было следовать. Она намекает на существование основополагающего закона или принципа, согласно которому человек ощущает, что движется вперед, когда вкладывает себя в свои действия, считая это эквивалентом самораскрытия (вы-явления своего истинного “я”). Если же это не так, то он чувствует, что “движется вспять”, “топчется на месте” или “ходит по кругу” и т.п. “Вкладывая себя” в то, что я делаю, я теряю себя, и, делая это, я в то же время как будто становлюсь самим собой. Действие, которое я совершаю, ощущается как то, что является мной, и я становлюсь “мной” в таком действии и через такое действие. Здесь также имеется смысл, в котором человек “не дает себе угаснуть” своими действиями; каждое действие может быть новым началом, новым рождением, вос-созданием самого себя, само-осуществлением.
Быть “аутентичным” — это быть верным себе, быть тем, кто ты есть, быть “подлинным”. Быть “неаутентичным” — это не быть самим собой, это изменять самому себе, быть не тем, чем ты являешься, быть неискренним. Мы склонны связывать категории истины и реальности, говоря, что искреннее и подлинное действие обладает реальностью и что человек, привычно использующий действие в качестве маскировки, лишен реальности.
В повседневной речи, а также в более систематичной теории, которая, перефразируя замечание Уильяма Джеймса, есть не что иное, как чересчур настойчивая попытка мыслить определенно, “аутентичное” действие или “неаутентичное” действие может рассматриваться под разными углами зрения, и каждый раз на передний план выходят свои черты.
Интенсификация бытия деятеля через самораскрытие, через превращение латентного “я” в очевидное, есть смысл ницшеанской “воли к власти”. Слаб тот человек, кто вместо того, чтобы наращивать себя в подлинном смысле, маскирует свою немощь, подавляя и контролируя других, идеализируя физическую силу или половую потенцию в ограниченном смысле способности к эрекции и эякуляции.
Действие, которое является искренним, в котором я раскрываю себя и через которое наращиваю свою мощь, переживается мною как несущее полноту бытия. Это единственная действительная полнота, о которой я способен всерьез говорить. Это действие, которое является “мной”: в этом действии я есть “я сам”. Я вкладываю самого себя “в” него. Настолько, насколько я вкладываю себя “в” то, что я делаю, я становлюсь самим собой через это деяние. Я знаю также, что верно обратное, когда я переживаю “пустоту” или меня преследует ощущение бессмысленности. Такие впечатления о себе самом заставляют меня рассматривать и другого подобным образом. “Бурная” деятельность в другом вызывает во мне подозрение. Я чувствую, что он чувствует в своих действиях нехватку некого внутреннего смысла; что, хватаясь за внешние формулы и предписания, он ощущает свою пустоту. Я ожидаю, что такой человек будет завидовать другим и обижаться. Если исходя из того, что было мною замечено о самом себе, я вижу в нем человека, который себя не осуществляет, не вкладывая себя в свое собственное будущее, я буду настороже к тому, как он попытается заполнить свою пустоту. Некоторые заполняют себя другими (интроективная идентификация) или живут опосредованно, через жизни других людей (проективная идентификация). Их “собственная” жизнь останавливается. Они ходят по кругу, топчутся на месте, идут, но никуда не приходят.
Экзистенциальная феноменология действия имеет дело со всеми изгибами и поворотами поведения человека, взятого в его качестве вкладывающего себя (различным образом, более или менее) в то, что он делает. Она занимается прояснением того, на чем основываются такого рода суждения и атрибуции, неважно, касаются ли они самого себя или другого. Психиатр может с тем же успехом основывать диагноз “шизофрения” и на том, что он считает отношением пациента к своим действиям, и на самих по себе действиях, взятых им как чистое “поведение”. Если психиатр или патопсихолог под воздействием иллюзии, что он видит другого человека чисто “объективно”, отказывается подвергнуть самой придирчивой проверке диагноз, основанный на “симптомах” и “признаках”, то эти клинические категории обрекают его на выхолощенное и искаженное видение другого. Такие “клинические” категории, как “шизоидный”, “аутистический”, “эмоционально выхолощенный” и др., предполагают существование достоверного, надежного, безличного и беспристрастного критерия для совершения атрибуций по поводу отношения человека к его собственным действиям. Но нет такого надежного или правильного критерия.
Подобное положение — не простой недосмотр, и делу вряд ли помогут какие-либо исследования “достоверности”. Отчужденность нашей собственной теории от наших собственных действий коренится в глубине нашей исторической ситуации.
В повседневной речи мы используем, между прочим, два понятия “правды”. Одно — это “количество истины” в утверждении, отношение слов к вещам. Если А говорит, что “это есть так-то и так-то”, то обычно то, что определяется как “количество истины” в утверждении “это есть так-то и так-то”, никак не связано с отношением А к этому утверждению. Однако в обыденном общении для нас зачастую важнее определить, в каком отношении находится А к этому утверждению, говорит ли А правду или же лжет, или, быть может, обманывает сам себя и т.п.
Хайдеггер (1949) противопоставлял естественно-научной концепции истины понимание истины, которое он обнаружил у кого-то из досократиков. В естественной науке истина состоит в соответствии, adaequatio, между тем, что происходит in intellectu, и тем, что происходит in re, между структурой системы символов “в уме” и структурой событий “в мире”. Иная концепция истины обнаруживается в греческом слове aґlhґqeia. В этой концепции истина или правда — это буквально то, что не утаивает себя, то, что обнажает себя без всяких покровов. Эта концепция имплицитно содержится в таких выражениях, как “говорить правду”, “лгать”, “притворяться”, “лицемерить” на словах или на деле, — то есть в практике межличностного общения присутствуют постоянные попытки оценить “позицию” человека по отношению к его собственным словам и поступкам.
Когда действия и поступки другого рассматриваются под углом зрения этой последней разновидности истины или фальши, то говорится, что человек правдив или “верен себе самому”, если есть “ощущение”, что он имеет в виду то, что говорит, или говорит то, что имеет в виду. Его слова или другие его проявления есть “правдивое” выражение его “действительных” переживаний или намерений. В промежутке между такой “истиной” и откровенной ложью лежит пространство самых необычайных и тончайших двусмысленностей и запутанности в человеческом самораскрытии или сокрытии себя. Мы берем на себя смелость говорить: “Его улыбка его выдает”, или: “Это всего лишь напускное”, или: “Это звучит правдиво”. Но что открывается, что скрывается, а также кому и от кого — в улыбке Джоконды, в “чем-то среднем между серьезностью и шуткой” ангела Блейка, в беспредельном пафосе или апатии Арлекина Пикассо? Лжец обманывает других, не обманывая себя. Истерическое лукавство с самим собой опережает лукавство с другими. Действия актера — это не “он сам”. Лицедей, самозванец, подобный Феликсу Крулю у Манна, растворившемуся в тех ролях, которые он играет, — это тот, кто эксплуатирует разрыв между “я” и внешними проявлениями и является жертвой этого самого разрыва. Никогда нет окончательной уверенности, что мы способны к правильной атрибуции в том, что касается отношения другого к его действиям. Гегель писал: “...По лицу человека видно, придает ли он серьезное значение тому, что говорит или делает. Но и обратное, то, что должно быть выражением внутреннего, есть в то же время сущее выражение и потому само попадает под определение бытия, которое абсолютно случайно для обладающей самосознанием сущности. Поэтому оно, конечно, есть выражение, но вместе с тем выражение в смысле знака, так что для выражаемого содержания характер того, с помощью чего выражается внутреннее, совершенно безразличен. Внутреннее в этом проявлении, можно сказать, есть невидимое, которое видимо, но это внутреннее не связано с этим проявлением; оно в такой же мере может проявляться в чем-нибудь другом, как и какое-нибудь другое внутреннее может проявляться в этом же. Лихтенберг поэтому прав, когда говорит: “Допустим, что физиогномист уловил однажды человека, но достаточно последнему принять твердое решение, чтобы опять сделаться непостижимым на тысячелетия”2.
“Я иду в Дом моего Господина”, — ответил бы раб-христианин на оклик римского воина. Такого рода двусмысленность играет на разделенности между человеком и человеком, столь неумолимой, что ни любовь, ни самое совершенное переживание единения не ликвидируют ее полностью и навсегда.
Когда слова человека, его жесты, действия раскрывают его действительные намерения, то говорят, что они подлинны, что они неподдельны, как может быть подлинной, неподдельной монета. Его хмурый неодобрительный взгляд, слово поддержки, улыбка удовольствия — подлинная валюта его “я”.
Действиям, своим собственным и чужим, может приписываться, что они открывают деятеля или же укрывают его, что они “сильные” или “слабые”, “несут полноту бытия” или “опустошают”; наполняют “реальностью” существование деятеля или делают его более “нереальным”, более созидательным или более разрушительным.
Человек, который не открывает себя, или тот, кто, открывая себя, остается непонятым и “неувиденным” другими, может в отчаянии обратиться к иным методам самораскрытия. Эксгибиционист демонстрирует свое тело, часть тела, какую-либо высоко ценимую функцию или умение, пытаясь преодолеть изоляцию и одиночество, преследующие того, кто чувствует, что его “настоящее” или “истинное” “я” никогда не открывалось другим и никогда не было подтверждено другими. Человек, который под действием непреодолимого влечения выставляет на обозрение свой пенис, подменяет жизненное раскрытие раскрытием через этот “предмет”. Анализ такой личности может продемонстрировать, что вовсе не этой вещью он хотел бы повергнуть других в изумление, но самим собой, чьи действия “неубедительны”, “дуты”, “нереальны” и никого не впечатляют. Он хочет выразить через свой половой орган то, что он мнит своим истинным “я”. Но вместо того, чтобы сделать свое латентное “я” явленным и очевидным и таким образом придать своему бытию “силу”, он замыкает себя внутри (подавляет себя) и выставляет наружу свой пенис.
Человек в ложной позиции может не знать, что он пребывает “в” подобной позиции. Только в той степени, в какой он не полностью “в” этой позиции, в какой он не до конца отчужден от “собственного” опыта и “собственных” действий, он может переживать свою позицию как ложную. Вероятно, без этого осознания происходит какая-то остановка в “жизни”. Лишенный реального будущего, которое было бы его собственным, он может быть в том последнем отчаянии, которое, по словам Кьеркегора, не ведает, что оно есть отчаяние. Он в отчаянии, потому что утратил “свое собственное” будущее, так что не может по-настоящему уповать ни на какое будущее. Человек в ложной позиции теряет точку отсчета в себе самом, из которой он мог бы направиться и устремиться, другими словами, спроецировать себя в будущее. Он не находит себе места. Он не знает, где он и куда идет. Он не может прийти ни к чему, как бы ни старался. В отчаянии не существует разницы между одним местом и другим и одним временем и другим. Будущее вытекает из настоящего, настоящее вытекает из прошлого, а прошлое не изменить.
Подобные осознания прорываются в снах. Выше мы уже отмечали, что неважно, сколь лихорадочно передвигается человек с места на место, занимается бизнесом, другими делами: если все это “фальшь”, то “он” в экзистенциальном плане не сдвигается с мертвой точки. Он “ходит по кругу”. Как ни старается бежать, он остается все время на том же месте. Вот у такого человека был следующий сон:
“Я находился на берегу моря. Кругом песок и голые скалы. Я был один. Я бросился в море, плыл и плыл, до тех пор, пока на исходе сил не выбрался на другой берег, где опять увидел песок и голые скалы. Я снова был один. Я понял, что это то же самое место”.
Человек, который видел это во сне, внешне преуспевал. Экзистенциально, сколько бы ни плавал, он оказывался все там же.
Параноидный бред в своем самом распространенном варианте представляет идею существования заговора, направленного против “я”. “Я” приписывает другим намерение вытеснить его с того места, которое “я” занимает в мире, сместить и заместить его. Каким образом это должно быть достигнуто, часто остается неясным и “несистематизированным”.
В ранней повести Достоевского “Двойник” главный герой Голядкин пишет письмо своему сослуживцу:
“В заключение прошу Вас, милостивый государь мой, передать сим особам, что странная претензия их и неблагородное фантастическое желание вытеснять других из пределов, занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их место (курсив мой), заслуживают изумления, презрения, сожаления и, сверх того, сумасшедшего дома; что, сверх того, такие отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная, скажу более: совершенно безнравственная, ибо, смею уверить вас, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенные насчет своих мест, чисто нравственны.
Во всяком случае честь имею
пребыть вашим покорным слугою,
Я. Голядкин”3.
Достоевский не только дает феноменологию того, как Голядкин вытесняется с “места”, которое он занимает самим своим бытием в мире, и в последствии замещается двойником, он показывает, как тесно связано это “бредовое состояние” с собственным тайным стремлением Голядкина не быть самим собой. Это собственное его намерение, которое он приписывает другим. Он сам вытесняет себя с того места в мире, на которое ему дает право само его бытие.
Перед тем эпизодом, когда Голядкин впервые встречает своего двойника “сырой и ветреной петербургской ночью”, Достоевский пишет:
“...Если б теперь посторонний, незаинтересованный какой-нибудь наблюдатель, взглянул бы так себе, сбоку, на тоскливую побежку господина Голядкина, то и тот бы разом проникнулся всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет. Да! Оно было действительно так. Скажем более: господин Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться” (курсив мой).
После встречи со своим двойником Голядкин открывает для себя, что этот человек всеми возможными способами вытесняет его из его местоположения в бытии, пока наконец полностью не занимает его место в мире. Как раз перед тем, как его увозят в лечебницу для душевнобольных, Голядкин мельком видит своего “зловредного близнеца”, и у него возникает впечатление, что он “теперь, по-видимому, вовсе не был зловредным и даже не близнецом господину Голядкину, но совершенно посторонним и крайне любезным самим по себе человеком”.
Все это время, когда он чувствовал, что этот другой полностью вытесняет его с его места в мире, когда ему грезилось, что весь Петербург населен другими Голядкиными, он сам целенаправленно стремился к уничтожению себя, стремился не быть самим собой. Сей замысел, скрытый в самом сердце его бытия, был неизвестен даже ему самому, был тайной, которая никак не давалась в руки, которую он никак не мог разгадать. Иной раз, бывало, он переживал себя так: “Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдержать...” И даже в этот момент, когда он почти что не существует, когда он пришел к полному краху, он вновь стремится испробовать еще один способ не быть собой, в последней попытке исправить ситуацию.
“Оно и лучше, — подумал он, — я лучше с другой стороны, то есть вот как. Я буду так — наблюдателем посторонним буду, да и дело с концом, дескать, я наблюдатель, лицо постороннее — и только, а там, что ни случись — не я виноват. Вот оно как! Вот оно таким-то образом и будет теперь”. Положив воротиться, герой наш действительно воротился, тем более, что, по счастливой мысли своей, ставил себя теперь лицом совсем посторонним. “Оно же и лучше: и не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало... вот оно как!”
На практике никогда нельзя делать поспешных выводов. В работе Лемерта (1967), единственной в своем роде, описан целый ряд случаев, в которых было исследовано реальное значимое окружение людей с параноидным бредом. С точки зрения Лемерта, вокруг людей, которые чувствуют, что против них злоумышляют, значительно чаще, чем принято думать, существует нечто вроде негласного сговора. Перекрестные атрибуции, порождающие и усиливающие друг друга, как отражения в системе зеркал, в подобных случаях действительно чрезвычайно сложны и запутанны, и странно, что до сих пор было так мало попыток продолжить исследования в направлении, предложенном Лемертом (см. Scheff, 1967 и Laing и Esterson, 1964).
2. Индуцированные другими
Там где ты, возникает место.
Рильке
Детей должно быть видно, но не слышно.
Можно поставить себя самого в ложное и в конечном счете безвыигрышное положение. Можно быть также поставленным в ложное и в конечном счете безвыигрышное положение действиями других.
Разговорная речь опять-таки снабжает нас множеством выражений: поставить кого-либо на место, загнать в рамки, загнать в угол, поставить в неловкое положение, отправить на все четыре стороны, завинтить гайки, установить дистанцию, выбить почву из-под ног, затюкать, скрутить в узел, поймать на чем-либо, сбить спесь, прижать к стенке, загнать в ловушку, поймать в капкан, заткнуть рот и т.п.
Чтобы понять в полной мере чье-то переживание своего “положения”, очевидно, необходимо знать не только его собственные действия, но и действия других и то, как другие представлены в его собственном воображении и фантазии.
“Пространство” действий, которым человек, по его ощущению, обладает, зависит и от того пространства, которое он дает себе сам, и от того пространства, которое задается ему другими.
В качестве очень наглядной иллюстрации приведем сообщение одного полицейского, наблюдавшего за маленьким мальчиком, который бегал вокруг квартала. Когда этот мальчик пробегал мимо в двадцатый раз, полицейский наконец спросил, что он делает. Мальчик ответил, что он убегает из дома, но отец не позволяет ему переходить дорогу! “Свободное пространство” этого мальчика было ограничено, так сказать, “интериоризацией” родительского запрета.
Пространство — геометрическое и метафорическое, и ребенка, и взрослого — структурируется во многом под воздействием других. Это происходит все время тем или иным образом и является “общим местом”, трюизмом, и необходимость напомнить об этом появляется тогда, когда феноменология пространства не отдает должного этому фактору4. Рассматривая тот вклад, который вносят другие в экзистенциальное положение человека (в его различных аспектах), мы обнаружим, что ряд ранее возникших соображений сходится воедино в представлении о “ложной” и “безвыигрышной” позициях.
Чтобы понять ту “позицию”, из которой кто-либо исходит в своей жизни, необходимо знать изначальное ощущение своего места в мире, с которым происходило его становление. Понимание своего места в мире в определенной степени развивается в рамках того места, которое задается человеку другими, составляющими первоначальный узел его окружения.
Каждое человеческое существо, будь то ребенок или взрослый, требует определенной значительности в глазах другого, то есть места в мире какого-либо другого человека. Взрослые и дети ищут определенного “положения” в глазах других, положения, задающего пространство для действий. Большинство людей вряд ли выбрали бы неограниченную свободу внутри узла личностных отношений в обмен на полное безразличие кого бы то ни было к тому, что они делают. Разве кто-нибудь выберет себе свободу, если все, что он делает, не имеет никакого значения ни для кого? Похоже, что это универсальная человеческая потребность — стремиться занять место в мире хотя бы одного-единственного другого. И может быть, величайшее утешение в религии — это сознание, что ты живешь перед Лицом Другого. Большинство людей в некоторый момент своей жизни ищут переживания (неважно, было ли оно у них в ранние годы или нет), что они занимают первое, если не единственно важное место, в жизни по крайней мере одного человека. Как утверждалось ранее, любая сколько-нибудь серьезная теория отношений между мужчиной и женщиной не может не принимать во внимание распространенное наблюдение, что оба они ищут другого не только для того, чтобы любить и быть любимым, но другого, с которым бы чувствовалось, что ему доставляет радость то, что его любят. Вообразите себе идеальный роман без этой последней составляющей. Джилл любит Джека. Джек любит Джилл. Джилл знает, что Джек любит Джилл. Джек знает, что Джилл любит Джека. Но Джек говорит, что ему все равно, любит его Джилл или нет. Пока он любит ее, остальное не имеет значения. Что при этом будет испытывать Джилл?
Человек с типичными параноидными идеями отношения принимает на свой счет невнятное бормотание толпы на улице. Взрыв хохота за его спиной в баре раздается в ответ на шутку, отпущенную в его адрес. Когда же случается узнать подобного человека поближе, как правило, обнаруживается, что то, что его терзает, это не столько бред отношения, сколько болезненное подозрение, что он никому не нужен, что вообще никто никак к нему не относится.
Все мысли параноика непрерывно занимает и мучает его обычно прямая противоположность тому, что на первый взгляд кажется наиболее очевидным. Его преследует то, что он является центром вселенной для всех остальных, но в то же время он озабочен мыслью, что никогда не был на первом месте в кругу привязанностей какого-либо человека. Он зачастую склонен к одержимости ревностью — той холодной ревностью, которую описал Минковский (1933) в своих исследованиях параноидных состояний — ревностью без любви, возникающей в принципиально отличном от обычного “жизненном” пространстве. Неспособный переживать себя значимым для кого-то другого, он иллюзорно создает для себя важное место в мире других. Другие видят его как живущего в своем собственном мире. Но ирония заключается в том, что это и так, и не так. Ибо присутствует и ощущение, что он живет не то чтобы в собственном мире, но в полагаемом им незаполненном месте, которое он не занимает в мире других. Он кажется глубочайшим образом замкнутым на самом себе, но чем более замкнутым на самом себе он представляется, тем более он пытается убедить себя самого, что является центром их мира.
Молодой человек по имени Питер (Laing, 1960) был одержим чувством вины, потому что он занимает место в мире, даже в физическом смысле. Он не мог осознать, принять для себя как реальность, что он обладает правом как-то существовать для других. Неспособный принять как реальность свое действительное наличие, он заполнял эту брешь в осознании самого себя переживаниями из области фантазии, которые становились со временем все более и более бредовыми.
Характерной особенностью его детства было то, что его присутствие в мире в основном игнорировалось. Когда родители Питера занимались любовью, они не придавали значения тому факту, что он находится с ними в одной комнате. О нем заботились в бытовом отношении, в том смысле, что он был накормлен, одет и никогда физически не изолировался от родителей в ранние годы жизни. Но в то же время с ним постоянно вели себя так, как если бы он “реально” не существовал. Находиться в одной комнате со своими родителями и чувствовать, что тебя игнорируют, не подчеркнуто, а просто от полного равнодушия, было, наверное, хуже физической изоляции. Ибо сколько он себя помнил, за одно только свое присутствие или желание присутствовать для других он испытывал чувство вины и неловкости. Вместо того чтобы принять как реальность ощущение собственного наличия для других, он выработал бредовую форму ощущения своего наличия для других. Он был уверен, что для того, чтобы сделать свое присутствие ощутимым, он должен был бы пойти на такие крайности, что никто бы не захотел иметь с ним дела, так что он стал все усилия в своей жизни направлять на то, чтобы быть никем.
Самые ранние сцены, запечатлевшиеся в памяти этого человека, и вытекающий из них прототип триадических ситуаций в его фантазии характеризовались не столько ревностью и возмущением с его стороны и последующими чувством вины и тревогой, но скорее чувством стыда и безнадежности, что он, по всей видимости, никоим образом не способен что-либо значить для своих родителей. Он ощущал себя всего лишь еще одной деталью обстановки их жизни, о которой они заботились, как заботились о другом своем имуществе.
У Питера (обозначим его как я), с его собственной точки зрения, не было места в мире, и он равно не верил, что занимает место в мире какого-либо другого человека (д). Ситуация схематически была следующей: на взгляд я взгляд д на него заключается в том, что д его не видит. На основе этих разрывов в экзистенциальной ткани его, я, идентичности им создается бредовая форма его наличия для другого — д. Он жалуется, что другим кажется, что он издает зловоние.
Для параноидной личности типичным является жаловаться на ту точку зрения на я, которую я приписывает д, я ——> (д ——> я).
Личность испытывает не недостаток присутствия другого, но недостаток собственного присутствия для другого — как другого. Ей не дает покоя другой, не ведущий себя никаким образом по отношению к ней, не желающий ни соблазнить ее, ни совершить над ней насилие, ни украсть у нее что-нибудь, ни задушить, ни поглотить, ни уничтожить ее каким бы то ни было образом. Другой-то здесь, вот только его самого здесь нет для другого. Ошибочно утверждать, что он проецирует на другого собственную алчность и ненасытность. Для такого рода людей скорее обыкновенно чувствовать себя чрезвычайно алчущими, а также испытывать вместе с алчностью зависть. Все это есть вторичные, третичные и четверичные витки спирали, которая отнюдь не берет начало от конституциональной зависти. Каждый из нас начинает с того, что он конституционально жив. Мне ни разу не попадался кто-либо, полный жизни, как бывает большая часть младенцев, как минимум в первые недели после рождения, кто завидует жизни в другом создании. Полный жизни младенец восхищается и наслаждается жизнью. Жизнь играет с жизнью, и это является органичным.
Рассмотрим теперь, как другие словом и делом уничтожают жизнь.
В последние десять лет проведен ряд исследований в этой области, и здесь я намерен обсудить три подобные работы.
В статье Сирлза (1959) “Пытаясь свести другого с ума”, одном из первых научных вкладов в изучение этого предмета, перечисляется шесть типов сведения человека с ума: “каждый из этих приемов направлен на то, чтобы подорвать доверие человека к собственным эмоциональным реакциям и собственному восприятию реальности”. Они могут быть сформулированы следующим образом:
1. Я вновь и вновь привлекает внимание к таким сторонам личности д, которые д слабо осознает и которые совершенно не соответствуют тому человеку, каковым считает себя д.
2. Я стимулирует д сексуально в той ситуации, в которой искать удовлетворения было бы катастрофичным для д.
3. Я подвергает д стимуляции и фрустрации одновременно или быстро их чередует.
4. Я относится к д одновременно на не связанных между собой уровнях (например, сексуальном и интеллектуальном).
5. Я в пределах одной и той же темы радикально меняет эмоциональный тон с одного на другой (т.е. сначала “серьезно”, а затем “в шутку” говорит об одном и том же).
6. Я сохраняет тот же эмоциональный регистр, переключаясь с одной темы на совершенно другую (например, вопрос жизни и смерти обсуждается в том же тоне, что и самое тривиальное происшествие).
С точки зрения Сирлза, “борьба” за сведение другого с ума преимущественно происходит на бессознательном уровне, но один компонент в комплексе патогенной взаимной связанности находится полностью вне контроля со стороны обоих участников.
Вообще “инициация любого межперсонального взаимодействия, ведущего к активации разных сторон его личности, противоречащих друг другу, имеет тенденцию доводить его до безумия (то есть шизофрении)”. Мне представляется, что эта формулировка несправедлива по отношению к приведенным Сирлзом фактическим данным. Сказать, что инициация любого межперсонального взаимодействия, ведущего к обострению эмоционального конфликта в другом человеке, имеет тенденцию доводить его до безумия, это значит недостаточным образом ограничить специфику обсуждаемого вопроса. Можно по-разному ставить другого перед двумя (или более) конфликтующими линиями поведения. Предполагать, что способствование конфликту само по себе имеет тенденцию дезинтегрировать личность, поставленную в ситуацию конфликта, значит, по-моему, путать конфликт, который может делать отчетливей бытие личности, с тем, что может подтачивать и разрушать “я”, если оно не обладает исключительными возможностями и средствами с этим справляться.
Приемы, которыми пользовалась Лаура в стриндберговском “Отце”, чтобы поколебать самоуверенность Капитана, весьма убедительны, но они действуют лишь на того, кто обладает слабой сопротивляемостью к ним. Тут открывается широкое поле для исследования приемов сопротивления или приемов, направленных на совладание с шизогенными ситуациями. Техника промывания мозгов (brainwashing), которую Сирлз сравнивает с шизогенной активностью, а также приемы сопротивления промыванию мозгов лишь отчасти относятся к обсуждаемому вопросу. Те, кто используют brainwashing, пытаются разрушить идеологию жертвы и заменить ее новой идеологией, они не стремятся свести жертву с ума. Если же это происходит, то, значит, они не достигли своей цели — замены одной конструкции на другую.
Более специфичным является межперсональное действие, стремящееся запутать или мистифицировать (Laing, 1965). Тут человека лишают ясного понимания, “кто” он такой, “кто” такой есть другой и в рамках какой ситуации они пребывают. Он перестает понимать, “в каком положении” он находится.
Все примеры, которыми Сирлз иллюстрирует различные типы сведения другого с ума, как раз такого порядка. Например, мужчина, у которого постоянно вызывает вопросы “приспособляемость” младшей сестры его жены, в результате чего у той нарастает тревожность. Придираясь к своей золовке, он вновь и вновь привлекает внимание к сторонам ее личности, не соответствующим тому человеку, которым она сама себя считает. Поскольку и психотерапевты тоже делают это, то возникает вопрос, когда подобный прием идет на пользу, а когда нет.
Это чрезвычайно важный тип межперсонального разобщения. Система самоатрибуции женщины, ее “картина себя” (я ——> я) разобщена со взглядом другого на нее, как это предполагают возражения и вопросы мужчины. Такое межперсональное разобщение не заставляет личность обязательно подвергать саму себя расщеплению, если только такая личность не чувствует, что она обязана подчиняться точке зрения на нее другого, занимать то положение, которое, прямо или косвенно, приписано ей другим. Если личность уже не знает, “в каком положении” она находится, то подвергать сомнению “приспособляемость”, приписывать фальшь действиям “приспособления” — значит очень и очень сильно запутывать. В других обстоятельствах это могло бы быть проясняющим. Тут, пожалуй, запутаешься, если другой “обвиняет” тебя в неприспособленности и в то же самое время “бросает тень сомнения” на реальность действий “приспособления”, как если бы он обвинял тебя одновременно и в том, что ты неприспособлен, и в том, что ты приспособлен.
Поощрение другого сексуально, в контексте, в котором запрещено само сексуальное удовлетворение пробужденного сексуального чувства, включает в себя опять-таки не только конфликт, но и путаницу, а именно недоумение и сомнение относительно того, как должна быть определена сама “ситуация”.
Сирлз отмечает, что во множестве случаев “мы располагаем сведениями о том, что один из родителей пациента-шизофреника вел себя по отношению к ребенку как соблазнитель, тем самым подпитывая в последнем острейший конфликт между сексуальными потребностями, с одной стороны, и неотвратимым возмездием Супер-Эго — с другой. Это обстоятельство можно рассматривать как порождающее конфликт у ребенка между его стремлением к возмужанию и раскрытию его собственной индивидуальности, с одной стороны, и, с другой стороны, — его регрессивным желанием оставаться в инфантильном симбиозе с родителем, даже за счет того, что свои сексуальные устремления, которые составляют козырную карту в игре самореализации, он вкладывает в эти регрессивные отношения”.
Это опять похоже на особый род разобщения, при котором человек не способен достаточно ясно увидеть “реальную” суть вопроса, стоящего перед ним. Для ребенка суть ситуации может выглядеть так: “Люблю я мою маму или нет?”, “Что я должен делать, чтобы поддержать ее?”, “Не буду ли я эгоистом, если не отвечу на ее любовь?”, “Не буду ли я неблагодарным, если не уступлю тому, чего она от меня хочет?”. “Реальная” суть вопроса может пройти мимо него. Реальный выбор, выбор по существу, который стоит перед ним, является примерно следующим: “быть самим собой”, заплатив за это потерей симбиотических отношений с родителем, или сохранить симбиоз за счет потери автономии. Проблема эта предельно ясна. Но редко можно найти ее предельно ясное осознание. Обычно она скрывается за пеленой системы фантазии, которую разделяют члены семьи. Эта система фантазии, ее содержание и сама модальность фантазии часто являются очевидными для наблюдательного постороннего. Что касается содержания фантазии, то оно нередко бывает отчасти известно и действующим лицам. Но что они крайне редко ясно осознают, это его модальность как фантазии. Мать говорит дочери, которая, поделившись какой-то своей проблемой со школьной учительницей, впервые в жизни поведала о себе кому-то другому, кроме своей матери: “Вот увидишь, какие неприятности ты себе наживешь, если будешь рассказывать посторонним такие вещи. Никто не любит тебя так, как я, и никто не понимает тебя, как я”. Дочь приходит к уверенности, что все люди в мире, кроме ее матери, посторонние и все отношения с этими посторонними, включая отца, чреваты опасностью. Дочь не может позволить себе потерять отношения с матерью, поскольку убеждена и чувствует, что никакие другие отношения не заслуживают доверия. Она разделяет с матерью убеждение, что любое намерение нарушить эту связь есть проявление эгоизма с ее стороны, а также неблагодарности за все то, что мать для нее сделала.
Терапия подобных случаев должна обращать внимание на допущения, сделанные на основе общей системы фантазии. Разобщение должно быть видимым. Стоит только его увидеть, в первый раз повернуться к нему лицом, как путаница переходит в конфликт. Это влечет за собой выведение на поверхность — из глубины системы фантазии — страха отделения. Акт ухода воспринимается как самоубийство или убийство, или как то и другое одновременно. При извлечении опыта самого пациента из клубка родительской фантазии пациент начинает видеть эту специфическую возможность психоза. Настоящий конфликт вносит ясность. Ложный конфликт одурманивает. Когда “суть вопроса” является ложной и путаной, “реальный” или же “истинный” конфликт не попадает в фокус внимания, “истинный” выбор недосягаем и человек находится под угрозой психоза.
Одновременное или быстро сменяющееся стимулирование других потребностей (вместе с сексуальными), эксплуатация стремления ребенка быть полезным родителю посредством постоянных призывов к сочувствию, прием отношения к другому на двух различных уровнях одновременно — все это примеры запутывания. Питер запутывает Пола как относительно того, кто Пол такой, так и относительно “ситуации”, в которой Пол находится.
В безвыигрышном положении, каковы бы ни были его чувства, как бы он ни действовал и как бы ни осмысливал ситуацию, его чувства лишают достоверности, у действий отнимают их мотивы, цели и следствия, у ситуации крадут ее смысл. Это может делаться ненамеренно, как побочный продукт всеобщего самообмана. Те, кто обманывают себя, принуждены обманывать и других. У меня не получится сохранять ложное видение себя без искажения твоего видения себя и меня. Мне надо всячески унижать тебя, если ты искренен, обвинять тебя в фальши, если ты уступаешь тому, что мне нужно, говорить, что ты эгоист, если ты поступаешь по-своему, высмеивать тебя за твою незрелость, если ты стараешься быть неэгоистичным, и т.п. Человек, попавший в такой лабиринт, не знает, в каком направлении он движется. В этих обстоятельствах то, что мы называем психозом, может быть просто отчаянной попыткой за что-нибудь ухватиться. Не удивительно, что это что-нибудь может быть тем, что мы называем “бредом”.
Группа исследователей из Пало Альто составила описание паттерна, широко известного ныне как ситуация “двоякого предписания” (double bind). “Жертва” попадает в ловушку парадоксальных предписаний или атрибуций, имеющих силу предписаний, в которой она не может сделать ни единого верного шага.
Основные тезисы сформулированы следующим образом (Bateson, 1956):
Необходимыми составляющими ситуации двоякого предписания, как мы ее понимаем, являются:
1. Два или более участника. Из них одного мы обозначаем для большей ясности как “жертву”. Мы ни в коем случае не утверждаем, что источником двоякого предписания является только мать. Это может быть как одна мать, так и мать в сочетании с отцом и (или) сестрами-братьями.
2. Неоднократный опыт. Мы полагаем, что двоякое предписание есть повторяющийся мотив в опыте жертвы. Наша гипотеза не относится к единичному травматическому переживанию, но к такому переживанию, которое неоднократно повторяется, так что паттерн двоякого предписания становится привычным ожиданием.
3. Первичное негативное предписание. Оно может иметь любую из двух форм: (а) “Не делай то-то и то-то, я тебя накажу”. Здесь мы избрали контекст научения, основанного на избегании наказания, а не на поиске награды. Никакой формальной причины для этого выбора, наверное, нет. Мы полагаем, что наказанием может быть либо лишение любви, либо проявление неприязни и гнева, либо, что еще более губительно, своего рода отказ от ребенка, что происходит как проявление крайней степени беспомощности родителей5.
4. Вторичное предписание, противоречащее первому на более абстрактном уровне и, как и первое, усиленное угрозой наказания или какими-либо сигналами, угрожающими безопасности. Это вторичное предписание труднее описать, чем первичное, по двум причинам. Во-первых, вторичное предписание, как правило, передается ребенку с помощью невербальных средств. Поза, жест, интонация голоса, многозначительное действие, наконец, намеки, скрывающиеся в словесном высказывании, — все это может использоваться для передачи данного более отвлеченного сообщения. Во-вторых, вторичное предписание может быть направлено против какого-либо элемента первичного запрета. Вербализация вторичного предписания может, таким образом, включать широкое разнообразие форм, например: “Не рассматривай это как наказание”, “Не относись ко мне так, будто я тебя наказываю”, “Не подчиняйся моим запретам”, “Не думай о том, что ты должен не делать”, “Не сомневайся в моей любви, которую первичный запрет только подтверждает (или, наоборот, к которой первичный запрет не имеет отношения)” и т.п. Бывают другие примеры, когда двоякое предписание налагается не одним лицом, а двумя. Предположим, один родитель отменяет на более абстрактном уровне предписание другого.
5. Третичное негативное предписание, не дающее жертве покинуть поле событий. В формальном отношении, может быть, нет особой необходимости перечислять этот запрет отдельным пунктом, поскольку подкрепление на двух других уровнях включает в себя угрозу выживанию, а если двоякое предписание налагается на ребенка в раннем возрасте, побег невозможен по естественным причинам. Однако, по-видимому, в некоторых случаях побег с поля боя делается невозможным благодаря применению определенных средств, которые не имеют чисто запретительного характера, например, истеричных уверений в любви и т.п.
6. В конце концов весь перечисленный набор компонентов становится излишним, когда жертва уже усвоила урок восприятия мира в паттернах двоякого предписания. Практически любого фрагмента ситуации двоякого предписания может теперь оказаться достаточно, чтобы ввергнуть жертву в панику или неистовство. Более того, паттерн конфликтующих предписаний может замещаться галлюцинаторными голосами.
Ситуация двоякого предписания включает в себя двух или более человек, из которых один рассматривается как “жертва”. Бейтсон и его сотрудники утверждают, что человеку, неоднократно подвергающемуся такой ситуации, будет трудно оставаться в здравом уме, и выдвигают гипотезу, что “всякий раз, как только имеет место ситуация двоякого предписания, способность любого индивидуума распознавать логические образцы будет нарушена” (курсив мой).
Один человек сообщает другому, что тому следует нечто делать, и в то же время, на другом уровне, сообщает, что он не должен этого делать или должен делать что-то другое, несовместимое с первым. Ситуация окончательно захлопывается для “жертвы” еще одним предписанием, запрещающим покидать “поле боя” или высказывать недовольство по поводу ситуации, давать ей критическую оценку и тем самым аннулировать ее. “Жертва”, таким образом, оказывается в “безвыигрышном” положении. Она не может сделать ни единого шага без того, чтобы не произошла катастрофа. Вот пример:
Мать навещает сына, который только-только оправился от психотического приступа. Он направляется к ней навстречу, и происходит следующее:
а) она открывает объятия, чтобы он обнял ее и/или
б) чтобы обнять его.
в) Когда он к ней приближается, она застывает на месте и
каменеет.
г) Он останавливается в нерешительности.
д) Она говорит: “Ты не хочешь поцеловать свою маму?”. И так как он все еще стоит в нерешительности,
е) она говорит: “Но дорогой, ты не должен бояться своих чувств”.
Он отзывается на приглашение матери поцеловать ее, но ее состояние, ее холодность и напряженность в то же самое время говорят ему: “Нет, не надо”. То, что она боится близких отношений с ним или по какой-то другой причине в действительности не хочет, чтобы он делал то, к чему она его приглашает, не может быть признано ею открыто и остается невысказанным ни матерью, ни ее сыном. Сын реагирует на невысказанное, “молчаливое” сообщение: “Хоть я и открываю мои объятия для тебя, чтобы ты подошел и поцеловал меня, но на самом деле боюсь, что ты сделаешь это, но не могу в этом признаться ни себе, ни тебе, поэтому я надеюсь, что ты будешь слишком “больным”, чтобы сделать это”. Но затем она показывает, что совершенно без всякой задней мысли хочет, чтобы он поцеловал ее, и намекает, что причина, по которой он ее не целует, не в том, что он уловил ее беспокойство, как бы он не поцеловал ее, или ее приказ не делать этого, а в том, что он не любит ее. Когда сын не отвечает, мать намекает, что он ее не целует, потому что боится своих сексуальных или агрессивных чувств по отношению к ней. Суть ее сообщения в итоге сводится к следующему: “Не обнимай меня, а то я тебя накажу” и “Если ты не сделаешь этого, я тебя накажу”. Само “наказание” остается загадкой6.
Этот пример, на первый взгляд, представляет собой простой инцидент. Но идея заключается в том, что человек, с рождения подвергающийся таким ситуациям, обнаруживает определенные трудности в отделении одного уровня коммуникации от другого. Возможные стратегии выживания в таком безвыигрышном положении, по заключению Бейтсона и его коллег, соответствуют типам поведения, клинически опознаваемым как шизофрения.
Наверное, следует подчеркнуть, что мы не стремимся дать всестороннее описание живых отношений, но пытаемся проиллюстрировать возможные типы “разобщенных” взаимодействий. Мы пытаемся описать, как один человек или “узел” людей могут действовать по отношению к другому человеку. То, как люди “действуют по отношению” друг к другу, может иметь мало общего с мотивами или намерениями или с действительным действием на другого. Мы в основном ограничиваем себя описанием в рамках диады, тогда как в реальной жизни, вероятно, будет не менее трех участвующих (см.Weakland, 1960). Но не будем спешить.
Следует помнить, что и ребенок может поставить родителей в безвыигрышное положение. Младенца никак невозможно утихомирить. Он с плачем требует грудь. Он плачет, когда грудь дают. Он кричит, когда грудь отнимают. Мать, не способная с ним поладить или выдерживать все это, теряет покой, нервничает, ощущает свою беспомощность. Она удаляется от ребенка в одном смысле, а в другом смысле — становится сверхзаботливой. Двоякое предписание может быть двусторонним.
Гипотеза двоякого предписания содержит в себе ряд подгипотез, не все из которых выглядят одинаково здраво. Теория “характерных способов коммуникации” сформулирована в терминах логических образцов. Сомнительно, может ли концепция логических образцов, возникшая в ходе построения доказательства теорем или суждений в логике, быть приложима непосредственно к коммуникации. Несомненно, такие “способы коммуникации” часто встречаются в семьях шизофреников. В какой мере и какого рода двоякие предписания случаются в остальных семьях, остается вопросом.
Работа группы из Пало Альто, наряду с некоторыми другими исследованиями, тем не менее, оказала революционизирующее воздействие на представление о так называемом “окружении” и уже отодвинула в прошлое предшествующую полемику о том, играет ли роль “окружение” в происхождении шизофрении.
Интересно состыковать эту теорию с современными представлениями в биологии.
Ребенок бежит от опасности. Для него бежать от опасности — значит бежать к матери. На определенной стадии, в определенный период прибежать к матери и прижаться к ней может быть доминирующим поведенческим паттерном реагирования на опасность. Возможно, что “прибежать” и “прижаться” к матери входит как составной компонент в систему инстинктивных реакций ребенка, которая на определенной стадии может быть видоизменена лишь в ограниченной степени.
Давайте представим себе ситуацию, когда сама мать по какой бы то ни было причине представляет собой объект, генерирующий опасность. Если это случается, когда доминирующей реакцией на опасность является “бегство” от опасности к матери, что будет делать ребенок — бежать от опасности или бежать к матери? Существует ли здесь “правильный” вариант поведения? Предположим, ребенок бросается к матери. Чем больше он льнет к матери, тем напряженней становится мать; чем больше напряжение, тем плотнее она прижимает к себе ребенка; чем плотнее она прижимает ребенка, тем больше он пугается; и чем больше он пугается, тем больше он льнет к матери.
Именно так многие люди описывают собственный опыт неспособности расстаться с “домом”, или с тем человеком, который был для них первоначальным “другим”, или с целым узлом людей в своей жизни. Они ощущают, что мать или семья их подавляет и душит. Это пугает их, и они хотят убежать. Но чем больше они пугаются, тем больше пугается и пугает семья. В поисках безопасности они цепляются за то, что их напугало, подобно тому, кто, схватившись за горячую плитку, еще сильнее жмет на нее рукой, вместо того чтобы сразу отдернуть руку; или тому, кто шагнул на подножку автобуса как раз в тот момент, когда автобус тронулся с места, и “инстинктивно” вцепился в этот автобус, ближайший и самый опасный объект, хотя “разумным” действием было бы отпустить его.
У меня была пациентка, семнадцатилетняя Кэти, одержимая борьбой за освобождение от родителей. Она не могла расстаться с ними в реальном плане, но у нее развился психоз, в котором она “покидала” родителей психотическим образом, отрицая, что они были ее настоящими родителями. Находясь в психиатрической клинике, она неоднократно сбегала оттуда, чтобы попасть домой, куда, бывало, являлась в любое время дня и ночи и откуда ее приходилось опять вытаскивать волоком. Ибо как только она попадала домой, то начинала кричать и вопить, что родители не дают ей жить ее собственной жизнью, что они помыкают ею, как только могут. Между тем больница делала все возможное, чтобы устроить для Кэти жизнь вне дома, когда она выйдет из клиники. Единственной причиной, по которой она находилась в клинике, были скандалы, которые она устраивала, когда попадала домой.
Кэти начала ежедневно посещать меня в клинике. Будучи далека от мысли, что я мог бы помочь ей добиться какой-то свободы или распорядиться имеющимися возможностями, она очень быстро начала приписывать мне ту же зацикленность на власти, те же поползновения подавить и уничтожить ее, которые приписывала своим родителям. Однако она не стала меня избегать. Напротив, чтобы достичь своего, Кэти, бывало, повсюду следовала за мной, громко ругаясь, что я не даю ей покоя. Одна пациентка Уайтхорна (1958), хватая его за большой палец руки и зажимая в своем кулаке, как в тисках, кричала: “Отпусти мою руку, ты, зверь!”
Во время этого своего трансферентного психоза Кэти видела сон: “Я изо всех сил убегаю из клиники, но клиника и Вы в ней — это гигантский магнит. Чем сильнее я стараюсь бежать, тем больше он меня притягивает к себе”. Это явление напоминает один хорошо известный гипнотический феномен.
Может быть, здесь имеет место инстинктивный “тропизм” к матери, который не встречает у матери адекватного ответа, завершающего ситуацию. Если верить Боулби (1958) и другим исследователям, то когда инстинктивные реакции человека не встречают в другом адекватного исчерпывающего ответа, у него возникает тревога. Однако если инстинктивной реакцией на тревогу в определенный период является поиск защиты у матери, то чем более сильная тревога порождается неспособностью матери на адекватный исчерпывающий ответ (например, ее замешательством, улыбкой при напряженных мышцах лица, объятиями со сжатыми в кулаки руками и резким голосом), тем большая “потребность” в матери возбуждается.
Здесь может быть что-то вроде “несостыковки”, какое-то нарушение взаимодействия между матерью и малышом, так что в такой ситуации каждый из них начинает другому “двояко предписывать”. Возможно, что здесь присутствуют генетические нарушения и инстинктивная реакция запрограммирована таким образом, что не заканчивается, даже когда исчерпывающий ответ дается, но продолжается, как у Ученика Чародея, не способного развеять собственные чары. Если ребенок слишком долго и настойчиво льнет к матери, это может спровоцировать что-то вроде поведения “двоякого предписания” с ее стороны. Мать желает, чтобы ребенок продолжил, и в то же время чтобы оставил ее; увлеченная этим и утомленная, она ведет себя амбивалентно. Это, в свою очередь, может способствовать развитию у ребенка нарушений вторичного уровня, так что он может совсем перестать отвечать матери, или начнет отвечать двояким несовместимым образом, или будет давать один стереотипный ответ. Но умозрительные рассуждения могут зайти слишком далеко в отсутствии твердого знания. Это поле исследований остается открытым и, как ни странно, нетронутым за немногими исключениями.
Глава 10
Атрибуции и предписания
То, что один человек приписывает другому, замыкает последнего в определенные рамки, ставит его в определенное положение. Предназначая ему ту или иную позицию, атрибуции “ставят его на место”, то есть в конечном счете имеют силу предписаний.
Атрибуции, которые совершает Питер относительно Пола, могут сообщаться и разобщаться с атрибуциями, которые совершает сам Пол относительно Пола. Вот простейший пример разобщения в атрибуциях: Питер выносит суждение о том, как Пол относится к собственному утверждению, а Пол с этим суждением не согласен.
Питер: Ты лжешь.
Пол: Нет, я говорю правду.
Некоторые атрибуции можно подвергнуть проверке, выяснив, насколько единогласно их подтверждают другие, но многое из того, что Питер приписывает Полу, Пол проверить не может, особенно если Пол ребенок. Таковыми являются глобальные атрибуции, к примеру, “Ты дрянь” или “Ты молодец”. Адресат таких атрибуций никоим образом не способен снять их своими собственными силами, если только он не владеет позицией1, исходя из которой человек правомочен служить третейским судьей в подобных вопросах.
То, что другие косвенно или прямо приписывают Полу, неизбежно имеет решающее значение в формировании его восприятия собственной деятельности, собственных представлений, мотивов, намерений — собственной идентичности.
Стивен утратил всякие ориентиры в том, каковы его собственные намерения и мотивы, пока он жил со своей матерью, которая превратилась в “настоящего параноика”. Она видела в его действиях мотивы и цели, которых, как он поначалу явственно чувствовал, в этих действиях не было. Постепенно Стивен начал путать “собственные” мотивы и цели с теми, которые были ему приписаны. Он знал, что если порежет палец, мать обязательно скажет, что он это сделал, чтобы ее расстроить, и зная, что таково будет ее толкование, он не мог быть уверенным, нет ли и вправду у него такого намерения. Это вселяло в него навязчивые сомнения в “мотивах” собственных действий, даже во время надевания галстука, который ему нравился, но который раздражал его мать. “Ты надеваешь его, чтобы мне досадить, — ты знаешь, я терпеть не могу такие галстуки, как этот”.
В зоне этого разобщения между “собственными” намерениями человека и теми, которые ему приписывает другой, в игру вступают вопросы скрытности и конспирации, обмана и самообмана, двусмысленности, лживости или правдивости. Во многих случаях чувство вины или стыда следует понимать с точки зрения таких расхождений, имея в виду, что в такой ситуации присутствует переживание собственной фальши, собственного мошенничества. Истинная вина — это вина по отношению к обязательству, которое ты сам на себя налагаешь, чтобы быть самим собой, реализовать самого себя. Ложная вина — это вина, переживаемая за то, что ты не такой, каким тебя считают другие люди, каким, по их ощущению, ты, кажется, должен быть или, по их смелому предположению, ты являешься.
Принять как реальность, что ты вовсе не обязательно тот, за кого тебя принимают другие, есть определенное достижение. Такого рода ясное осознание расхождения между идентичностью-для-себя, бытием-для-себя и бытием-для-других очень болезненно. Существует сильнейшая склонность испытывать чувство вины, беспокойство, сомнения, раздражение в том случае, если атрибуции, обращенные на себя самого, разобщаются с атрибуциями, которые совершает по отношению к “я” другой, особенно тогда, когда атрибуции принимаются как предписания.
Мать прислала Джоан блузку в день ее двадцатилетия. У блузки был ряд интересных особенностей. Она была велика Джоан на два размера. Она была не того типа, который выбрала бы сама Джоан. Она была слишком простая, и стоила больше, чем мать могла себе позволить. Ее нельзя было обменять в магазине, в котором она была приобретена. Следовало бы ожидать, что Джоан будет разочарована или раздражена. Но вместо этого она ощущала себя пристыженой и виноватой. Джоан не знала, что же ей делать с собой, потому что она была неправильного размера для этой блузки. Она должна была соответствовать блузке, а не блузка быть впору ей. Ей следовало бы любить эту блузку. Ей следовало бы соответствовать материнскому представлению о себе. В данном случае мать дает девушке подтверждение в том, что у нее есть грудь, и отказывает в подтверждении ее настоящего тела. Во время взросления дочери, в ее подростковом возрасте мать имела привычку бросать мимоходом что-нибудь вроде: “Как там идут дела с твоими грудками, дорогая?” Джоан, бывало, чувствовала, что эти высказывания матери будто сокрушают ее тело. Преподнесение ей совершенно бесполой блузки слишком большого размера содержало в себе двусмысленность и запутывало. Эта девушка физически была крайне зажатой и не осмеливалась быть привлекательной и живой, если ее мать, по сути, отрицала в ней эти качества. Блузка, будучи несимпатичной, содержала в себе намек на атрибуцию: “Ты некрасивая девушка”. Атрибуция заключала в себе предписание: “Будь некрасивой”. В то же время ее высмеивали, дразнили за то, что она некрасива. Джоан в конце концов перестала носить блузку, испытывая чувство беспомощности, смятения и отчаяния.
Атрибуции помогают или вредят развитию или правдоподобному восприятию самого себя. Рассмотрим следующие вариации на одну из базовых тем детства.
Маленький мальчик выбегает из школы навстречу матери.
1. Он подбегает к матери и крепко ее обнимает. Она обнимает его в ответ и говорит: “Любишь свою маму?”. И он обнимает ее еще раз.
2. Он выбегает из школы; мать открывает объятия, чтобы прижать его к себе, но он останавливается чуть-чуть поодаль. Она спрашивает: “Ты не любишь свою маму?” Он отвечает: “Нет”. Она говорит: “Ну ладно, пошли домой”.
3. Он выбегает из школы; мать открывает объятия, чтобы прижать его к себе, он останавливается поодаль. Она спрашивает: “Ты не любишь свою маму?” Он отвечает: “Нет”. Она отвешивает ему шлепок и говорит: “Не будь наглецом” (“Не смей дерзить”).
4. Он выбегает из школы; мать открывает ему объятия, чтобы прижать его к себе, он останавливается слегка поодаль. Она спрашивает: “Ты не любишь свою маму?” Он отвечает: “Нет”. Она говорит: “Но мама знает, что любишь, дорогой” — и крепко его обнимает.
В ситуации (1) нет никакой скрытой двусмысленности, здесь полное взаимное подтверждение и единение. В случае (2) приглашение матери отвергается мальчиком. Ее вопрос, возможно, содержит “двойное дно”, имея целью, с одной стороны, задобрить мальчика, а с другой — прозондировать его чувства. Она имеет в виду, что он что-то чувствует по отношению к ней и знает, каковы эти чувства, но ей неизвестно, “каково ее положение” с ним. Он говорит ей, что не любит ее. Она никак это не обсуждает и не отвергает его. Предоставит ли она ему возможность “продолжать в том же духе” или “даст делу спуститься на тормозах”? Или найдет способы наказать его, или же попытается взять реванш, демонстрируя безразличие, или постарается расположить его к себе и т.п.? Может пройти какое-то время, прежде чем он узнает, “каково его положение” с ней.
В случае (3) с мальчиком обращаются как с отдельным, самостоятельным существом. Его слова и поступки не лишают законной силы, однако в данном случае очевидным образом существуют правила, регулирующие, когда и что говорить. Он получает урок, что иногда лучше быть вежливым или послушным, чем быть “наглецом”, даже если наглость — это всего лишь честность. Он немедленно узнает, каково его положение. Если шлепок матери не будет сопровождаться другими, более изощренными мерами, то выбор, который стоит перед ним, предельно ясен. Следи за тем, что ты говоришь, или нарвешься на неприятности. Он может знать, что хотя мама отшлепала его за “дерзкое поведение”, ей больно и обидно. Он видит, что то, что он говорит, ей небезразлично и что если он обижает ее, она не пытается возложить на него бремя вины посредством туманных апелляций к его совести.
В случае (4) мать не воспринимает то, что он говорит по поводу своих чувств, и парирует атрибуцией, полностью отменяющей его собственное свидетельство. Подобная атрибуция делает нереальными чувства, которые “жертва” переживает как реальные. Реальное разобщение, таким образом, упраздняется и создается ложное единение.
Вот вам примеры атрибуций такого порядка:
“Ты сказал это просто так. Я знаю, ты этого не имел в виду”.
“Ты можешь думать, что чувствуешь что-то подобное, но я знаю, что на самом деле это не так”.
Отец говорит сыну, который просит перевести его из школы, где его третируют: “Я знаю, ты на самом деле не хочешь уходить, потому что среди моих сыновей нет трусов”.
Человек, подвергавшийся атрибуциям такого типа, будет испытывать трудности в понимании того, каковы его чувства или намерения, если только он не имеет достаточно твердой почвы под ногами. Если нет, существует возможность, что он утратит способность непосредственно осознавать, чувствует ли он то или это и как определить то, что он делает.
Мать Стивена упрекала его, когда сама допускала оплошность. Однажды она влетела в комнату, где он сидел, и, натолкнувшись на него, разбила тарелку. Из ее объяснений явствовало, что она разбила тарелку, потому что тревожилась за него, то есть он вызвал ее беспокойство, поэтому он — причина того, что она разбила тарелку.
Когда Стивен болел, то требовалось какое-то время, чтобы мать простила его, так как он “делал это”, то есть болел, чтобы ее расстроить. В итоге почти все, что он делал, толковалось как попытка свести ее с ума. В годы взросления Стивену не на что было ориентироваться, чтобы понять, где начинается и где кончается то, за что он несет ответственность, то, что является следствием его действий, его влияния, то, что в его власти.
Какое действие способен один человек оказать на другого? Сократ как-то заметил, что никакого вреда нельзя причинить хорошему человеку. Гитлер, как говорят, утверждал, что он никогда никого не лишал воли, а только свободы в гражданском смысле. С этой точки зрения заключенный в тюрьме рассматривается как сохранивший свою “волю”, но потерявший свободу. Я могу, таким образом, действовать, устанавливая границы той ситуации, в которой другому придется действовать, но дано ли мне сделать большее? Если другой говорит: “Ты разбиваешь мне сердце”, — “делаю” ли я это с ним в каком-либо смысле? Джек действует как-то по-своему, а Джилл говорит: “Ты сводишь меня с ума”. Каждый из нас знает на собственном опыте, что все мы действуем друг на друга. Так где же проводится грань? Посредством какого критерия?
Джек дружит с Джилл. Она идет гулять с Томом. Джек говорит, что она его мучает. Он страдает “от того”, что она это сделала, но это еще не значит, что она пошла гулять с Томом с единственной целью причинить страдание Джеку. Если нет, про нее едва ли можно сказать, что она мучает Джека. Но допустим, что она могла иметь такое намерение. Так действительно ли она его мучает, когда (1) она собиралась помучить его, а он не испытывает мучений, (2) он испытывает мучения, когда (3) она не имела намерения мучить его, и сам он не испытывает мучений, (4) он испытывает мучения. Когда Король Лир уговаривает Корделию “сказать ему то, что, как ей известно, его осчастливит”, а она отказывается это сделать, является ли она жестокой, если знает, что ее слова причинят ему боль? В каком смысле я с другим делаю то, что, он говорит, я с ним делаю, если я делаю то, что считаю нужным, совсем с другими намерениями, зная, что “действие”, которое мой поступок окажет на него, будет другим, нежели я имел в виду, поскольку он говорит так?
Ребенок усваивает, что же он собой представляет, во многом когда ему говорят, что “значат” его поступки, посредством их “действия” на других.
У восьмилетнего мальчика был старший брат, любимец родителей, который должен был вскоре приехать домой на каникулы. Мальчику несколько раз снился сон, что брат по дороге домой попал под машину. Рассказав об этом отцу, он получил от него объяснение, что это показывает, как сильно он любит брата, потому что беспокоится, как бы с ним что-нибудь не случилось. Отец настойчиво приписывал младшему брату любовь к старшему, невзирая на факты, которые для большинства были бы указанием на обратное.
Младший сын “принимал на веру” слова отца, когда тот говорил ему, что он “любит” старшего брата.
Атрибуции работают в обе стороны. Ребенок приписывает своим родителям хорошее и плохое, любовь и ненависть и каким-то образом сообщает им, что он испытывает по отношению к ним. На какие из атрибуций родители реагируют, к каким остаются глухи, какие они принимают и отвергают, какие их сердят, забавляют или же льстят им? Какие за этим следуют контр-атрибуции? “Наглость” — это то, что часто приписывают ребенку, который приписывает родителям вещи, не вызывающие у них особого удовольствия.
Атрибуции, противоречащие друг другу, могут нести в себе скрытые предписания. Когда Маргарет2 было четырнадцать лет, мать называла ее двумя именами: прежним именем — “Мэгги” и новым именем — “Маргарет”. “Мэгги” означало, что она все еще остается и всегда будет маленькой девочкой, которой следует делать то, что ей говорит мама. “Маргарет” означало, что она теперь повзрослела и должна дружить с мальчиками, а не цепляться за мамину юбку. Как-то часов в шесть вечера, стоя на улице рядом с домом вместе с одним из своих приятелей-сверстников, она услышала громкий крик матери из окна верхнего этажа: “Маргарет, немедленно поднимайся наверх”. Это вызвало полное замешательство девочки. Она почувствовала, что земля плывет у нее из-под ног, и заплакала. Девочка не могла понять, чего от нее ждут. “Маргарет” — это была взрослая роль, в крайнем случае роль подростка. Она несла в себе предписание вести себя независимо. Но последующие слова матери определенно адресовались маленькой девочке, “Мэгги”. В качестве Мэгги она должна была, не задавая вопросов и не задумываясь, делать то, что ей говорят. Это выбило почву у нее из-под ног, так как она не имела “внутреннего ресурса”, чтобы справиться с тем, что ей велят быть Мэгги и Маргарет одновременно.
Существует множество способов отменить действия и поступки другого, сделать их недействительными. Они могут расцениваться как дурные или безумные или восприниматься в том смысле, которого не имел в виду тот, кто их совершал, и отвергаться в том смысле, который он подразумевал. Их можно рассматривать как всего лишь ре-акцию по отношению к некому человеку, который есть “истинная” или “реальная” первопричина их появления, как своего рода звено в цепи причинно-следственных отношений, начало которой лежит вне данного индивида. Джек может быть не способен воспринимать Джилл как другого, отдельного от него человека. Он может требовать благодарности или признательности от Джилл, давая понять, что самой своей способностью что-либо делать она обязана только ему. Чем большую независимость в действиях Джилл проявляет, тем больше она, так сказать, приводится в действие милостью Джека. Если подобное происходит между родителями и ребенком, то обнаруживается любопытное движение по восходящей: чем большего достигает ребенок, тем больше жертв ему было принесено и тем больше он должен быть благодарен.
“Не надо делать, что тебе говорят”. Человек, которому приказали быть непосредственным и спонтанным, находится в ложной и безвыигрышной позиции. Джилл старается быть послушной, делая то, чего от нее ожидают. Но ее обвиняют в нечестности за то, что она не делает то, чего хочет на самом деле. Если она говорит, чего она хочет на самом деле, ей объясняют, что это извращение или больная фантазия или что ей неведомы ее собственные желания.
Преуспевающая художница, набившая руку в портретной живописи, никак не могла заставить себя заняться абстракцией. Ей помнилось, что в детстве она имела обыкновение делать рисунки из черных хаотических линий. Ее мать, тоже художница — она рисовала броские приторные цветочные композиции и тому подобное — высоко ценила “свободу экспрессии”. Она ни разу не запрещала дочери рисовать каракули, но всегда говорила ей: “Нет, это все не твое”. При этих словах у дочери все внутри трепетало от ужаса. Она ощущала опустошенность, стыд, страшное раздражение. Потом она научилась рисовать то, что, как ей говорили, было “ее”. Когда молодая художница вспомнила свои чувства по поводу тех детских рисунков, чувства, которые перестали задевать ее за живое, но которые она не забыла полностью, она через много лет вернулась к своим каракулям. Только теперь она смогла вполне осознать, насколько бессмысленной и фальшивой была ее жизнь. Она испытала то, что назвала “очищающим стыдом” — стыдом за измену своим подлинным чувствам. Для нее очищающий стыд явился противовесом той самой “постыдной опустошенности”, которую ей доводилось переживать, когда ее мать говорила, что эти каракули — “не твое”.
Некоторые люди несомненно обладают весьма примечательной склонностью держать другого на привязи, не давать ему выпасть из связки. Существуют мастера вязать и достигшие совершенства в том, чтобы поддаваться завязке. И те и другие обычно не осознают, как это делается, а то и вовсе не осознают, что это происходит. Поразительно, как трудно заинтересованным сторонам увидеть происходящее. Мы должны помнить, что те, кто находятся в связке, не видят самой этой связки. Джилл постоянно жалуется, что Джек, ее муж, никак не дает ей “идти своей дорогой”. Он не может понять, почему она чувствует, что ее изводят, поскольку он убежден, что она не способна сделать что-либо, чего бы он не хотел, поскольку все, что бы она ни сделала, он принимает как должное, так как он ее любит.
Одно и то же сочетание слов, ворчания, тяжких вздохов, хмурых взглядов, улыбок, жестов может работать совершенно по-разному, в зависимости от контекста. Но кто “устанавливает” контекст? Одна и та же словесная форма может использоваться как простая констатация факта, как обвинение, как предписание, как атрибуция, шутка, угроза.
Джек говорит Джилл: “Сегодня дождливо”. Что он может иметь в виду, на что направлено утверждение? Вот несколько вариантов:
1. Он просто заметил и сообщил тот факт, что сегодня дождливый день.
2. Джек, может быть, до этого нехотя согласился пойти погулять с Джилл вместо похода в кино. Когда он теперь говорит, что сегодня дождливо, он хочет сказать: “Слава Богу, мы не пойдем на прогулку. У меня появляется шанс посмотреть фильм”.
3. Возможно, Джек намекает: “Поскольку идет дождь, я думаю, что тебе не следует выходить на улицу”, или: “Я надеюсь, ты не хочешь выходить на улицу, пока идет дождь”, или: “У меня скверное настроение. Я не хочу выходить на улицу, но если ты настаиваешь, мне, вероятно, придется”.
4. Джек и Джилл могли вчера обсуждать, в какую сторону повернется погода. Поэтому утверждение может означать: “Ты, как всегда, права”, или: “Видишь, как я всегда точен”.
5. Может быть, просто открыто окно, и утверждение несет такой смысл, что Джек хочет, чтобы Джилл закрыла окно и т.д.
Возможные разночтения подобного рода являются неотъемлемым свойством обычного речевого высказывания. Приведенное выше простейшее утверждение, “каков нынче денек”, может нести в себе вопрос, упрек, предписание, атрибуцию относительно “я” или другого и т.д. В “прямом” разговоре такие неясности присутствуют, однако другой может поднять на поверхность скрытые смыслы, которые, в свою очередь, или признаются или же, если они не предполагались, могут быть честно отклонены. Прямой и честный взаимообмен несет в себе множественные взаимные отклики, и участвующие в нем все время “знают, в каком положении они” друг относительно друга. На другом конце спектра характерной чертой всех разговоров являются бесконечные скрытые смыслы или косвенные “внушения”, которые отрицаются, не признаются, противоречат друг другу, вступают в парадоксальные отношения.
(I) Мнимое утверждение в реальности является предписанием.
Мнимое утверждение: “Холодно”.
Предписание: “Зажги огонь”.
(II) Предписание в реальности является атрибуцией.
Предписание: “Попроси совета у Джонса”.
Атрибуция: “Ты слегка глуповата”.
(III) Предложение помощи в реальности является угрозой.
Предложение помощи: “Мы устроим тебе приятную смену обста-
новки”.
Угроза: “Если ты не прекратишь себя так вести, мы отправим
тебя куда надо”.
(IV) Выражение сочувствия в реальности является обвинением.
Сочувственное утверждение (атрибуция): “У тебя нервы на пре- деле”.
Обвинение: “Ты себя ужасно ведешь”.
Джилл может ответить следующим образом на каждое из указанных утверждений:
(I) “Это на самом деле приказ”.
(II) “На самом деле ты хочешь сказать, что я дура”.
(III) “В действительности ты говоришь, что если я не буду следить за своим поведением, ты скажешь, что я свихнулась, и посадишь меня в сумасшедший дом”.
(IV) “Говоря, что ты знаешь, что я не могла с собой справиться, ты тем самым заявляешь, что снимаешь с меня ответственность, потому что считаешь, что я сделала что-то плохое”.
Но Джек будет полностью отрицать, что он на что-либо намекал, и, кроме того, намекать, что Джилл несправедлива, или больна, или испорчена, думая о каких-то намеках. Джилл, в свою очередь, предполагает этот намек, а Джек его отрицает. Когда простое утверждение будет сделано в следующий раз и Джилл отнесется к нему как к простому утверждению, она будет обвинена в нечувствительности или в намеренном отказе “хорошенько понять”, о чем говорится. Открытые уровни могут быть совместимыми или несовместимыми со скрытыми уровнями высказывания, в то время как на самом скрытом уровне один человек может одновременно передавать два или более парадоксальных смыслов.
Три-четыре человека в замкнутом узле будут хранить некий устраивающий их status quo, образуя альянс на основе негласной договоренности, чтобы нейтрализовывать всякого, кто посягнет на его стабильность. В такого рода семейном узле любой жест, любое сообщение функционирует как нечто совершенно отличное от того, чем они “кажутся”, и нельзя положиться ни на одно действие, что оно “означает” то, чем представляется. Постороннему невдомек, что же действительно происходит в течение долгого времени. Для него, постороннего, может происходить “полный ноль”. Люди обмениваются репликами, повторяющимися, надоедливыми, касающимися только самых банальных вещей. Энергия узла идет на предотвращение того, чтобы хоть что-то происходило. Ребенку задают вопрос в присутствии всей семьи. “Сочувственно” вмешивается тетушка: “Скажи доктору, что тебя беспокоит, детка”. Скрытое предписание: “Никаких объяснений. Тебе сказано не делать того, что тебе сказано делать”.
“Ты ублюдок”, вероятнее всего, означает: “Ты мне противен, ты отвратительный человек, я на тебя зол”. Мы склонны предполагать, что здесь скрыты такие смыслы. Но некоторые люди попадают в трудное положение и получают различные клинические диагнозы, потому что они всегда не уверены, оправдано или нет с их стороны делать подобные допущения:
Является ли это констатацией факта, касающейся моих родителей?
Или мне приписывается такое свойство?
Или это утверждение о том, каковы мои чувства к тебе?3
Всерьез это или в шутку?
Многие пациенты с шизофренией и “пограничные” пациенты непрерывно ломают голову над “значением” каждого утверждения, ибо любое утверждение может иметь самые разные назначения. Может быть, он пошутил? Не говорил ли он мне о моих родителях? Может, мне следует попросить посмотреть мое свидетельство о рождении? Или он меня проверял, хотел посмотреть, не слишком ли я чувствителен?
Неконструктивно более рассматривать поглощенность такими мыслями, как “вязкость мышления”, и искать “причину” в органической патологии. Способность к тому, чтобы говорить по-английски, органически детерминирована. То же касается способности к тому, чтобы говорить по-французски, а также той путаницы, которая возникает у многих двуязычных детей... Некоторые люди обучаются в одном языке нескольким “языкам”. Затруднение, которое порой возникает у людей, когда надо “знать” или “чувствовать”, какой “язык” или “способ коммуникации” стоит за теми или иными словами, вероятно, связано с тем, что они росли и воспитывались в узле, где черное иногда означало черное, а иногда белое, иногда же и то, и другое. Шизофренические неологизмы, попытки усовершенствовать синтаксис, необычные интонации, дробление слов и слогов, а также эквивалентные операции в области невербальной экспрессии — все это нужно рассматривать и оценивать в рамках той системы коммуникации, в которой они первоначально функционировали или продолжают функционировать.
Приведем еще несколько кратких зарисовок подобных взаимодействий в семье.
Пациент (мужского пола, 20 лет, госпитализированный с диагнозом параноидная шизофрения), его мать и отец спорили. Пациент утверждал, что он эгоистичен, а родители говорили, что нет. Врач попросил пациента объяснить на примере, что он имеет в виду, говоря об эгоистичности.
Пациент: Ну, это когда моя мать иногда готовит мне целую кучу еды, а я отказываюсь это есть, если у меня нет настроения.
(Оба родителя молчали. Он очевидным образом отстоял свою правоту.)
Отец: Но, вы понимаете, он не был таким. Он всегда был хорошим мальчиком.
Мать: Это его болезнь, ведь так, доктор? Он никогда не был неблагодарным. Он был всегда очень вежливым и воспитанным. Мы сделали для него все, что могли.
Пациент: Нет, я всегда был эгоистичным и наблагодарным. У меня нет никакого самоуважения.
Отец: А я говорю, есть.
Пациент: Я мог бы его иметь, если бы ты меня уважал. Никто не уважает меня. Все надо мной смеются. Я посмешище для всего мира. Я настоящий шут.
Отец: Но сынок, я уважаю тебя, потому что я уважаю того, кто сам себя уважает.
Семилетнего мальчика отец обвинил в краже своей ручки. Мальчик изо всех сил доказывал, что он невиновен, но ему не поверили. Наверное, для того чтобы спасти его от двойного наказания — за воровство и за ложь, — мать сказала отцу, что мальчик сознался ей в том, что украл ручку. Однако мальчик по-прежнему не признавал за собой кражи, и отец устроил ему хорошую взбучку. Поскольку оба родителя обращались с ним так, будто он не только совершил этот проступок, но и сознался в нем, он начал думать, что в конце концов мог бы припомнить, что действительно это сделал, и даже был не совсем уверен, сознавался он на самом деле или же нет. Позже мать обнаружила, что сын и вправду не брал ручку, и признала сей факт перед мальчиком, не говоря, однако, ни слова отцу. Она сказала мальчику: “Подойди, поцелуй маму, и забудем об этом”.
Он каким-то образом чувствовал, что подойти, поцеловать маму и помириться с ней в таких обстоятельствах было бы чем-то нечестным. И все же он так тосковал по тому, чтобы подойти к ней, обнять ее и быть опять в полном единодушии с ней, что это было почти нестерпимым. И хотя мальчик не мог отчетливо сформулировать ситуацию, он не поддался уговорам и не сделал ни единого шага по направлению к ней. Тогда она сказала: “Ну что ж, если ты не любишь свою маму, мне придется просто уйти”, — и вышла из комнаты.
Комната закружилась у него перед глазами. Тоска была непереносима, но вдруг внезапно все изменилось, хотя и осталось прежним. Он видел комнату и себя в этой комнате как будто впервые. Тоска и желание спрятаться в материнских объятиях куда-то исчезли. Неведомым для себя образом он прорвался в какое-то новое измерение. Он был совсем одинок. Разве могла эта женщина иметь к нему отношение? Уже будучи взрослым, он придавал этому происшествию решающее значение в своей жизни: это было освобождение, но какой ценой!
Существует множество способов приучить человека не доверять своим собственным чувствам. Если выбрать всего лишь некоторые аспекты для специального толкования, то предписание “Подойди, поцелуй маму и забудем об этом” на самый поверхностный взгляд скрывает в себе следующее:
1. Я не права.
2. Приказываю тебе помириться со мной и забыть об этом.
Но тут существует неясность, ибо предписание может быть попыткой умилостивить, замаскированной под приказание. Мать, может быть, взывает к мальчику о прощении:
1. Я старалась сделать как лучше.
2. Я прошу тебя, чтобы ты со мной помирился.
Но мольба о прощении, если это была мольба, подкреплена шантажом. “Я, тем не менее, сильнее. Если ты меня не целуешь, это не так уж и важно для меня, и я от тебя уйду”. Ситуацию вряд ли можно назвать определенной, скорее, здесь мелькают бесчисленные “внушения” и намеки, множественные фрагментарные смыслы, не увязывающиеся в одно целое. Человек, поставленный в подобную ситуацию, лишен возможности сделать мета-утверждение4, вычленив какой-то один из множества скрытых намеков, без того, чтобы выставить себя на посмешище. Однако все они здесь присутствуют и обладают решающим совокупным эффектом. Вот, например, несколько из возможных скрытых намеков:
1. Я не права.
2. Я хочу, чтобы мы с тобой помирились и забыли об этом.
3. Прошу тебя, забудем об этом.
4. Я приказываю тебе помириться со мной.
5. В конце концов, я делала все для твоей же пользы.
6. Тебе бы следовало быть благодарным за то, что я для тебя
сделала.
7. Не думай, что отец будет верить тебе.
8. Нам с тобой все известно. Больше никто ничего не знает.
9. Ты сам знаешь, что не можешь без меня. А я без тебя могу.
10. Если ты будешь упрямиться, я от тебя уйду. Это послужит тебе уроком.
11. Ну вот, все, слава Богу, кончилось. Давай обо всем этом забудем.
12. Мама не сердится на тебя за все те неприятности, которые у нее были из-за тебя и этой дурацкой ручки.
13. Хочешь — принимай, хочешь — нет. Если не принимаешь, то я не принимаю тебя.
Здесь может быть приравнивание:
поцеловать меня = любить меня = простить меня = быть хорошим
не поцеловать меня = испытывать неприязнь ко мне = не простить меня = быть плохим.
Читатель без труда может составить список еще из стольких же пунктов.
Излюбленной атрибуцией, которую мать Бетти применяла по отношению к ней, было следующее высказывание: “Она очень благоразумна”. Это означало, что в действительности все, что бы Бетти ни делала, было очень глупо и бестолково, потому что, с точки зрения матери, на деле она никогда не делала то, что надо. Мать придерживалась убеждения, что Бетти знает, что было бы “благоразумно” сделать, хотя в силу какого-то странного отклонения, которое можно было бы отнести только на счет “психического расстройства”, она всегда делает бестолковые вещи. Одним из ее любимых высказываний было: “Конечно, она может делать что ей угодно, но я знаю, что Бетти очень благоразумна и всегда будет делать то, что благоразумно — то есть, если она здорова, конечно”.
Мы уже говорили о Раскольникове из “Преступления и наказания” с точки зрения смешения в его опыте сновидения, фантазии, воображения и бодрствующего восприятия. Достоевский не только описывает нам это, но соотносит опыт Раскольникова с положением, в которое тот “поставлен” перед убийством. Он показывает Раскольникова как “помещенного” в некое положение, которое можно было бы определить как ложное, безвыигрышное, безысходное, невыносимое.
За день до убийства старухи-процентщицы, несколькими часами ранее своего “ужасного сна”, Раскольников получает письмо от матери. Это довольно большое письмо, примерно в четыре с половиной тысячи слов.
Длина письма составляет одно из его существенных качеств. Когда читаешь его, то в процессе этого чтения тебя обволакивает какой-то эмоциональный туман, в котором очень трудно не потерять направление. Когда письмо это было прочитано группе из восьми психиатров, все они засвидетельствовали, что им было как-то не по себе; двое сообщили, что чувствовали физическое удушье, трое — заметное беспокойство в желудке. Качество этого письма, вызывающее такую сильную реакцию, отчасти неизбежно теряется в выдержках и отрывках, но они все-таки позволяют выявить его “механизм”.
Письмо начинается так5:
“Милый мой Родя ... вот уже два месяца с лишком, как я не беседовала с тобой письменно, отчего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но, наверно, ты не обвинишь меня в этом невольном моем молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя; ты один у нас, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упование наше”.
Далее она высказывает беспокойство по поводу его дел в университете и своих затруднений.
“...Но теперь, слава Богу, я, кажется, могу тебе еще выслать, да и вообще мы можем теперь похвалиться фортуной, о чем и спешу сообщить тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый Родя, что сестра твоя вот уже полтора месяца как живет со мною, и мы уже больше не разлучимся и впредь”.
Мы еще на протяжении двух тысяч слов не узнаем, о какой фортуне идет речь, ибо госпожа Раскольникова пускается в детальный рассказ о том, какому унижению ее дочь Дуня подверглась в доме Свидригайловых. Она не писала об этом Раскольникову ранее, потому что:
“...если б я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй бы, все бросил и хоть пешком, а пришел бы к нам, потому я и характер и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою”.
Госпожа Свидригайлова очернила Дуню, выставив ее перед всем городом как женщину легкого поведения, состоящую в любовной связи с ее мужем. Однако в конце концов Дуня была публично оправдана и:
“...все стали к ней вдруг относиться с особенным уважением.
Все это способствовало главным образом и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется, можно сказать, вся судьба наша. Узнай, милый Родя, что к Дуне посватался жених и что она успела уже дать свое согласие, о чем спешу уведомить тебя поскорее. И хотя дело это сделалось и без твоего совета, но ты, вероятно, не будешь ни на меня, ни на сестру в претензии, так как сам увидишь, из дела же, что ждать и откладывать до получения твоего ответа было бы нам невозможно. Да и сам ты не мог бы заочно обсудить всего в точности. Случилось же так...”
Здесь следует описание Дуниного жениха, Петра Лужина, “чиновника в ранге надворного советника”, описание, которое представляет в своем роде шедевр.
“...Он... дальний родственник Марфы Петровны6, которая многому в этом способствовала. Начал с того, что через нее изъявил желание с нами познакомиться, был как следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма вежливо изъяснил свое предложение и просил скорого и решительного ответа. Человек он деловой и занятый и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждою минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как все это произошло слишком скоро и неожиданно.
Соображали и раздумывали мы вместе весь тот день. Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это, может быть, только так кажется, с первого взгляда. Да и предупреждаю тебя, милый Родя, как увидишься с ним в Петербурге, что произойдет в очень скором времени, то не суди слишком быстро и пылко, как это и свойственно тебе, если на первый взгляд тебе что-нибудь в нем не покажется.
Говорю это на случай, хотя и уверена, что он произведет на тебя впечатление приятное. Да и кроме того, чтоб обознать какого бы то ни было человека, нужно относиться к нему постепенно и осторожно, чтобы не впасть в ошибку и предубеждение, которые весьма трудно после исправить и загладить. А Петр Петрович, по крайней мере по многим признакам, человек весьма почтенный... Конечно, ни с его, ни с ее стороны особенной любви тут нет, но Дуня, кроме того что девушка умная, в то же время и существо благородное, как ангел, и за долг поставит себе составить счастье мужа, который в свою очередь стал бы заботиться о ее счастии, а в последнем мы не имеем, покамест, больших причин сомневаться, хотя и скоренько, признаться, сделалось дело. К тому же он человек очень расчетливый и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее. А что там какие-нибудь неровности в характере, какие-нибудь старые привычки и даже некоторое несогласие в мыслях (чего и в самых счастливых супружествах обойти нельзя), то на этот счет Дунечка сама мне сказала, что она на себя надеется, что беспокоиться тут нечего... Он, например, и мне показался сначала как бы резким; но ведь это может происходить именно оттого, что он прямодушный человек, и непременно так”.
В следующей части письма госпожа Раскольникова внушает своему сыну мысль, что единственной причиной, по которой Дуня выходит замуж за этого очевидно самодовольного и скучного деспота, является благополучие Роди.
“...Мы с Дуней уже положили, что ты, даже с теперешнего же дня, мог бы определенно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившеюся. О, если б это осуществилось! Это была бы такая выгода, что надо считать ее не иначе, как прямою к нам милостию Вседержителя. Дуня только и мечтает об этом”.
Ниже:
“...Дуня ни о чем, кроме этого, теперь и не думает. Она теперь, уже несколько дней, просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем и даже компаньоном Петра Петровича по его тяжебным занятиям, тем более что ты сам на юридическом факультете”.
В конце она сообщает ему, что они с Дуней едут в Петербург для Дуниной свадьбы, которую “по некоторым расчетам” Лужину хочется сыграть как можно скорее.
“...О, с каким счастьем прижму я тебя к моему сердцу! Дуня вся
в волнении от радости свидания с тобой и сказала раз, в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. Ангел она!”
А вот концовка письма:
“А теперь, бесценный мой Родя, обнимаю тебя до близкого свидания нашего и благословляю тебя материнским благословением моим. Люби Дуню, сестру свою, Родя; люби так, как она тебя любит, и знай, что она тебя беспредельно, больше себя самой любит. Она ангел, а ты, Родя, ты у нас все — вся надежда наша и все упование. Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы.
Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы! Прощай или, лучше, до свидания! Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бессчетно.
Твоя до гроба
Пульхерия Раскольникова”.
Вот первая реакция Раскольникова на это письмо:
“Почти все время, как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слез; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой и тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли. Наконец, ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или на сундук.
Взор и мысль просили простору. Он схватил шляпу и вышел, на этот раз уже не опасаясь с кем-нибудь встретиться на лестнице; забыл он об этом. Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову через В-й проспект7, как будто торопясь туда за делом, но, по обыкновению своему, шел, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих. Многие принимали его за пьяного”.
Давайте порассуждаем о том положении, в которое ставит Раскольникова это письмо. Ему говорится: “...я и характер и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою”. Ему говорится также, что его сестра, после того как пережила одну чудовищную обиду, находится на пути, как ему дают понять, к еще большему унижению. Если в первом случае ее вины не было, то во втором случае, вступая в брак, который есть не что иное, как узаконенная проституция, она сама продает свою чистоту и порядочность. Ему говорится, что она делает это только ради него. И от него ожидают, что он это одобрит.
Но мать определила его уже как человека, который никогда бы не дал в обиду свою сестру. Может ли он в то же самое время быть человеком, который позволит своей сестре торговать собой ради него? Это и есть безвыигрышное положение.
Еще одно превращение и извращение происходит вокруг “счастья”. “Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы”. Как могут подобные обстоятельства сделать его счастливым, если иметь в виду то, что о нем говорится?
К этому добавляется путаница в отношении к вере в Бога и безбожию. Весь смысл большей части письма заключается в том, что один человек жертвует своей жизнью ради того, чтобы у другого было достаточно денег для достижения успеха и положения в обществе. Это считается показателем “золотого сердца” у Дуни (кстати, двусмысленное выражение) и того, какой она ангел.
Однако каково же положение христианина, поставленного в положение того, кто принимает этот подарок?
Дуня и мать только рады пожертвовать собой в пользу Роди, который “вся надежда наша и все упование”. С одной стороны, они, очевидно, хотят от него, чтобы он заработал денег, для того чтобы им выбраться из беспросветной жизни. С другой стороны, они говорят ему, что все, чего они от него хотят, это его “счастья”. И в то же время мать беспокоится, не поддался ли он “духу новейшего модного безверия”, которое ставит “мирское” прежде любви!
Чтобы распутать все хитросплетения в этом письме или даже только в приведенных выше отрывках, вскрыть тайные противоречия и парадоксы, разобрать на части многоэтажное лицемерие, потребовалось бы исследование, в несколько раз длиннее, чем само это письмо.
Читая это письмо, полезно представить, в качестве упражнения, его возможное действие на человека, которому оно адресовано. Как уже подчеркивалось выше, мы должны рассуждать — трансперсонально — не просто о патологии в этом письме, но о его порождающем патологию действии на другого.
Итак, резюмируем некоторые моменты.
Человек, которому адресовано это письмо, ставится сразу в целый ряд совершенно несовместимых позиций.
На каждом из уровней многоэтажного лицемерия присутствует пронизывающее весь его текст завуалированное предписание негласной договоренности; другие же атрибуции несут в себе невозможность этого для адресата; в сущности, ему запрещают быть лицемерным, в особенности прощальным напоминанием о его детской невинной вере, когда слова действительно были тем, что они есть.
Он должен был быть счастливым, ибо тогда и “мы будем счастливы”. Но будучи таким человеком, каким, как говорит его мать, он является, он никогда не смог бы быть счастлив этой великой “жертвой” его сестры. Но в то же время, если он будет несчастлив, он делает их несчастными. Итак, следует полагать, он будет эгоистичным, если будет счастлив, и будет эгоистичным, если будет несчастлив, а также будет виновен и в том, и в другом случае.
Дуня несколько раз названа ангелом. Это, по сути, значит: “Смотри, что она готова для тебя сделать”. Здесь, очевидно, скрывается негативное предписание против любого поползновения рассматривать Дуню отрицательным образом, под угрозой быть неблагодарным. Он должен быть просто чудовищем, чтобы испытывать к такому небесному созданию что-либо кроме самой искренней благодарности или чтобы толковать ее поступок иначе, чем самопожертвование. И в то же время, если он такой, как ему говорят, он должен не допустить этого. Это уже почти совершившийся факт, если он не сделает чего-то ужасного. Ему дают все основания для чувства ненависти, негодования, горечи, стыда, вины, унижения, бессилия и в то же время говорят, что он должен быть счастлив. Письмо устроено таким образом, что любое движение в каком-либо направлении, санкционированном этим письмом, или последовательное сохранение одной позиции среди бесчисленных несообразностей и несоответствий в письме, с неизбежностью приводит к тому, что он попадает в разряд преступников и злодеев.
Он не должен судить о Лужине “слишком быстро и пылко”, когда встретится с ним, “как это и свойственно тебе, если на первый взгляд тебе что-нибудь в нем не покажется”, и в то же время “уверена, что он произведет на тебя впечатление приятное”. Письмо далее строится так, чтобы сделать невозможным любое возможное впечатление от Лужина, кроме самого наихудшего.
Он должен быть христианином. Но если он христианин, то, одобряя этот безбожный план добычи денег и положения в обществе, он должен быть страшным грешником. Он мог бы одобрить такой план, если бы был безбожником, но если бы он был безбожником, он был бы злодеем и грешником.
Мысли Раскольникова в беспорядке, его гнетет то, что его обязывают быть благодарным за эту непрошенную жертву, он выходит на улицу, раздумывая, как же остановить Дунину свадьбу с этим ужасным Лужиным. Они уже решили его судьбу тем, что предприняли, разве только он совершит что-нибудь чудовищное, и это навязанное ему будущее окажется невозможным.
Письмо, так сказать, производит внутри него взрыв. В психическом отношении он развалина. Достоевский преподносит нам какую-то груду обломков: Наполеон в воображении, маленький мальчик в сновидении, старая кляча, она же старуха — в фантазии и убийца на самом деле. В конце концов, через свое преступление и наказание Раскольников все преодолевает и обретает Соню, а Дуня находит счастье с его приятелем Разумихиным. Мать его умирает в помраченном рассудке.
Приложение
Система обозначений
взаимоатрибуций в диаде1
Только если двое людей осуществляют обоюдно “успешные” акты атрибуции, между ними могут начаться какие-либо подлинные отношения.
Межперсональная жизнь происходит в узле людей, в котором каждый отдельный человек догадывается, предполагает, умозаключает, доверяет, надеется или подозревает, в целом будучи счастлив или страдая в силу своей фантазии относительно переживаний, мотивов, намерений других. Фантазия распространяется не только на то, что сам другой переживает или на то, каковы намерения самого другого, но и на то, каковы фантазии другого относительно переживаний и намерений первого, а также каковы его фантазии относительно фантазий первого относительно фантазий второго относительно переживаний первого и т.д. Было бы величайшей ошибкой предполагать, что это всего лишь “теоретические” нагромождения, имеющие малое отношение к практике. Есть люди, которые всю свою жизнь проводят, перемещаясь между различными уровнями фантазии, вдали от своих собственных непосредственных переживаний и намерений. В семейных взамодействиях часто преобладают такого рода явления. Психотерапевт или аналитик постоянно прибегает к своей способности делать (будем надеяться) достоверные заключения о фантазиях пациента относительно самого аналитика.
Далее следует краткое “упражнение” на эту тему, с использованием простой системы обозначений:
первый в диаде, собственно “я” — я
то, как “я” видит себя, — я ——> я
то, как “я” видит другого, — я ——> д
Аналогичным образом:
другой — д
то, как другой видит себя, — д ——> д
то, как другой видит “я”, — д ——> я
то, как “я” представляет себе видение другим самого другого — я ——> (д ——> д)
то, как “я” представляет себе видение другим “я”, — я ——>
(д ——> я)
Аналогичным образом:
то, как другой представляет себе видение первым, собственно “я”, самого “я”, — д ——> (я ——> я)
то, как другой представляет себе видение первым, собственно “я”, его самого, другого, — д ——> (я ——> д)
> лучше, чем
: подобно
B равно
Ц не равно
Далее следуют несколько примеров для иллюстрации практического применения этого краткого обозначения.
Пример 1.
Представление я о представлении д о том, что он, я, думает о себе самом, я
я ——> (д ——> (я ——> я))
Маленький мальчик “наказан” за то, что сделал что-то “плохое”. Он не чувствует сожаления по этому поводу, но знает, что ему положено извиниться и выглядеть человеком, сожалеющим о содеянном.
Тут для него содержится вот что:
я ——> я Я не сожалею.
я ——> (д ——> я) Мама сердится на меня. Она хочет, чтобы я сказал, что я сожалею, и хочет, чтобы я чув- ствовал сожаление. Я знаю, как выглядеть, будто я сожалею.
Итак:
я ——> я Ц я ——> (д ——> (я ——> я))
Я не сожалею. Она думает, что я сожалею.
Следовательно:
“Я знаю, как ее провести”.
Базовая идея здесь такова: я ——> (д ——> (я ——> я)), то есть то, что мать видит его как сожалеющего о содеянном.
Он думает, что она почувствует что-нибудь вроде: “Ну вот, теперь он опять хороший мальчик, он сожалеет о том, что сделал”.
Но мать могла не попасться на эту удочку.
Возможно, она видела, что его сожаление напускное, но махнула рукой.
И теперь ей придется задействовать следующую, более высокую, степень фальсификации:
д ——> (я ——> (д ——> (я ——> я)))
Я вижу, что он думает, что я думаю, что он сожалеет.
Пример 2.
Представление я о том, как д видит то, как я видит д.
я ——> (д ——> (я ——> д))
Муж (я) думает, что жена (д) думает, что он не знает о том, что она его больше не любит.
В общем виде здесь заключено следующее:
(я ——> д)
то, как он видит ее.
Ситуация глазами жены должна заключать в себе:
д ——> (я ——> д)
то, как она думает, он видит ее.
Предполагается, что она думает:
д ——> (я ——> (д ——> я))
“Я полагаю, он думает, что я его люблю”.
С точки зрения мужа:
я ——> (д ——> (я ——> (д ——> я)))
Он думает, что его жена что он считает, что она его
думает, любит.
Пример 3.
Д сказал неправду и был пойман на этом. Ему стыдно, но потому, что он пойман на лжи, а не потому, что он солгал (д ——> д).
я думает, что д стыдно из-за его лжи:
я ——> (д ——> д)
д знает, что я смягчится, если он, я, будет думать, что ему, д, стыдно:
д ——> (я ——> (д ——> д))
так что он ведет себя так, как если бы он, д, думал, что я все еще сердится на него, д.
я думает, что д ведет себя таким образом, потому что он, д, думает, что он, я, все еще сердится на него, д, потому что он, я, не может понять, как д за себя стыдно и т.д. и т.п.
я ——> (д ——> (я ——> (д ——> д))).
Пример 4.
Король и придворный льстец.
д ——> (я ——> (д ——> (я ——> я)))
я ——> (д ——> (я ——> (д ——> я)))
Король, я, хочет, чтобы кто-нибудь был с ним искренен и честен, чтобы он мог на самом деле узнать, что о нем думают другие, т.е.:
я ——> (д ——> я) B д ——> я
Другой говорит: “Я не способен Вам льстить”, надеясь, что я подумает, что он, д, имеет в виду под этим:
д ——> (я ——> (д ——> я)))
Но я думает: “Он думает провести меня с помощью этой старой уловки”, т.е.:
я ——> (д ——> (я ——> (д ——> я)))
Пример 5.
“Параноик”, я
Его жена, д
д ——> (я ——> (д ——> (я ——> д)))
я ——> (д ——> (я ——> (д ——> я ——> д)))
Он убежден, что она обманывает его, чтобы заставить ревновать, однако не подает виду, что знает это. Поэтому он притворяется, что ревнует (хотя на самом деле нет), чтобы выяснить, правда ли это. Но он не уверен, что она не могла это раскусить.
То есть:
он думает, что она думает, что ей удалось ловким приемом заставить его ревновать, но она (1), может быть, не обманывает его, она, может быть, только лишь притворяется, что обманывает его, так что (2) он будет только лишь притворяться, что он ревнует, однако (3) она, может быть, осознает, что он осознает, что она не уверена, действительно ли он ревнует. Отчуждение от непосредственной обратной связи, наверное, можно лучше увидеть, если использовать следующую “слоистую” диаграмму.
В рамках такой “параноидной” позиции кажется невозможной никакая обратная связь, здесь, по-видимому, присутствует нечто вроде “побега” в почти безграничный регресс (навязчивости, вязкое мышление и т.п.).
В заключение этого обсуждения мы приглашаем читателя стать очевидцем словесного поединка между женой и мужем и оценить искусство обеих сторон в использовании атрибуций.
Она: Я люблю тебя, дорогой, ты же знаешь.
я ——> д д ——> (я ——> д)
Он: ...и я тебя тоже, дорогая.
д ——> (я ——> д) B я ——> д B д ——> (я ——> д)
Она: Я люблю тебя, а ты думаешь, что я дурочка.
я ——> д Ц я ——> (д ——> я)
Он: Это проекция.
я ——> (д ——> я) Ц д ——> я но: я ——> (д ——> я) B я ——> д
или: я ——> я B я ——> (д ——> я)
Она: Чепуха. Ты действительно думаешь, что я дурочка.
д ——> (д ——> я) Ц д ——> я я ——> (д ——> я) B д ——> я
Он: Я никогда ничего подобного не говорил.
Она: Ты только что это сказал.
Он: Я сказал, что ты занимаешься проекциями.
Она: Вот я и говорю; ты меня нисколько не уважаешь.
Он: Это неправда, дорогая, ты знаешь, что я тебя уважаю.
Она: Не говори мне, что я знаю, что ты меня уважаешь. Я знаю, что ты меня не уважаешь. Ты, как всегда, думаешь, что знаешь мою душу лучше, чем я сама.
Он: Но ты не знаешь свою собственную душу. Поэтому-то ты и ходишь к врачу и поэтому-то ты больна. Я пытаюсь помочь тебе, как ты не понимаешь?
Она: Ты мне ничуть не помогаешь. Ты пытаешься доконать меня. Ты никогда не мог допустить, чтобы я думала самостоятельно.
Он: Это как раз то, чего я хочу для тебя. Я не один из тех мужей, которые думают, что женщина не должна быть умна. Я считаю, что ты весьма умная женщина.
Она: Тогда почему ты обращаешься со мной по-другому? Видимо, ты считаешь, что обращался со мной как с умной, когда обругал меня прошлым вечером грязной сукой.
Он: Извини, ты вывела меня из себя. Ты иногда способна вести себя отвратительно; и я сказал тебе ровно то, чего ты от меня добивалась. Я забыл, что на самом деле ты нездорова.
Она: Я отвечаю за каждое слово, которое я сказала.
В конечном итоге этот спор имеет следующую структуру:
я (жена) говорит:
я ——> (д ——> я) > д ——> (д ——> я)
я ——> (я ——> я) > д ——> (я ——> я)
я ——> (я ——> д) > д ——> (я ——> д)
д (муж) говорит:
д ——> (я ——> я) > я ——> (я ——> я)
д ——> (д ——> я) > я ——> (д ——> я)
д ——> (я ——> д) > я ——> (я ——> д)
Примечания
К главе 1
1. В философском отношении Лэйнг опирался на феноменологию.
Феноменальное, феномен — то, что дано в непосредственном опыте (Прим. перев.).
2. Слова в кавычках взяты как мини-цитаты из той системы представлений или из того языка, который обсуждает Лэйнг, в данном случае психоанализа (Прим. перев.).
3. Следуя словоупотреблению в психологии межличностного восприятия; см. в особенности Хайдер (1958).
4. Понятие “интернализированный объект” используется иногда феноменологически, а иногда метапсихологически. Прояснение психоаналитической трактовки этой двусмысленности содержится у Стрейчи (1941).
5. Raison d’etre (фр.) — основание существования (Прим. перев.).
К главе 2
1. Было бы неправильным рассматривать Лэйнга как врага культуры. Как исследователя экстремальных ситуаций в области психического, его волнует не то, что культура поддерживает подобные различения (это первейшая функция культуры), а то, что забывается их условность. Это как если бы человек, не имея ложки и вилки, умер с голоду (Прим. перев.).
2. Здесь Лэйнг имеет в виду не произвольное фантазирование, а фантазию, неосознаваемую как таковую, то есть что-то вроде сна наяву (Прим. перев.).
3. “Безвыигрышная ситуация” в последующих главах используется как термин для обозначения определенного рода экзистенциальных ситуаций (Прим. перев.).
4. В более позднем интервью (1984 года) Лэйнгу был задан вопрос о его негативном отношении к семье. Он ответил, что брак и семья в наше время ничем не освящены, а потому превратились в фикцию, в условность (Ричард Саймон “Один к одному. Беседы с создателями семейной терапии”. М.: Независимая фирма “Класс”, 1996) (Прим. перев.).
5. “Узел” — один из постоянно встречающихся у Лэйнга терминов, обозначающий группу, объединенную общей системой фантазии (Прим. перев.).
6. Лэйнг показывает абсолютную условность “внутреннего” и “внешнего” в такой ситуации, их функционирование лишь как элементов замкнутой системы фантазии. Поэтому перемещение между этими двумя областями оставляет человека в прежнем положении (Прим. перев.).
7. “Полиция мысли”, другими словами, система идеологического насилия — популярное выражение в среде западных левых интеллектуалов. Сюда относятся средства массовой информации, психиатрическая система, школа и другие институты, работающие на основе так называемых гуманитарных технологий. Сам Лэйнг испытывал постоянное беспокойство, по крайней мере, начиная с 1970-х годов, когда развеялись иллюзии студенческих революций, свободных общин и т.п., что его идеи могут быть использованы идеологической машиной. В уже цитированном интервью он сказал, что это одна из причин, по которой он перестал писать о семье (Прим. перев.).
К главе 3
1. Перевод с французского С. Климовецкого.
2. Следующее описание относится равным образом к обоим полам, однако для удобства изложения я не буду иногда подробно разбирать оба случая. Речь идет не только о людях с клиническим диагнозом “истерик” или “истерический характер”, которые используют этот маневр постоянно.
3. Modus vivendi (лат.) — способ существования, образ жизни (Прим. перев.).
К главе 4
1. “Кот” — сутенер на уличном жаргоне (Прим. перев.).
2. Перевод с французского цитируется по изданию: Жан Женэ. Богоматерь цветов. М.: “Эргон”, 1994.
3. Здесь и далее цитируется по изданию: Достоевский, собр. соч., том 5. М.: Государственное изд-во художественной литературы, 1957.
4. См. главу 10.
5. От латинского pro-stitutio — за, вместо поставленный (Прим. перев.).
К главе 5
1. Обратите внимание на ряд: ночь, тьма, буря, червь, угасание в болезни.
Сравните с рядом в стихотворении Блейка.
О Роза, ты чахнешь!
Окутанный тьмой
Червь, реющий в бездне,
Где буря и вой,
Пунцовое лоно
Твое разоряет
И черной любовью,
Незримый, терзает.
(Перевод Сергея Степанова).
2. В рассказе миссис А. упоминалась навязчивая потребность создавать пену с помощью мыла, которая сопровождала ее манипуляции с руками и водой. Дело в том, что в английском языке слово head (голова) имеет также значение “пена”, “шапка пены” (Прим. перев.).
3. Об операции отображения или картографирования см. подробнее в предисловии (Прим. перев.).
К главе 6
1. Рабби Кабиа и рабби Бен Йохай — израильские учителя закона, жившие во II веке после Рождества Христова. Рабби Бен Йохай знаменит тем, что за выступление против римлян был приговорен к смерти, бежал, скрывался в пещере, где, по легенде, создал каббалистическую книгу “Зохар” (Прим. перев.).
2. Такое использование термина “комплементарность” следует отличать от других распространенных вариантов его использования. Так, Хейли (1958б) противопоставляет “комплементарные” отношения “симметричным”:
“В комплементарных отношениях один человек скорее дает, а другой получает, по сравнению с симметричными отношениями, где присутствует конкуренция. В комплементарных отношениях два человека обладают неравным статусом, один занимает более высокое положение, а другой довольствуется вторыми ролями. “Более высокое” положение означает, что этот человек инициирует действие, а другой подчиняется; один критикует, а другой принимает критику; один предлагает решения, а другой проникается необходимостью их выполнения и т.п. В таких отношениях двое людей стремятся подходить друг другу или дополнять один другого”.
Нашая концепция носит несколько иной характер.
4. “Я буду сыном своего отца, если мне удастся сделать определенные вещи” (Прим. перев.).
5. “Я сын моего отца, если так говорит мой отец”.
“Безвыигрышная” позиция всегда связана с потерей “пространства безусловной приватности” (см. главу 2), когда человек оказывается в полной экзистенциальной зависимости от других людей (подробнее см. в главе 9) (Прим. перев.).
К главе 7
1. Cf. Wynne и др. (1958).
2. Этот забавный случай рассказал мне доктор Чарльз Рикрофт (Rycroft).
Доктор Рикрофт проводил с Лэйнгом курс психоанализа во время обучения последнего в Институте психоанализа Тэвистокского центра (Прим. перев.).
3. Что бы ни имелось в виду под “любовью”.
К главе 8
1. Обозначения в квадратных скобках — мои (см. Приложение).
“Я” в квадратных скобках обозначает “я” во взаимодействии “я — другой”, “д” — обозначает “другой” во взаимодействии “я — другой” (Прим. перев.).
2. Ад — это другой (фр.). (Прим. перев.).
3. Перевод с французского отрывков из пьесы Ж. Женэ “Балкон” Е. Ковалевой.
4. Описание составлено на основании полной магнитофонной записи групповых встреч.
5. Вышеизложенное есть слегка измененная версия более ранней публикации (Laing и Esterson, 1958).
К главе 9
1. “Ибо в любом действии то, что в первую очередь движет
совершающим его, действует ли он исходя из естественной
необходимости или по свободной воле, есть раскрытие собственного образа. Отсюда получаем, что каждый
деятель находит удовольствие в деянии; поскольку все,
что существует, желает своего существования, и поскольку
в действии существование деятеля каким-то образом
усиливается, то удовольствие следует с необходимостью...
Таким образом, ничто не действует иначе, кроме как посредством
действия превращая в явное свое скрытое “я”.
Цит. По: Arendt (1958, стр. 175).
2. Цитата в русском переводе Г. Шпета приводится по изданию: Гегель, собр. соч., подготовленное Академией Наук СССР, том IV. М.: Изд.социально-экономической литературы, 1959, стр. 169—170 (Прим. перев.).
3. Все цитаты из “Двойника” Достоевского приводятся по изданию: Достоевский, собр.соч., т.1. М.: Гос. издательство художественной литературы, 1956 (Прим. перев.).
4. В особенности это относится к исследованиям Минковски, первооткрывателя в этой области [Minkowski (1933, 1953)]. Подобную же критику можно адресовать Бинсвангеру [Binswanger (1958)].
5. Авторы указывают в сноске, что их концепция наказания еще уточняется. Очевидно, она включает в себя чувственный опыт в таком разрезе, который не может быть охвачен понятием “травма”. См. подробно: Jackson (1957) о развитии представления о “скрытой травме”.
6. Это немного модифицированный и слегка сокращенный вариант описания, приведенного в статье после теоретической части. Следует отметить, что анализ взаимодействия неполон, так как данное описание ситуации не включает в себя никаких наблюдений относительно того, каким образом пациент мог спровоцировать поведение двоякого предписания со стороны матери. Например, между шагами (б) и (в) пациент, двигаясь по направлению к матери, мог мелькнувшим на своем лице выражением и походкой заразить ее своим страхом близости с нею, так что она каменеет.
К главе 10
1. Об остроумном, но никоим образом не шутливом исследовании психоанализа как разновидности трюкачества см.: Haley (1958а). См. также Haley (1958б).
2. Этим примером я обязан доктору A. Эстерсону.
3. В английском языке слово “ублюдок” (bastard) имеет также значение “поддельный, напускной, фальшивый” (Прим. перев.).
4. Мета-утверждение — утверждение об утверждении (Прим.
перев.).
5. Цитируется по изданию: Достоевский, собр. соч., том 5. М.:
Государственное изд-во художественной литературы, 1957, стр. 34 — 44.
6. Марфа Петровна — госпожа Свидригайлова (Прим. перев.).
7. В английском тексте — Вознесенский проспект (Прим. перев.).
К Приложению
1. Эта схема подробно разработана в: Laing, Phillipson, Lee (1966).
Литература
Arendt, H. (1958) The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press.
Bateson, G., Jackson, D. D., Haley, J., and Weakland, J.(1956) Toward a Theory of Schizophrenia. Behavioral Science I, 251.
Bateson, G. (1958) Cultural Problems Posed by a Study of Schizophrenic Process. In Auerbach (ed.), Schizophrenia. An Integrated Approach. New York: Ronald Press.
Bion, W. R. (1955) Group Dynamics: A Re-view. In Klein, M., Heimann, P., and Money-Kyrle, R. E. (eds.), New Directions in Psycho-Analysis. Also in W. R. Bion, Experiences in Groups and Other Papers (1961). London: Tavistock Publications; New York: Basic Books.
Bion, W. R. (1965) Transformations. London: Heinemann Medical Books.
Binswanger, L. (1958) The Case of Ellen West. Trans. Mendel, W. M., and Lyons, J. In May, R. et al. (eds.), Existence — A New Dimension in Psychiatry and Psychology. New York: Basic Books.
bowlby, j. (1958) The Nature of the Child’s Tie to His Mother. Int.J. Psycho-Anal. 39, 350.
Bowlby, J. (1960) Separation Anxiety. Int. J. Psycho-Anal. 41, 89.
Brodey, W. M. (1959) Some Family Operations and Schizophrenia. A.M.A. Arch. Gen. Psychiat. I, 379.
Bronfenbrenner, U. (1958) The Study of Identification through Interpersonal Perception. In Tagiuri, R., and Petrullo, L. (eds.), Person Perception and Interpersonal Behavior. California: Stanford University Press.
Bruner, J. S., Shapiro, D., and Tagiuri, R. (1958) Facial Features and Inference Processes in Interpersonal Perception. In Tagiuri, R., and Petrullo, L. (eds.), Person Perception and Interpersonal Behavior, California: Stanford University Press.
Bruner, J. S., and Tagiuri, R. (1954) The Perception of People. In Lindzey, G. (ed.), Handbook of Social Psychology, vol. 2. Cambridge, Mass.: Addison-Wesley.
Buber, M. (1957a) Distance and Relation. Psychiatry 20.
Buber, M. (1957b) Elements of the Inter-Human Contact. Psychiatry 20.
Burtt, E. A. (1955) The Teachings of the Compassionate Buddha. New York: Menor Books.
dostoievsky, f. (1951) Crime and Punishment. Harmondsworth: Penguin Books.
Dostoyevsky, F. (1958), The Double. A Poem of St. Petersburg. London: The Harvill Press; Indiana: Indiana University Press.
Ferenczi, S. (1938) Thalassa. A Theory of Genitality. New York: The Psychoanalytic Quarterly, Inc.
Freud, A. (1954) The Ego and the Mechanisms of Defence. London: Hogarth Press.
Gendlin, T. E. (1962) Experiencing and the Creation of Meaning. New York: Free Press of Glencoe.
Genet, J. (1957a) Our Lady of the Flowers. Paris: The Olympia Press.
Genet, J. (1957b) The Balcony. London: Faber & Faber.
Giovacchini, P. L. (1958) Mutual Adaptation in Various Object Relationships. Int. J. Psycho-Anal. 39.
Glover, E. (1945) Examination of the Klein System of Child Psychology. In The Psychoanalytic Study of the Child, vol. 1. London: Imago.
Goldstein, K. (1957) The Smiling of the Infant and the Problem of Understanding the Other. J. Psychol. 44, 175.
Haley, J. (1958a) The Art of Psychoanalysis. ETC.
Haley, J. (1958b) An Interactional Explanation of Hypnosis’. Amer. J. Clin. Hypnosis 1, 41.
Haley, J. (1959) An Interactional Description of Schizophrenia. Psychiatry 22, 321.
Haley, J. (1960) Observation of the Family of the Schizophrenic. Amer. J. Orthopsychiat. 30, 460.
Hegel, G. W. F. (1949) The Phenomenology of Mind (revised second edn.). London: Allen & Unwin.
Heidegger, M. (1949) On the Essence of Truth. In Existence and Being. London: Vision Press.
Heider, F. (1944) Social Perception and Phenomenal Causality. Psychol. Rev. 51, 358.
Heider, F. (1946) Attitudes and Cognitive Organization. J. Psychol. 21, 107.
Heider, F. (1958) The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley; London: Chapman & Hall.
Hopkins, G. M. (1953) Gardner, W. H. (ed.), Poems and Prose of Gerard Manley Hopkins. Harmonds worth: Penguin Books.
Isaacs, S. (1952) The Nature and Function of Phantasy. In Riviere, J. (ed.), Developments in Psycho-Analysis. London: Hogarth Press.
Jackson, D. D. (1957) A note on the Importance of Trauma in the Genesis of Schizophrenia. Psychiatry 20, 181.
Jackson, D. D. (1959) Family Interaction, Family Homeostasis and Some Implications for Conjoint Family Therapy. In Masserman, J. (ed.), Individual and Familial Dynamics. New York: Grune & Stratton.
Jackson, D. D. (1959) Schizophrenic Symptoms and Family Interaction. A.M.A. Arch. Gen. Psychiat. 1, 618.
Jaques, E. (1955) Social Systems as Defence against Persecutory and Depressive Anxiety. In Klein, M., Heimann, P., and Money-Kyrle, R. (eds.), New Directions in Psycho-Analysis, London: Tavistock Publications.
Jourard, S. M. (1968) Disclosing Man to Himself. New York: Van Nostrand.
Laing, R. D. (1960) The Divided Self. London: Tavistock Publications; (Penguins Books, 1965) New York: Pantheon.
Laing, R. D. (1965) Mystification, Confusion and Conflict. In Boszormenyi-Nagy, I., and Framo, J. L. (eds.), Intensive Family Therapy. New York: Harper & Row.
Laing, R. D. (1967) The Politics of Experience and The Bird of Paradise, Harmondsworth: Penguin Books; New York: Pantheon.
Laing, R. D. (1967) Family and Individual Structure. In Lomas, P., The Predicament of the Family. London: Hogarth Press.
Laing, R. D. (1969) The Politics of the Family. Toronto: CBC Publications.
Laing, R. D. and Esterson, A. (1958) The Collusive Function of Pairing in Analytic Groups. Brit. J. med. Psychol. 31, 117.
Laing, R. D. and Esterson, A. (1964) Sanity, Madness, and the Family. Vol. I. Families of Schizophrenics. London: Tavistock Publications; New York: Basic Books (1965).
Laing, R. D., Phillipson, H., and Lee, A. R. (1966) Interpersonal Perception — A Theory and a Method of Research. London: Tavistock Publications; (Penguin Books, 1970) New York: Springer.
Laplanche, J. and Pontalis, J.-B. (1964) Fantasme originaire, fantasme des origines, origine du fantasme. Les Temps Modernes 19, 215. English translation: Fantasy and the Origins of Sexuality. Int. J. Psycho-Anal. (1968), 49, 1—18.
Lemert, E. M. (1967) Paranoia and the Dynamics of Exclusion. In Scheff, T. J. (ed.), Mental Illness and Social Process. New York: Harper & Row.
Minkowski, E. (1933) Le Temps Vecu. Paris: Artrey, Coll. de l’evolution psychiatrique.
Mounier, E. (1952) Personalism. London: Routledge & Kegan Paul.
Newcomb, T. M. (1953) An Approach to the Study of Communicative Acts. Psychol. Rev. 60, 393.
Norman, R. D. (1953) The Interrelationship among Acceptance-Rejection, Self-Other Identity, Insight into Self and Realistic Perception of Others. J. Soc. Psychol. 37, 205.
Pittenger, R. E., Hockett, C. F., and Danehy, J. J. (l960) The First Five Minutes. New York: Paul Martineau.
Ruesch, J. (1958) The Tangential Response. In Hoch and Zubin (eds.), Psychopathology of Communication. New York: Grune & Stratton.
Sartre, Jean-Paul (1946) The Flies (Les moaches) and In Camera (Huts clos). London: Hamish Hamilton; No Exit (Huts clos) and The Flies (Les mouches). New York: Knopf (1947).
Sartre, Jean-Paul (1952) Saint Genet. Comidien et martyr. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul (1957) Being and Nothingness. Trans. H. E. Barnes. London: Methuen.
Scheff, T. (1967) Being Mentally Ill. Chicago, Ill.: Aldine Books.
Searles, Y. F. (1959) The Effort to Drive the Other Person Crazy — an Element in the Etiology and Psychotherapy of Schizophrenia. Brit. J. med. Psychol. 32, 1.
Strachey, A. (1941) A Note on the Use of the Word “Internal”. Int. J. Psycho— Anal, 22, 37.
Tillich, P. (1952) The Courage To Be. London: Nisbet.
Watzlawick, P., Beavin, J. H., and Jackson, D. D. (1967) Pragmatics of Human Communication. New York: Norton; London: Faber (1969).
Whitehorn, J. C. (1958) Problems of Communication between
Physicians and Schizophrenic Patients. In Hoch and Zubin (eds.), Psychopathology of Communication. New York: Grune & Stratton.
Winnicott, D. W. (1958) Transitional Objects and Transitional Phenomena. In Collected Papers. London: Tavistock Publications.
Wynne, L. C., Ryckoff, I. M., Day, J., and Hirsch, S. (1958) Pseudo-mutuality in the Family Relations of Schizophrenics. Psychiatry 21, 205.
СОДЕРЖАНИЕ
Лэйнг горечи и крепкой закваски.
Предисловие Е. Загородной
Предисловие автора ко второму изданию
Часть I
Модальности межличностного опыта
Глава 1
Фантазия и переживание
Глава 2
Фантазия и коммуникация
Глава 3
Притворство и уклонение
Глава 4
Полифония опыта
Глава 5
Холод смерти
Часть II
Формы межличностного взаимодействия
Глава 6
Комплементарная идентичность
Глава 7
Подтверждение и неподтверждение
Глава 8
Негласная договоренность
Глава 9
Ложная и безвыигрышная позиции
Глава 10
Атрибуции и предписания
Приложение
Система обозначений взаимоатрибуций в диаде
Примечания
Литература
Рональд Д. Лэйнг
“Я” и Другие
Перевод Е. Загородной
Редактор И. Тепикина
Компьютерная верстка С. Пчелинцев
Главный редактор и издатель серии Л. Кроль
Научный консультант серии Е. Михайлова
Изд.лиц. № 061747
Гигиенический сертификат
№ 77.99.6.953.П.169.1.99. от 19.01.1999 г.
Подписано в печать 5.12.2001 г.
Формат 60Ѕ88/16. Гарнитура Оффисина.
Усл. печ. л. 12. Уч.-изд. л. 8,8.
М.: Независимая фирма “Класс”, 2002.
103062, Москва, ул. Покровка, д. 31, под. 6.
E-mail: klass@igisp.ru
Internet: http://www.igisp.ru
ISBN 0-393-70185-9 (USA)
ISBN 5-86375-043-Х (РФ)
www.kroll.igisp.ru
Купи книгу “У КРОЛЯ”
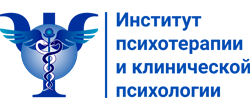

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству




 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
