Библиотека » Аналитическая психотерапия » Аналитическая психология
Автор книги: Юнг К. Г.
Книга: Аналитическая психология
Юнг К. Г. - Аналитическая психология читать книгу онлайн
АНТОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Психология
КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Моква
2001
УДК 159.9.01
ББК 88
Я 50
К.Г. Юнг
Я 50 Аналитическая психология. – М.: Современный гуманитарный университет, 2001. – 000 с.
ISBN 5-8323-0090-4
К.Г. Юнг – швейцарский психолог и философ, основатель «аналитической психологии». Развил учение о коллективном бессознательном, в образах которого – архетипах – видел источник общечеловеческой символики.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
УДК 159.9.01 ББК 88
ISBN 5-8323-0090-4
? Современный гуманитарный университет, 2001
Карл Густав Юнг родился 26 июля 1875 г. в местечке Кессвил в кантоне Тургау; в 1879 г. семья переехала в Кляйн-Хюниген, сегодня индустриальный пригород Базеля. С 11 лет Карл Густав начал учиться в базельской гимназии. Он был малообщительным, замкнутым подростком, который предпочитал общению мир собственных мыслей и фантазий.
Вскоре после завершения гимназии Юнг поступает в университет на медицинский факультет. В те времена ему приходилось и напряженно учиться и подрабатывать в анатомическом театре и лаборатории. Он окончил университет за пять лет, что было тогда редкостью, обычно учились на пару лет дольше.
В декабре 1900 г. Карл Густав занимает место ассистента в Цюрихской клинике Бургхельцли, руководимой видным психиатром Э. Блейлером. Клиника представляла собой нечто вроде монастыря. Блейлер требовал от ассистентов не только высочайшего профессионализма, но и отдачи почти всего свободного времени лечению пациентов. Клиника дала Юнгу очень многое, Блейлер ориентировал молодых психиатров на новые методы лечения, именно он обратил внимание Юнга на только что вышедшую книгу Фрейда «Толкование сновидений». В 1902 г. Юнг защищает докторскую диссертацию, быстро поднимается по иерархической лестнице и в 1905 г. занимает место старшего врача в клинике.
Некоторые последователи Фрейда до сих пор повторяют обвинения, раздававшиеся еще в начале века: Юнг, мол, «обокрал» своего учителя Фрейда и из украденных кусочков сложил свою собственную систему. Обвинения эти просто несерьезны. Юнг был очень обязан Фрейду, причем и в старости он повторял, что Фрейд был самой крупной личностью, с которой ему довелось встречаться. Однако к моменту их встречи в 1907 г. основные идеи Юнга уже сформировались.
В феврале 1907 г. Юнг приезжает в Вену, беседует с Фрейдом трина-дцать часов без передышки – с этого начинается его активная деятельность в зарождающемся психоаналитическом движении. Фрейд возлагает на Юнга большие надежды, провозглашает его «кронпринцем», наделяет его всяческими полномочиями. Юнгу приходится заниматься колоссальной организационной работой – он является президентом только что возникшей международной психоаналитической ассоциации, главным редактором ее журнала.
Теоретическими итогами первого периода научной деятельности Юнга можно считать формирование и созревание его собственного учения. Уже в диссертации он связывает помрачение состояния сознания у медиумов с бессознательно протекающими процессами. Постепенно Юнг подходил к центральному пункту своего учения, которое позже он назвал учением об архетипах коллективного бессознательного: за порогом сознания лежат вечные праформы, проявляющиеся в разные времена в самых различных культурах. Они как бы хранятся в бессознательном и передаются по наследству от поколения к поколению.
Понятие «комплекс» было также введено Юнгом в психоанализ по ходу работы над словесно-ассоциативным текстом. Он послужил отправной точкой для целого ряда проективных тестов и даже созданного впоследствии «детектора лжи».
Со временем в работах Юнга начинают появляться идеи, далекие от фрейдовских. Так, если Фрейд склонен был сводить мифы к индивидуальным детским фантазиям, к «принципу удовольствия», то Юнг считает мифологию выражением универсально-человеческого, коллективного бессознательного. Отличие от фрейдизма связано как со значительно меньшим интересом к детской психологии, так и с несравнимо более высокой оценкой фантазии. То, что для Фрейда было иллюзией, для Юнга оказалось родом интуиции. Другим важным – и решающим для разрыва с Фрейдом – было положение о несексуальной природе либидо. Фрейд связывал в то время психическую энергию с сексуальным влечением. Для Юнга либидо есть психическая энергия вообще, она лишь в отдельных невротических случаях выступает как сек-суальное влечение.
После разрыва с Фрейдом Юнг оказывается в полном одиночестве. Он уходит со всех постов в Психоаналитической ассоциации, покидает и университет. Отношения со швейцарскими медиками были давно испорчены, он сталкивается с полным непониманием во врачебной среде, порываются отношения почти со всеми прежними друзьями и знакомыми. Начался критический период, который сам Юнг называл временем «внутренней неуверенности, даже дезориентации». Из личного опыта конфронтации с бессознательным, длившейся шесть лет, рождается вся система психотерапии Юнга: в то время он преодолел близкое к психотическому состояние сам, теперь он знал как лечить других.
Вводя понятие коллективного бессознательного, Юнг должен был четко отделить свою концепцию от психоанализа Фрейда. По мнению Юнга, коллективное бессознательное - это глубинная часть психики, имеющая универсальную и безличную природу, связанная с инстинктами, т.е. наследуемыми факторами. Это итог родовой жизни, уходящий через тысячи поколений людей в животное царство. Юнг сравнивал коллективное бессознательное с матрицей, грибницей (гриб – индивидуальная душа), с подводной частью горы или айсберга: чем глубже мы уходим «под воду», тем шире основание.
Универсальные праобразы, праформы поведения и мышления Юнг называет архетипами. Это система установок и реакций, которая определяет жизнь человека. Юнг сравнивал архетипы с системой осей кристалла. Она преформирует кристалл в растворе, выступая как поле, распределяющее частицы вещества. В психике таким «веществом» является внешний и внутренний опыт, организуемый согласно этим врожденным формам.
В работах 20-30-х годов Юнг обращался к чрезвычайно широкому кругу проблем психотерапии, психологии, культурологии, религиоведения. Он ездит по миру, читает лекции в Цюрихской высшей технической школе, основывает в 1935 г. Швейцарское общество практической психологии, получает почетные титулы в Гарварде и Оксфорде. Но основной областью его деятельности оставалась врачебная практика, и учение об архетипах коллективного бессознательного сформировалось в результате опыта лечения пациентов. Центральным понятием его психотерапии является «индивидуация» Речь идет о движении от фрагментарности к целостности души, о переходе от «Я», центра сознания, к «Самости» как центру всей психической системы.
В последние десятилетия своей жизни Юнг стал «мудрым старцем из Кюснахта». Его активная деятельность продолжалась до 1955 г., до потрясшей его смерти жены. В эти годы юнгианство оформляется как движение. Ранее Юнг всячески противился этому, опасаясь, что его идеи станут какой-то догмой для секты «верных», как это произошло во фрейдизме. Крайне неохотно он пошел и на создание Института К.Г. Юнга, но ученики сумели его уговорить. В те годы Юнг завершает свои исследования по алхимии, его привлекают вопросы теологии, парапсихологии. После продолжительной болезни Юнг умер в Кюснахте 6 июня 1961 г.
Говоря о влиянии идей Юнга, можно было бы составить долгий список литераторов, художников, режиссеров, историков религии, мифологии, искусства. Однако с полным на то правом могут называть себя юнгианцами прежде всего психотерапевты, получившие подготовку в одном из учебных институтов Международной ассоциации аналитической психологии.
Сделавшись «парадигмой» теории и практики тысяч последователей, учение Юнга, быть может, не только многое обрело, но и что-то утратило – поэзию интуитивных прозрений все более замещает проза индуктивных выводов, студенты Института К.Г. Юнга нередко пишут скучные и банальные диссертации, стремясь лишь к получению вожделенного диплома. Но такова судьба каждой научной школы, сделавшейся одновременно институтом и интеллектуальной традицией. Только так сохраняются большие идеи, и та роль, которую учение Юнга продолжает играть в мировой культуре, во многом определяется повседневной деятельностью новых поколений его последователей.
ПСИХОТЕРАПИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Психотерапия выросла на почве сугубо практических вспо-могательных методов, в силу чего долгое время испытывала трудности при осмыслении собственных идейных оснований. Подобно тому как психология поначалу руководствовалась физикалистсскими, а затем физиологическими понятиями и лишь после долгих колебаний подошла к сложным феноменам, т. е. к собственному полю деятельности, так и психотерапия сначала была вспомогательным методом и лишь постепенно освободилась от круга медицинско-терапевтических представлений. Она осоз¬нала, что имеет мало общего с физиологическими предпосылка¬ми, что ее интересуют в первую очередь процессы психические. Иными словами, она была принуждена обратиться к психологи¬ческим вопросам, а они быстро взорвали узкие рамки уже сло¬жившейся экспериментальной психологии с ее элементарными определениями. Требования психотерапии вовлекли в поле зре¬ния еще столь молодой науки сложнейшие психические состоя¬ния. Чтобы справиться с новыми проблемами, представителям этой науки зачастую недоставало необходимого понятийного арсенала. Неудивительно, что в этой психологии, возникшей, так сказать, под принуждением опыта терапии, заявило о себе оше¬ломляющее многообразие идей, теорий и точек зрения. Сторон¬ний наблюдатель не мог избавиться от впечатления вавилонского многоязычия. Эта путаница была неизбежной, пока не прояснилось, что психику нельзя лечить не рассматривая ее в целом, не дойдя до ее последних и глубочайших оснований так же, как нельзя лечить больное тело без учета целостности его функций, не говоря уж о том, что надо принимать во внимание всего, боль¬ного человека (как подчеркивает это сегодня и современная ме¬дицина в лице отдельных своих представителей).
Чем «психичнее» состояние, тем оно сложнее, тем в большей мере со-относится оно с целым. Конечно, элементарные психичес¬кие состояния тес-нейшим образом переплетаются с физиологи¬ческими телесными процессами. Нет ни малейших сомнений в том, что физиологический фактор представляет собой по мень¬шей мере один полюс космоса психики. Но если влечения и аф¬фекты, как и вся невротическая симптоматология, проистекаю¬щая из психического расстройства, очевидным образом покоятся на физиологическом основании, то и само это расстройство спо¬собно ввергнуть в беспорядок физиологическую упорядочен¬ность. Если это расстройство заключается в вытеснении, то этот фактор, а именно вытеснение, принадлежит к «высшему» психи-ческому порядку. Как показывает опыт, это уже не элементар¬ная фи-зиологическая причина, но, как правило, в высшей степе¬ни сложное образование. Например, им может быть рациональ¬ное, этическое, эстетическое, религиозное или иное как-то свя¬занное с традицией представление, для которого наука не нахо¬дит физиологического базиса. Эта сфера доминант высокой сложности образует другой полюс психики. У него есть своя энергия, которая в иных случаях многократно превосходит энер¬гию физиологически обусловленной психики.
Уже первые вторжения находившейся в процессе становле¬ния психо-терапии в собственно психологическую область привели ее в столкновение с глубинной проблемой противоположности. Структура психики настолько контрадикторна и контрапунктна, что нет ни одного психологического всеобщего утверждения или определения, коему тут же не нашлось бы противоположного.
Для противоречащих друг другу во всем теорий и особенно для совершенно нереализуемых мировоззренческих предрассуд¬ков проблема противоположностей стала самой идеальной аре¬ной для их борьбы. Психотерапия своим развитием разворошила настоящее осиное гнездо. Достаточно привести в качестве приме¬ра простейший случай так называемого вытеснения влечений. Стоит убрать вытеснение, и влечение высвобождается. Освобо¬дившись, оно должно было бы себя проявить, показать на деле. Но ситуация в таком случае делается болезненной, иногда даже слишком. Влечение должно модифицироваться, как принято го¬ворить, «сублимироваться». Как это должно происходить без нового вытеснения, этого, по правде говоря, никто не знает. Уже словечко «должно» указывает на бессилие терапевтов, а одно¬временно и на границы их разумения. Будь человек animal rationale, разумным животным, то эти призывы к разуму были бы уместны. Но только человек по природе своей не таков — по меньшей мере ровно настолько же он и неразумен. Поэтому-то разумом часто и не удается обойтись при такой модификации влечения, чтобы оно повиновалось разумному порядку. Выявля¬ющиесль я тут моральные, этические, философские и религиозные конфликты нельзя просто измыслить: практика перекрывает са¬мую смелую фантазию. Всякий добросовестный и любящий ис¬тину психотерапевт мог бы многое рассказать об этом (разумеет¬ся, тайком). Тут выходит на поверхность вся проблематика нашего времени, философские и религиозные вопросы наших дней, и если терапевт и пациент заранее не спасовали перед трудностями, то их пронизывает до костей. Оба вынуждены вступить в мировоззренческий спор и с самим собой и с партне¬ром. Готовые ответы и решения имеются, но они в принципе и не желательны и не удовлетворительны. Ни одного гордиева узла нельзя разрубить окончательно, у них есть одно пренеприят¬ное свойство — они всегда сами снова завязываются.
Мировоззренческий спор — это задача, которую неизбежно выдвигает сама психотерапия, даже если не каждому пациенту дано дойти до последних оснований. Нужно определить мас¬штаб, с помощью которого следует измерять, нужны этические критерии, определяющие наши действия. Поэтому пациент ждет от нас ответственности за наши суждения и решения. Не все па¬циенты удовлетворяются тем, что мы избегаем решений, осуждая их на инфантильную неполноценность, не говоря уже о том, что подобными терапевтическими ошибками подрубается тот сук, на котором «сидит» сам терапевт. Иными словами, психотерапевти¬ческое искусство требует умения выявить и занять четкую пози¬цию, достойную веры, умения обнаружить окончательные убеж¬дения, доказывающие свою прочность тем, что помогают снять невротическую расщепленность у самого терапевта или не дать ей возникнуть. Наличие невроза опровергает терапевта. Ведь ни одного пациента не поведешь дальше того места, которое сам занимаешь. Наличие комплексов, однако, не означает невроза — комплексы суть обычные психические центры, их болезненность не есть болезнетворное расстройство. Страдание — это не бо¬лезнь, а нормальная противоположность счастья. Комплексы бо-лезнетворны лишь в том случае, если их наличие отрицается.
Будучи сложнейшим образованием, мировоззрение представ¬ляет собой полюс, противоположный полюсу связанной с физио¬логией психики. Как высшая психическая доминанта мировоззре¬ние оказывает решающее воздействие на судьбу психики. Миро¬воззрение руководит жизнью терапевта и образует сам дух его те¬рапии. Даже при строжайшей объективности мировоззрение яв¬ляется в первую очередь субъективным образованием. Оно будет многократно разбиваться, сталкиваясь с истиной пациента, — и вновь и вновь обновляться. Ибо убеждение с легкостью пере¬рождается в самоуверенность, а тем самым в безжизненное окос-тенение. Твердое убеждение доказывает себя мягкостью и подат¬ливостью; подобно всякой высшей истине, оно произрастает из оставленных за-блуждений.
Не стану скрывать своего мнения: мы, психотерапевты, действительно должны быть философами или философствующи¬ми врачами. Более того, мы фактически являемся ими, иной раз сами того не сознавая, — уж очень велика пропасть между на¬шим занятием и той философией, которой обучают в универси¬тетах. Можно назвать это religio in statu nascendi , поскольку в великом многообразии изначальной жизненности еще нет тех ме¬ток, которые позволяют провести четкую грань между религией и философией. У нас нет досуга для систематической классифи¬кации или абстракций — в этом вечное неудобство психотера-певтической ситуации, воздействующей на мир аффектов психи¬ческими расстройствами. Поэтому мы не в состоянии предло¬жить философскому или теологическому факультету чистую экс¬позицию вырванных из жизни тезисов.
Наши пациенты страдают в оковах невроза, они являются пленниками бессознательного. Когда мы пытаемся проникнуть в эту сферу действия бессознательных сил, то вынуждены защи¬щаться от того же их влияния, коему подлежат наши пациенты. Подобно врачам, имеющим дело с эпидемиями, мы подвергаемся опасности и должны быть предельно осторожными с грозящими сознанию силами, идет ли речь о нашем собственном существо¬вании или вызволении больных из объятий бессознательного. Мудрое самоограничение еще не учебник по философии, а молитва, произнесенная в случае опасности, не трактат по теологии. Но и тот и другой питаются из источника религиозно-философской установки, соответствующей динамике самой жизни.
Высшие доминанты всегда наделены религиозно-философской природой. Это просто констатация факта, даже у дикарей мы можем наблюдать его, причем в богатейшем многообразии. Любая трудность, опасность, критическая стадия жизни сразу знаются по выходу на сцену этой доминанты, являющейся естественной реакцией на заряженные аффектами ситуации. Но нередко она пребывает во мраке, как полусознательные и возбуждающие ее аффективные состояния. Аффективные расстрой¬ства пациентов пробуждают соответствующие религиозно-филофские факторы и у терапевта. Осознание примитивных содержаний такого рода часто болезненно и неприятно для врача, а этому он, разумеется, стремится найти поддержку, руководство какой-либо имеющейся системе философии или принятой в обществе религии. Такой выход тоже оправдан, поскольку тем самым появляется возможность подыскать убежище для пациента какой-нибудь обещающей защиту внешней организации. Такое решение имеет смысл, поскольку тотемные кланы, культовые, общины и вероисповедальные церкви существовали повсюду с древнейших времен с неизменной целью — упорядочить хаотич¬ный мир влечений.
Однако ситуация усложняется, если пациент сопротивляется подобному коллективному решению. Тогда встает вопрос, согла¬сен ли терапевт преломить свои убеждения через истину пациен¬та. Чтобы лечить, терапевт хуже или лучше, но должен искать вместе с пациентом, без предзаданных мнений, чтобы найти со¬ответствующие эмоциональным состояниям пациента религиозно-философские мысли. Они предстают в архетипическом облике. Как первые ростки на той материнской почве, которая некогда породила вообще все религиозно-философские системы. Если же терапевт не намерен ставить под вопрос собственные убеждения при встрече с убеждениями пациента, то возникает законный вопрос о прочности его позиции. Вероятно, он заботится о само¬сохранении и потому неподатлив, но это грозит ему неподвиж¬ностью. Психическая эластичность — индивидуальная или коллективная — функционирует в заданных границах, иногда на¬столько узких, что некая неподвижность действительно означает рубеж человеческих способностей. Ultra posse nemo obligatur .
Влечение никогда не изолированно, да его и невозможно изо-лировать. Оно всегда несет с собой архетипические, духовно-ок¬рашенные содержания. Влечение или, с одной стороны, обосно¬вывается, или, с другой — ограничивается. Иными словами, вле¬чение всегда и неизбежно сопрягается с чем-то вроде мировоззре¬ния, каким бы архаичным, непрозрачным, сумеречным оно ни было. Влечение заставляет мыслить, и если не мыслят по доброй воле, то возникает компульсивное мышление. Ведь оба полюса души — физиологический и духовный — неразрывно связаны друг с другом. Нет одностороннего высвобождения влечений, а дух, оторвавшийся от влечений, обречен витать в пустоте. Такая связь с миром влечений вовсе не обязательно гармонична. На¬против, она заряжена конфликтами и несет страдания. Важней¬шей целью психотерапии является не перевод пациента в какое-то невозможно счастливое состояние — его нужно укрепить ду¬хом и научить с философским терпением переносить страдания. Целостность и полнота жизни требуют равновесия радости и страдания. Последнее неприятно, и люди, естественно, стремятся не думать о тех бедах и заботах, на которые обречен человек. Поэтому раздаются успокоительные речи об улучшении, движе¬нии к максимуму счастья. В них нет и проблеска мысли о том, что и счастье отравлено, если не исполнена мера страдания. За неврозом как раз очень часто скрывается естественное и необхо¬димое страдание, которое люди не желают претерпевать. Яснее всего это видно на примере истерических болей, отще-пившихся от той душевной боли, которую хотели избежать.
Христианская доктрина о первородном грехе, о смысле и ценности страдания имеет непревзойденное терапевтическое зна¬чение. Для западного человека она, без сомнения, куда больше подходит, чем исламский фатализм. Точно так же вера в бес¬смертие дает жизни непрерывный проток в будущее, что помога¬ет избегать психические заторы и регрессии. Хотя для обозначе¬ния этих психологически значимых представлений используется слово «доктрина», было бы ошибочно полагать, будто речь здесь идет о произвольных, чисто интеллектуальных теориях. Психологически это не подлежащий сомнению чувственный опыт. Позволю себе банальное сравнение: если я чувствую себя хорошо и привольно, то никто не докажет мне, что это не так. Логические аргументы отскакивают от факта чувственного опы¬та. К таким фактам принадлежат первородный грех, осмыслен¬ность страданий и бессмертие. Но их опыт харизматичен, ника¬кое человеческое искусство не в силах к такому опыту прину¬дить. Только безоговорочная самоотдача дает надежду на дости-жение такой цели.
На такую самоотдачу, однако, не всякий способен. Тут не существует никаких «ты должен», «обязан» — во всяком напря¬жении воли ударение неизбежно стоит на «Я», а тем самым до¬стигается нечто противоположное самоотвержению. Титанам бы¬ло не под силу взять штурмом Олимп, Христос не брал штурмом небо. Целительнейшие и душевно самые необходимые пережива¬ния — это та «труднодостижимая драгоценность», для достиже¬ния которой от 'обычного человека требуется необычайное.
Как известно, это чрезвычайное в практической работе с па¬циентами предстает как прорыв архетипического содержания, для усвоения которого недостаточны имеющиеся в распоряжении философские или религиозные мнения. Они просто не годятся для архаического символизма этого материала. Поэтому мы вы¬нуждены обращаться к материалам дохристианских и внехристианских мировоззрений. Мы исходим при этом из того, что чело¬веческое бытие не прерогатива человека западного типа, а белая раса не является богоизбранным видом homo sapiens. Да и неко-торые нынешние коллективные явления непонятны без обраще¬ния к соответствующим дохристианским их предпосылкам.
В этом знали толк средневековые врачи, философия кото¬рых явно коренилась в дохристианском мире, причем была та¬кой, что в точности соответствовала тому опыту, который и сегодня наблюдаем у наших пациентов. Эти врачи признавали, кроме света откровения, и lumen naturae в качестве независимо¬го источника для врача, если переданная церковью истина оказывалась недействительной для самого врача или па-циента.
К историческим исследованиям меня побудили практические причины, а не прихоть. Наша школьная медицина, подобно ака¬демической психологии и философии, не дает врачу ни нужного ему образования, ни средств для того, чтобы пониманием и де¬лом встречать настоятельные требования психотерапевтической практики. Поэтому мы с готовностью пошли в школу, без робос¬ти по поводу нашего исторического дилентантизма, на выучку к тем врачующим философам далекого прошлого, для которых ду¬ша и тело еще не были растащены по разным факультетам. Мы являемся специалистами par excellence, но сама наша специаль¬ность требует от нас универсализма, фундаментального преодо-ления узкой специализации, чтобы слова о единстве тела и души не оставались лишь пустыми звуками. Если уж мы беремся вра¬чевать души, то нам нельзя с закрытыми глазами проходить ми¬мо того факта, что невроз не есть некая особая сущность — бо¬лезнетворно расстроена вся психика в целом. Потрясающим от¬крытием Фрейда было то, что невроз представляет собой не прос¬то симптоматическое образование, но вовлекает всю душу в функциональное нарушение. Важен теперь уже не невроз, а вы¬яснение того, кто имеет невроз. Мы имеем дело с людьми, им мы и должны быть верны.
Нынешнее заседание (сентябрь 1942г. — А. Р.) свидетельст¬вует, что наша психотерапия осознает свою цель, а именно рав¬но принимает во внимание физиологический и духовный факто¬ры. Выросшая на почве естественных наук, она переносит объ¬ективный эмпирический метод на феноменологию духа. Даже ес¬ли нам суждено остановиться на этой попытке, уже, этот шаг имеет огромное значение.
ПСИХОАНАЛИЗ
Психоанализ является научным методом, требующим известных тех-нических приемов; благодаря его техническим результа¬там развивалась новая отрасль науки, которой можно дать название аналитической психологии. Рядовому психологу да и врачу эта отрасль психологии малознакома, ибо технические ее основания им почти неизвестны. Причину этого нужно, может быть, видеть и в том, что новый метод изысканно психологичен и что его поэтому нельзя причислить ни к медицине, ни к экспе¬риментальной психологии. Медик по большей части почти не имеет психологических знаний, психолог же несведущ в медици-не. Поэтому нет почвы, пригодной для укоренения самой сути нового метода. Кроме того, и сам он представляется многим столь произвольным, что они не находят возможности согласо¬вать с ним научные взгляды. Фрейд, основатель психоанализа, особенно связывал его с половыми явлениями: это было причиной упорного предубеждения, отталкивавшего многих и многих ученых. Излишне говорить, что подобная антипатия не может быть достаточным логическим основанием для отрицания чего¬-либо нового. Но ввиду этого ясно, что лектор по психоанализу должен пре-имущественно заниматься изложением его принци¬пов, оставляя до поры в стороне его результаты, ибо, если само¬му методу отказывают в научности, ее нельзя допускать и в его результатах. Прежде чем коснуться принципов психоанализа, я должен упомянуть о двух весьма нередко встречающихся предубеждениях против него. Первое из них считает психоанализ чем-то вроде анамнеза, лишь до известной степени углубленного и осложненного. Но ведь известно, что всякий анамнез главным об¬разом основывается на указаниях семьи больного и его собствен¬ном сознательном самопознании, разоблачаемом прямыми вопро¬сами. Психоаналитик же, хотя, естественно, и устанавливает дан¬ные анамнеза столь же тщательно, как и всякий другой специа¬лист, прекрасно знает, что это лишь внешняя история больного, которую отнюдь не следует смешивать с самим анализом. Ана¬лиз есть сведение того актуального содержания, которое обычно остается случайным, к психологическим детерминантам. Процесс этот не имеет ничего общего с анамнетическим воспроизведе¬нием истории болезни.
Второе предубеждение, большею частью основанное на по-верхностном знакомстве с психоаналитической литературой, счи¬тает психоанализ способом внушения посредством которого больному навязываются известная вера или учение о жизни, благодаря чему он излечивается как бы внушением (mental heal¬ing) или христианской наукой (christian science). Очень многие психоаналитики, в особенности с давних пор занимающиеся ана¬лизом, ранее прибегали к терапевтическому внушению и поэтому прекрасно знакомы с его действием. Они знают, что способ воз¬действия психоаналитика диаметрально противоположен способу гипнотизера.
В противоположность теравпевтическому внушению психо¬аналитик никогда не пытается навязывать больному того, что по¬следний не может признать свободно и чего не найдет разумным благодаря собственным умозаключениям. Постоянному стремле¬нию нервнобольного добиться указаний и советов психоаналитик неуклонно противопоставляет старание отвлечь его от пассивно воспринимающей установки и заставить применять собственный здравый смысл и критику, чтобы, так сказать, вооружиться ими и благодаря этому оказаться в состоянии самостоятельно справ¬ляться с жизненными ситуациями. Нас нередко обвиняют в на-вязывании больным совершенно произвольных толкований. Я был бы рад при случае наблюдать за попыткой «навязать» подобное произвольное толкование одному из моих больных (они нередко принадлежат к моим коллегам). Невозможность подобного предприятия обнаружилась бы весьма быстро. Сам анализирующий всегда зависит от больного и его суждений по той причине, что анализ по природе своей именно и состоит в дом, чтобы привести к познанию самого себя. По принципу своему психоанализ столь отличается от терапевтического внушения, эти методы невозможно сравнивать.
Была также попытка сопоставить анализ с методом убеждения Дюбуа (Dubois), который представляет собой процесс строго рациональный. Но и это сопоставление не выдерживает крити¬ки, ибо аналитик должен уклоняться от всякой попытки спора или убеждения больного. Разумеется, он выслушивает и принимает к сведению сознательные его конфликты и задачи, но отнюдь не с целью удовлетворить его стремление добиться поддержки или совета относительно своего поведения. Проблему нервнобольного нельзя разрешить ни советами, ни сознательными рассуждениями. Без сомнения, своевременно данный добрый совет может привести к хорошим результатам, но трудно предполагать, чтобы психоаналитик всегда был в состоянии своевременно дать нужный совет. Конфликты нервнобольных большею частью (лучше сказать, всегда) отличаются таким характером, что не представляется возможным что-либо им посоветовать, — не говоря уже о том, что, как хорошо известно, больной всегда ищет совета лишь с целью снять с себя всякую ответственность, отсылая и других и себя самого к высшему авторитету.
Наперекор всем прежним методам лечения психоанализ стремится преодолеть расстройство психики посредством не сознания, а бессознательного. Это естественно, требует сознательного содействия больного, ибо до бессознательного можно добраться лишь путем сознания. Данные анамнеза служат исход¬ам пунктом. Подробное его изложение обыкновенно дает ценные указания, благодаря которым психогенное происхождение симптомов становится ясным больному. Подобное разъяснение, разумеется, необходимо, лишь если он приписывает неврозу органическое происхождение. Но и в тех случаях, когда больной с самого начала сознает психическую причину своего состояния, Оптический разбор истории болезни весьма полезен, дабы указать ему психологическое сцепление идей, которое он обычно не замечает. Таким способом нередко выявляются проблемы, особенно нуждающиеся в обсуждении. На подобную работу иногда уходит несколько сеансов. Но в конце концов разъяснение дан¬ях сознания подходит к концу — ни больной, ни врач уже не могут привнести в него ничего нового. При самых благоприятных обстоятельствах это совпадает с формулированием какой-либо проблемы, оказывающейся неразрешимой. Возьмем, напри¬мер, случай: человек, ранее совершенно здоровый, заболевает неврозом между 35 и 40 годами; положение его обеспечено, он же¬нат, у него дети. Параллельно с неврозом у него развилось силь¬нейшее противление относительно его профессиональной деятель¬ности. По его словам, первые симптомы невроза обнаружились при преодолении некоторых связанных с этой деятельностью за¬труднений. Впоследствии невроз обострялся при всякой заминке в делах, улучшение же на-блюдалось всякий раз, когда счастье ему улыбалось при исполнении профессиональных обязанно¬стей. Изучение анамнеза приводит к следующему заключению: больной сознает, что, если бы он работал успешнее, полученное удовлетворение сразу привело бы к страстно желаемому улучше¬нию состояния его здоровья. Однако это ему не удается вслед¬ствие сильного противления, внушаемого ему самим делом. Пу¬тем логических рассуждений эта задача неразрешима.
Другой случай: 40-летняя женщина, мать четверых детей, четыре года тому назад после смерти одного из них заболела неврозом. Новая беременность и рождение ребенка привели к значительному улучшению ее состояния. Это утвердило ее в мысли, что она бы вполне выздоровела, если бы смогла иметь еще ребенка. Однако она была уверена, что ее желание неиспол¬нимо и потому попыталась отдаться филантропической деятель¬ности. Но это ее не удовлетворяло. Между тем, по собственным ее наблюдениям, всякий раз, как ей удавалось чем-либо заинте¬ресоваться, ей тотчас же становилось лучше, но она была не в состоянии найти что-либо, что могло бы действительно занять и удовлетворить ее: ясно, что и тут рассуждение бессильно.
Здесь психоаналитику прежде всего надлежит выяснить, что именно мешает больной отдаться более широкому и живому ин¬тересу, нежели желание иметь ребенка.
Так как мы не можем предположить какого-то раз и навсег¬да установленного решения подобных проблем, то приходится искать его в индивидуальности конкретного лица. Ни сознатель¬ный распрос, ни рассудочные советы тут не помогут, ибо причи¬ны скрыты от сознания больного; так что не существует прото¬ренного пути, чтобы добраться до этих бессознательных вытес¬нений. Единственное средство, указываемое для этого психоана¬лизом, — дать больному говорить обо всем, что ему непосредственно приходит в голову. Аналитик же должен тщательно сле-дить за всем высказываемым и все это отмечать, отнюдь не пыта¬ясь навязать больному свое собственное мнение. Тут обнаружи¬вается, что первый больной более всего занят мыслями о своей брачной жизни, которую мы до тех пор считали нормальной. Те¬перь же оказывается, наоборот, что у него постоянные столкно¬вения с женою, которую он, видимо, не понимает, это и вызывает врача на замечание, что про-фессиональная работа, очевидно, не есть единственная проблема больного, ибо отношение его к жене также требует рассмотрения. Это становится для него исходным пунктом мыслей о его семейной жизни. За сим являются вспоминания о любовных переживаниях холостяцкого периода его жизни. Из подробного рассказа выясняется, что больной всегда держал себя весьма своеобразно при более интимных отношениях с женщинами, причем своеобразие это принимало форму некоторого детского эгоизма. Подобная точка зрения оказывается для него совершенно новой и неожиданной и объясняет причину многих его любовных неудач.
Разумеется, невозможно в каждом конкретном случае достигнуть ус-пешных результатов применением бесхитростного способа — дать больному свободно высказываться, хотя бы уже потому, что лишь в редчайших случаях нужные психические данные лежат столь неглубоко; не говоря уже о том, что у боль¬шей части больных налицо прямое противление не обинуясь выражать все свои мгновенные переживания. С одной стороны, переживания эти часто слишком болезненны, чтобы рассказывать о них врачу, которому, быть может, и не вполне доверяют; с другой — может также случиться, что больному представляется, будто никаких особых переживаний и не было, что принуждает у говорить о более или менее безразличных для него предметах. Надо заметить, что обыкновение не высказываться прямо отнюдь не есть доказательство сознательного утаивания неприятныx содержаний — разговор не к делу является нередко бессоз¬нательной привычкой. Подобным больным иногда помогает совет не насиловать себя, а хвататься за первую попавшуюся мысль, как бы незначительна или даже нелепа она им ни представлялась. Но подчас и это указание оказывается бессильным, врач принужден бывает прибегнуть к иным мерам. Одной из них является ассоциативный опыт, обычно прекрасно осведомля¬ли о главнейших склонностях определенного лица в данное время. Второй же способ проникнуть в психику больного — это анализ сновидений, являющийся классическим орудием психоанализа. Анализ сновидений постоянно подвержен столь ожесто¬ченным нападкам, что необходимо хотя бы вкратце изложить принципы, которыми он руководствуется. И толкование снови¬дений, и сам приписываемый им смысл, как известно, пользуют¬ся дурной славой. Недавно еще снотолкование было в большом ходу, и в него твердо верили, но недалеко и то время, когда на¬иболее просвещенные люди находились под гнетем всяческих су¬еверий. Поэтому понятен и сохранившийся по сей день живой страх подпасть многим из них, лишь недавно отчасти преодолен¬ным. Подобная робость перед суеверием в сильной мере спосо-бствовала возникновению противления анализу сновидений; сам же по себе анализ тут ни при чем. Сновидение избрано нами как объект исследования отнюдь не вследствие какого-либо суевер¬ного восхищения перед ним, но потому, что оно психический продукт, возникающий независимо от сознания сновидца. Когда мы осведомляемся о непосредственных мыслях больного, он поч¬ти не в состоянии удовлетворить наше любопытство; в лучшем случае он может предоставить нам лишь малосущественное или имеющее вынужденный характер. Сновидения же суть непосред¬ственные мысли, непосредственные фантазмы, они вынуждены, вместе с тем они неоспоримо психические явления, точно так же, как всякая мысль. Про сновидение можно сказать, что оно вхо¬дит в сознание в виде сложного построения; связь же его элемен¬тов друг с другом бессознательна. Лишь ассоциациями, соотно¬симыми впоследствии с отдельными его образами, можно дока¬зать возникновение их из воспоминаний ближайшего или отда-ленного прошлого. Обращая к самому себе вопрос: «Где я видел или слышал нечто подобное?», благодаря тому же процессу непринужденного ассоциирования возникают воспоминания о действительно пережитых известных отделах данного сновиде¬ния, иногда накануне, иногда ранее. Это общеизвестный факт, который, вероятно, подтвердит всякий. Таким образом, сновиде¬ние обычно представляет собой непонятное сопоставление из¬вестных элементов, вначале чуждых сознанию, но распознавае¬мых путем непринужденного ассоциирования. Это оп-ределение может быть оспариваемо на том основании, что оно является ап-риорным. Надо, однако, заметить, что оно согласуется с един¬ственной общепризнанной и общеприменяемой гипотезой о генезисе сновидения, выводящей его из мыслей и переживаний недавнего прошлого. Итак, мы в этом случае не покидаем знако¬мой уже нам почвы. Это отнюдь не должно означать, что какие-либо части данного сновидения издавна и во всех подробностях были известны сновидцу, так что им можно было бы приписать сознательный характер; напротив, все они без исключения боль-шей частью, а то и всегда не поддаются признанию. Лишь после мы припоминаем, что сознательно пережили какой-либо эпизод данного сновидения. С этой точки зрения оно продукт бессозна¬тельного происхождения. Отыскание бессознательных его источ¬ников технически является процедурой, издавна применявшейся инстинктивно: старание просто направлено на то, чтобы припом¬нить, откуда заимствован означенный эпизод. На этом весьма нехитром принципе и основано психоаналитическое толкование сновидений. Происхождение некоторых их отделов относится сознательной жизни, нередко к переживаниям, ко-торые благодаря очевидной маловажности подлежали забвению, а потому готовились окончательно погрузиться в бессознательное. Эти отделы всегда порождены бессознательными представлениями (образами).
Итак, принципы психоаналитического толкования сновидений чрезвычайно просты и, собственно говоря, давно известны. Дальнейшая процедура логически и настойчиво развивается все же порядком. Если посвятить рассмотрению какого-либо сновидения достаточный промежуток времени — чего, конечно, внe психоанализа никогда не бывает, — воскресает все большее отчество воспоминаний, относящихся к отдельным его частям, я иногда и не ко всем, — такие приходится волей-неволей оставлять на время. Говоря о воспоминаниях, я, конечно, подразумеваю не только те, что имеют своим предметом известные конкретные переживания, а главным образом те, что относятся к утреннему смыслу последних. Сопоставленные воспоминания мы называем материалами данного сновидения. Рассмотрение материалов производится согласно общезначимому научному методу: работа над всякими опытными материалами всегда начинается со сравнения и сопоставления их согласно сходным пунктам. Точно такой способ применяется и к материалам сновидений: общие характерные их черты сопоставляются, касаются ли они внешней формы или внутренней сути. При этом необходимo отказаться от всяких предвзятых мыслей. По моим наблюдениям, начинающий всегда ищет выражение какой-либо опреде-ленной склонности, согласно которой и выстраивает свои мате¬риалы. Я наблюдал это особенно у некоторых моих коллег, быв¬ших ранее более или менее завзятыми противниками анализа благодаря всяческим предрассудкам и непониманию. Когда судьба приводила их ко мне и они благодаря собственному ана¬лизу наконец вникали в его метод, то неизменно оказывалось, что первая ошибка в их собственной практике со-стояла в том, чтобы подгонять анализируемые материалы под свои предвзятые мнения, другими словами, допускать влияние на предлежащие им материалы прежней их установки к психоанализу (который они были не в состоянии оценить объективно, а лишь сквозь призму субъективных фантазий). Когда решаешься предпринять рассмотрение материалов сновидения, нельзя пугаться каких-ли¬бо совпадений или сравнений. В эти материалы всегда входят весьма разноценные образы, из которых порой бывает чрезвы¬чайно трудно выбрать тот, который должен служить для сравне¬ния. К сожалению, я не могу пояснить этого на примере, дабы не затягивать чрезмерно своей лекции.
Таким образом, бессознательные психические содержания классифи-цируются совершенно так же, как и всякие иные срав¬ниваемые материалы, из которых нужно вывести какие-либо за¬ключения. Нередко делается следующее возражение: почему на¬до приписывать сновидению бессознательное содержание? Воз¬ражение это я считаю ненаучным. Всякая психологическая дан¬ность имеет вполне определенную историю. Всякая произноси¬мая мной фраза, кроме сознательно выражаемого ею смысла, об¬ладает и историческим смыслом, который может расходиться с первым. Тут я намеренно выражаюсь несколько парадоксально, ибо, конечно, не возьмусь объяснить всякую фразу согласно ее индивидуально-историческому смыслу. Это легче сделать для об¬разований более обширных и сложных. Всякий, разумеется, при¬знает, что поэма, например, помимо своего явного содержания всегда особенно характерна для автора по своей форме, выбору сюжета и истории своего возникно-вения. Поэт искусно выражает в ней мимолетное настроение, историк же литературы открывает в ней и благодаря ей то, о чем сам автор и не подозревает. Ана¬лиз данного поэтом сюжета, предпринятый каким-либо литера¬турным критиком, можно по методу сравнить с психоанализом даже до самых заблуждений, в которые нередко впадают: психоаналитический метод успешно приравнивается к историческому анализу и синтезу. Предположим, например, что нам известно значение обряда крещения, в настоящее время совершаемого церковью. По словам священника, крещение есть принятие ребенка в христианскую общину. Но это объяснение неудовлетво¬рительно. Почему дитя окропляется водой и т.п.? Чтобы осмыслить обряд, следует почерпнуть известные сравнительные мате¬риалы из его истории, иначе говоря, из относящихся к нему вос¬поминаний человечества. Для этого нужно исходить из следую-щих точек зрения.
Во-первых, обряд крещения есть, очевидно, - обряд посвяще¬ния. Стало быть, надо собрать воспоминания именно о подобных обрядах.
Во-вторых, для обряда крещения употребляется вода. Эта особенность требует преимущественно цепи воспоминаний о тех грядах, при которых употребляется вода.
В-третьих, ребенок окропляется водой при совершении об¬ида крещения; необходимо пересмотреть те виды обрядов, при которых новообращаемый окропляется водой или погружается в воду и т.д.
В-четвертых, необходимо отыскать все мифологические воспомина-ния и суеверные обычаи, в каком-либо отношении схожие символическим обрядом крещения.
Подобным способом получается сравнительное описание иного обряда: установив, откуда заимствованы составные его части, мы далее распознаем первоначальный его смысл и тем самым вступаем в мир религиозных мифологем, выясняющих многосторонние значения крещения и их происхождение. Подобным образом и аналитик подходит к сновидению; сопоставив различные его отделы с историческими их параллелями (хотя бы и весьма отдаленными), он затем приступает к построению психологической истории данного сновидения и выявлению скрытого тем смысла. Подобная монографическая разработка сновидения, точно так же, как и упомянутый выше анализ обряда крещения, позволяет глубоко заглянуть в деятельность тончайших, реплетающихся точно сеть бессознательных детерминант. Уразумение этой деятельности, как уже сказано, сравнимо лишь с историческим пониманием обряда, на который мы привыкли смотреть весьма поверхностно и односторонне. Тем не менее на практике, особенно вначале анализа, не всегда применяется столь обширный и совершенный способ разбора сновидений; тут мы со¬бираем и сопоставляем ассоциации лишь до тех пор, покуда скрываемая больным проблема не выяснится настолько, что и сам он не может не увидеть ее. Тогда мы подвергаем ее созна¬тельной разработке, т. е. по возможности разъясняем ее, покуда снова не очутимся перед неразрешимым вопросом.
Теперь вы, вероятно, спросите: что же делать, если больной ничего не видит во сне? Могу вас уверить, что до сих пор подоб¬ного примера не было: всех больных, даже утверждавших, что они никогда ничего во сне не видят, анализ приводит к сновиде¬ниям. Зато нередко больной, вначале имевший весьма яркие сно¬видения, внезапно лишается способности их запоминать. До сих пор в моей практике неизменно оправдывалось эмпирически вы¬веденное заключение, что отсутствие сновидений зависит от того, что больной располагает непроанализированными еще сознатель-ными материалами, которые по какой-либо причине им утаива¬ются. Наиболее обычным является тут следующее рассуждение:
«Я нахожусь в распоряжении врача и охотно следую его указа¬ниям, так пусть он и делает свое дело, я же предпочитаю пассив¬ную роль».
Но противление бывает и более серьезного характера. Неко¬торые больные, например, не будучи в состоянии признать какие-то известные свои нравственные недостатки, проецируют их на врача, хладнокровно предполагая, что и он, конечно, бо¬лее или менее несовершенен в нравственном отношении, а пото¬му им и невозможно говорить с ним о некоторых вещах. Итак, если больной с самого начала анализа не имеет сновидений или же если они внезапно прекращаются, он, несомненно, утаивает материалы, подлежащие сознательной разработке. Тут личные отношения врача и больного нужно v считать главной помехой, они могут препятствовать им обоим разобраться в данном поло¬жении. Не следует забывать, что, подобно тому как врач должен иметь и выказывать принципиальный интерес к психологии свое¬го больного, так и последний, особенно если он обладает ост¬рым, хотя бы до некоторой степени, умом, осваивается с психо¬логией пользующего его врача и невольно принимает по отноше¬нию к нему соответствующую психическую установку. Таким об¬разом, сам врач слеп по отношению к психической установке больного ровно настолько, насколько он слеп к себе самому и проблемам своего бессознательного. Поэтому-то я и утверждаю, что врачу необходимо самому подвергнуться анализу раньше, нежели применять его. Иначе может случиться, что аналитическая практика. принесёт ему одни разочарования, ибо при известном стечении обстоятельств он дойдет до такого момента, когда всякий дальнейший успех невозможен, что может заставить его окончательно потерять голову. В таком случае он охотно признает психоанализ праздным времяпрепровождением, дабы не сознаться, что он сам посадил корабль на мель. Если же вы уверены в своем психоанализе, то и больному можете сказать не колеблясь, что отсутствие у него сновидений указывает на еще не использованные им сознательные материалы. Говорю, что в таких случаях необходима известная доля уверенности в самом себе, ибо непринужденное выражение мнений и беспощад¬ная критика, которую тут иногда приходится выдерживать, могут совершенно сбить с толку того, кто к ним не приготовлен. Непосредственным следствием подобной потери равновесия со стороны врача обыкновенно бывает, что он пускается в рассуждения с больным для того, чтобы удержать свое влияние на него, но это, разумеется, делает дальнейший анализ совершенно возможным.
Как уже сказано, сновидениями вначале следует пользоваться лишь как источниками материалов для анализа. В начале анализа не только излишне, но и неосторожно подвергать их так называемой окончательной разработке, ибо полное и действительно исчерпывающее истолкование их более чем трудно. Истолкования сновидений, встречающиеся в психоаналитической литературе, нередко односторонни и весьма спорны, как, например, известное сведение их Венской школой к половым стремлениям. Ввиду обширности и разносторонности материалов сновидений необходимо остерегаться односторонних формулировок. Тут главным образом ценно, особенно в начале лечения, именно многообразие значений, а никак не исключительность их. Так, например, больная видит во сне, вскоре после первых сеансов, что находится в гостинице в незнакомом городе. Внезапно начинается пожар, ее муж и отец, находящиеся тут же, помога¬ет ей спасать тех, кому угрожает пламя. Надо заметить, что вольная обладает развитым умом, но чрезвычайно скептически встроена и непоколебимо уверена в том, что анализ сно-видений — вздор. Я с трудом убедил ее испытать его хоть раз. При этом я немедленно понял, что объяснить ей действительное значение данного сно-видения совершенно невозможно, ибо против¬ления ее слишком сильны.
Я выбрал пожар как наиболее выдающееся происшествие сновидения исходным пунктом для непринужденного ассоцииро¬вания. Она начала с того, что недавно прочла в газете о пожаре большого отеля в N; она помнила этот отель, ибо однажды про¬вела в нём некоторое время. Там она познакомилась с одним гос¬подином, с которым у нее завязался довольно сомнительного свойства роман. Оказалось, что у нее уже было не одно подоб¬ного рода приключение и все они носили столь же легкомыслен¬ный характер. Эта весьма важная черта ее прошлого была обна¬ружена первым же непринужденным ассоциированием при час¬тичном анализе сновидения. В этом случае не было возможности объяснить больной его неоспоримое значение. Поскольку и скептицизм ее носил характер легкомысленный, постольку она ни¬когда не признала бы подобного значения. Но после того как легкомыслие ее было разоблачено и доказано даваемыми ею самою материалами, появилась возможность гораздо подробнее анализировать позднейшие ее сновидения. Поэтому вначале весьма полезно пользоваться сновидениями для обнаружения важнейших бессознательных материалов посредством непринуж¬денных ассоциаций самого больного. Это лучший и наиболее ос¬торожный метод особенно для начинающих. На произвольное толкование сновидений я смотрю весьма отрицательно: это суе¬верный образ действий, основанный на принятии установленных раз и навсегда символических значений. Между тем определен¬ных значений не существует вовсе. Некоторые символы повторяются чаще других, но и тут возможны лишь общие положения. Так, например, совершенно неправильно считать, что змея в сно¬видениях всегда имеет исключительно фаллическое значение; так же неправильно отрицать a priori возможность, что она мо¬жет обладать подобным значением в известных случаях. Всякий символ имеет несколько различных значений. Потому я не могу согласиться с правильностью исключительно половых толкова¬ний, какие попадаются в некоторых психоаналитических издани¬ях, ибо на опыте обнаружил их односторонность, а стало быть, и неосновательность. Как пример приведу следующее несложное сновидение одного молодого больного: Я поднимался по лестнице с матерью и сестрой. Когда мы дойти до верхней площадки, мне сказали, что сестра вскоре ожидает ребенка.
Теперь я покажу вам, каким образом на основании общепризнанной до сих пор точки зрения это сновидение истолковывается в половом смысле. Известно, что фантазмы о кровосмешении играют значительную роль в психике нервнобольных. Поэтому образы матери и сестры можно считать соответствующими намеками.
Лестница, как полагают, обладает твердо установленным по¬ловым значением (ритмическое движение при подъеме на сту¬пеньки —совокупление). Из этих предпосылок логически выте¬кает ожидание ребенка. Сновидение это при подобном толкова¬нии несомненно является исполнением инфантильных желаний, которым, как мы знаем, фрейдовская теория сновидений отводит широкое место.
Я же в данном случае рассуждал следующим образом: если читать лестницу символом совокупления, по какому праву брать мать, сестру и ребенка как действительных, (т. е. символи¬ческих) лиц? Другими словами, если на основании признания символизма образов сновидения некоторые из них принимаются как символы, почему делать исключение для других? Если уж приписывать символический смысл подъему по лестнице, такой же смысл нужно приписать и образу матери, сестры и ребенка. Поэтому я и не истолковал произвольно этого сновидения, а анализировал его. Результат получился изумительный. Привожу слово в слово ассоциации к отдельным образам с целью дать вам возможность составить о них самостоятельное понятие.
(Предварительно надо упомянуть, что сновидец — молодой человек, лишь несколько месяцев тому назад окончивший университет; не будучи в состоянии принять какого-либо решения, когда ему пришлось избрать профессию, он заболел нервным расстройством. Вследствие, этого он бросил всякие занятия; нев¬роз его принял, кроме других симптомов и гомосексуальную форму.)
Ассоциация к матери: «Я страшно давно ее не видал; право, я упрекаю себя в этом; грешно выказывать ей подобное невнимание». Мать, таким образом, есть что-то непозволительно запущенное им.
«Что это?» — спросил я его. Он смущенно ответил:
«Мои занятия».
Ассоциация к сестре: «С нашего последнего свидания прош¬ли годы. Как мне хочется увидеть ее! Вспоминая о ней, я всегда думаю о нашем прощании. Я поцеловал ее с искренней любовью! В ту минуту я первый раз понял, что значит любить женщину». Он сам тотчас же понял, что сестра его — олицетворение любви к женщине.
Ассоциация к лестнице: «Подниматься вверх, достигнуть вершины, успевать в жизни, вырасти, стать великим челове¬ком». К ребенку. «Родиться вновь, воскресение, возрождение, стать новым человеком».
При первом же взгляде на эти ассоциации становится ясным, что смыслом данного сновидения является не столько осуществление инфантильных желаний, сколько стремление исполнить известные биологические обязанности, до тех пор упущенные благодаря инфантилизму. Неумолимая биологическая справед¬ливость иногда принуждает человека искупать в сновидениях пробелы в выполнении обязанностей, запущенных им в действи¬тельной жизни.
Данное сновидение — весьма типичный пример предвосхи¬щающей (проспективной) телеологической функции сновидений, выдвинутой моим коллегой Мэдером (Maeder). Если придержи¬ваться одностороннего полового толкования, действительное зна¬чение сновидения ускользает. Сексуальность в сновидениях яв¬ляется лишь средством выражения, но отнюдь не всегда смыс¬лом или целью их. Указание на проспективный или предвосхи¬щающий смысл сновидения получает особое значение, когда ана¬лиз настолько продвинут, что больной интересуется будущим, а не одной лишь внутренней жизнью или своим прошлым.
Относительно же применения символизма только что разо¬бранное нами сновидение лишний раз доказывает, что твердо ус¬тановленных и не изменяющихся символов не существует; в луч¬шем случае наблюдаются частые повторения приблизительно об¬щих значений. Что же касается так называемого полового значе¬ния, то опыт привел меня к установлению следующих практи¬ческих правил.
Если в начале аналитического лечения обнаруживается не¬сомненно половой смысл какого-либо сновидения, смысл этот нужно признать реальным, т. е. указывающим на необходимость подвергнуть половой вопрос тщательному рассмотрению. Так, например, если кровосмесительная фантазия несомненно состав¬ляет скрытое содержание какого-либо сновидения, следует под¬вергнуть инфантильные отношения больного к его родителям, братьям и сестрам, а также к другим лицам, могущим играть для него роль отца или матери, особенно внимательному рассмотре¬нию с этой точки зрения. Если же в позднейший период анализа какое-либо сновидение содержит кровосмесительную фантазию, которую мы имеем основание считать уже разрешенной, то ей не нужно приписывать безусловно полового значения, ее следует считать символической. В этом случае половая фантазия имеет значение символа, а не конкретности. Если же мы не пойдем далее конкретного значения, то тем самым сведем психику больного исключительно к сексуальности, благодаря чему происходит Задержка развития его личности. Выздоровлению больного не может способствовать возвращение его к первобытной сексуальнос¬ти, это лишь остановит его на низшем уровне развития, с которо¬го ему невозможно достигнуть освобождения или полного восста¬новления здоровья. Возвращение к состоянию варварства не мо¬жет быть полезным для цивилизованного человека.
Приведенное выше правило, а именно что половое значение сновиде-ния есть лишь аналогия или символ, разумеется, остает¬ся в силе и в сновидениях, имеющих место в начале анализа. Практические же причины, заставляющие нас не придавать символического значения подобным половым фантазиям, таковы: неподдельную реальную ценность следует признавать за ненор¬мальными половыми фантазиями нервнобольного, лишь поскольку образ действий его поддается их влиянию. Мы убежда-емся на опыте, что эти фантазии не только препятствуют его приспособлению к своему положению, но и приводят его к дей-ствительным половым актам, не исключая даже кровосмешения. При подобных обстоятельствах нет смысла останавливаться иск¬лючительно на символическом содержании сновидения, но сна¬чала нужно разобрать конкретное его содержание.
Сделанные выводы основаны на ином понимании сновиде¬ния, нежели у Фрейда, ибо я на практике разошелся с его взгля¬дами. По Фрейду, всякое сновидение в сущности своей есть сим¬волическая завеса вытесненных желаний, противоречащих лич¬ным идеалам. Моя точка зрения иная: сновидение всегда содер¬жит прежде всего сублиминальное отображение психологических обстоятельств данного лица в бодрствующем состоянии; оно под¬водит итоги сублиминальным ассоциативным материалам, возникающим благодаря настоящему психологическому положению. Волевой смысл сновидения, называемый у Фрейда вытесненным желанием, для меня есть способ выражения. Действие сознания с биологической точки зрения есть психологическое усилие дан¬ного лица, направленное к тому, чтобы приспособиться к окру-жающим условиям. Сознание его ищет приспособления к требо¬ваниям вся-кой данной минуты, или же, другими словами, перед ним стоят задачи, которые он должен разрешить. Во многих слу¬чаях способ разрешения ему неизвестен, поэтому сознание всегда стремится отыскать его путем аналогии. Ибо мы всегда стараем¬ся схватить все находящееся в будущем, а потому нам неизвест¬ное соответственно нашему внутреннему пониманию предшество¬вавшего. Нет основания предполагать, что бессознательное сле¬дует иным законам, нежели те, которым повинуется сознатель¬ное мышление. Бессознательное, подобно сознанию, ищет спосо¬бы охватить биологические проблемы, дабы разрешить их соглас¬но предшествующему опыту. Точно так же поступает и сознание. Неизвестное ассимилируется нами путем сравнения.
Несложным примером этого является хорошо известный факт, что при открытии Америки испанцами индейцы приняли незнакомых им до тех пор лошадей за больших свиней, потому что свиньи были у них домашними животными. К этому процес¬су мышления мы всегда прибегаем для опознания незнакомых предметов: это и есть причина, давшая начало символизму. Сим¬волизм есть не что иное, как процесс понимания путем аналогии. Кажущиеся вытесненными желания, составляющие содержание сновидения, суть волевые стремления, Служащие средством вы¬ражения для бессознательного. Этот мой взгляд совпадает со взглядом Адлера, другого сторонника фрейдовской школы.
Благодаря этому различию в понимании сновидения, даль¬нейший анализ также получает иной характер, нежели до сих пор. Символическое значение, придаваемое половым фантазиям в позднейший период анализа, необходимо ведет не к сведению личности больного к первобытным стремлениям, а к расшире¬нию и дальнейшему развитию его психической установки, други¬ми словами, оно обогащает и углубляет его мышление, что в итоге дает могущественнейшее орудие в борьбе человека за при-способление к жизни. Логически развивая новый ход анализа, я пришел к убеждению, что аналитик должен в положительном смысле считаться с религиозными и философскими побуждениями, т. е. с так называемыми метафизическими потребностями человека. Он не должен ни в коем случае истреблять скрытые за ними движущие силы путем сведения их к первобытным половым источникам, но должен подчинять биологической цели эти психологически ценные факты. Таким образом, инстинктам возвращаются функции, от века им предназначенные.
Тем же путем, каким первобытный человек благодаря религиозным и философским символам высвободился из первобытного своего состояния, и нервнобольной может справиться со своей болезнью. Едва ли нужно говорить, что этим я вовсе не навязываю больному веру в религиозные или философские догматы — речь идет лишь о необходимости принять ту психологическую остановку, которая в раннюю эпоху цивилизации характеризовалась живой верой в подобные догматы. Но эта религиозно-философская установка отнюдь не соответствует признанию догмата, и6o всякий догмат есть лишь преходящая формулировка мышления, являющаяся плодом религиозно-философской установки, и зависит от эпохи и обстоятельств, при которых он возникает. Установка же есть результат цивилизации; эта функция чрезвычайно важная биологически, ибо она способствует возникновению побуждений, вынуждающих человека к творческой работе на пользу будущим векам, а если нужно — и к жертве на пользу рода человеческого.
Таким образом, человек сознательно достигает того единства и целостности, того же доверия и той же способности к жертве, которые суть бессознательные и инстинктивные свойства диких животных. Всякое отклонение от хода развития цивилизации, всякое сведение ее к более примитивной стадии лишь превращает человека в изуродованное животное, но никогда не возвращает его к так называемой естественной человеческой норме. Многочисленные успехи и неудачи на протяжении моей аналитичес¬кой практики убедили меня в несомненной правильности подобной психологической ориентации. Помощь наша нервнобольно¬му отнюдь не состоит в освобождении его от требований цивилизации, а лишь в том, что мы побуждаем его принять деятельное участие в тяжелей работе ее развития. Страдания, которым он при этом неизбежно подвергается, заменяют невротические страдания. Но тогда как невроз и сопутствующие ему болезненные явления никогда не сопровождаются несравненным чувством успешного выполнения работы на пользу других или бесстрашного исполнения долга, страдания, вытекающие из трудной, но полез¬ной работы, из преодоления действительных затруднений, при¬носят с собой мир и удовлетворение, даваемое осознанием, что жизнь прожита с пользой.
ПОНЯТИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Вероятно, ни одно из введенных мной эмпирических понятий не было встречено с таким непониманием, как идея коллективного бессознательного. В данной работе я попытаюсь дать: 1) дефиницию понятия; 2) дескрипцию его значимости для пси¬хологии; 3) разъяснение метода доказательства; 4) пример.
1.ДЕФИНИЦИЯ
Коллективное бессознательное есть часть психики, которая отрица-тельным образом может быть отличена от личностного бессознательного тем фактом, что в отличие от последнего оно не обязано своим существованием личному опыту и, следова¬тельно, не является персональным приобретением. В то время как личностное бессознательное состоит в основном из некогда осознававшихся содержаний, которые исчезли из сознания, будучи забытыми или подавленными, содержания коллективного бессознательного никогда не входили в сознание. Таким обра¬зом, они никогда не были индивидуальным приобретением, но обязаны своим существованием исключительно наследственнос¬ти. Если личностное бессознательное состоит по большей, части из комплексов, содержание коллективного бессознательного в основном представлено архетипами.
Понятие архетипа, являющееся неотъемлемым коррелятом идеи кол-лективного бессознательного, указывает на существова¬ние в душе опреде-ленных форм, которые, кажется, имеются всег¬да и везде. Исследования по мифологии обозначают их как «мотивы»; в психологии первобытных племен им соответствует понятие «representations collectives» Леви-Брюля, а в области сравнительного религиоведения они были определены Юбером и Моссом как «категории воображения». Адольф Бастиан уже давно называл их «элементарными» или «примордиальными мыслями». Из этих ссылок должно быть достаточно ясно, что моя идея архетипа — буквально предшествующей формы — не стоит в полном одиночестве, но представляет собой нечто при¬знанное и значимое в других областях знания.
Мой тезис, следовательно, таков: помимо нашего непосредственного сознания, которое имеет полностью личностную природу и которое, как нам кажется, является единственной эмпирически данной психикой (даже если мы присоединим в качестве прило¬жения личностное бессознательное), существует вторая психи¬ческая система, имеющая коллективную, универсальную и без¬личную природу, идентичную у всех индивидов. Это коллектив¬ное бессознательное не развивается индивидуально, но наследу-ется. Оно состоит из предсуществующих форм, архетипов, кото¬рые лишь вторичным образом становятся осознаваемыми и кото¬рые придают определенную форму содержаниям психики.
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Медицинская психология, вырастающая из профессиональ¬ной практики, настаивает на личностной природе психики. Я имею в виду точки зрения Фрейда и Адлера. Это психология личности, этиологические и каузальные факторы в ней рассмат¬риваются почти исключительно как личностные по своей приро¬де. Тем не менее даже эта психология базируется на неких об¬щебиологических факторах, например на сексуальном инстинкте или влечении к самоутверждению, каковые никоим образом не являются просто личностными особенностями. Такого рода пси¬хология вынуждена делать это, поскольку она претендует на статус объяснительной науки. Ни одна из этих точек зрения не отвергает a priori существования общих человеку и животным инстинктов или того, что инстинкты обладают значительным влиянием на личностную психологию. И все же инстинкты яв¬ляются безличными, универсально встречающимися наслед¬ственными факторами, имеющими динамически - мотивирующий характер, и они часто настолько удалены от сознания, что со¬временная психотерапия сталкивается с задачей помочь пациен¬ту осознать их. Более того, инстинкты по своей природе не яв¬ляются расплывчатыми и неопределенными — это специфически оформленные мотивирующие силы, которые задолго до сознания; преследовали внутренне, присущие им, цели и продолжают это делать несмотря на любой позднее достигнутый уровень сознания. Следовательно, они находятся в отношении очень близкой аналогии с архетипами, столь близкой, что есть достаточные ос-нования предположить, что архетипы суть бессознательные об¬разы самих инстинктов. Другими словами, они являются образ¬цами инстинктивного поведения.
Гипотеза коллективного бессознательного, таким образом, является не более смелой, чем предположение о существовании инстинктов. Легко признать, что человеческая деятельность в значительной мере находится под влиянием инстинктов, совер¬шенно независимо от рациональной мотивации сознания. Так что в утверждении о том, что наше воображение, восприятие и мышление подобным же образом находятся под влиянием врож¬денных универсально данных формальных элементов, нормаль¬но функционирующий интеллект, как мне кажется, найдет столь же много или столь же мало мистицизма, как и в теории инстинк¬тов. Хотя упрек в мистицизме часто звучал в адрес выдвинутого мной понятия, я должен вновь подчеркнуть, что понятие коллек¬тивного бессознательного не является ни спекулятивным, ни фи¬лософским, но эмпирическим. Вопрос, попросту говоря, в сле¬дующем: имеются или нет бессознательные и универсальные формы такого рода? Если они существуют, тогда есть область психики, которую можно назвать Коллективным бессознатель¬ным. Верно, что далеко не всегда легко диагносцировать кол¬лективное бессознательное. Для этого недостаточно указаний на совершенно очевидную архетипическую природу продуктов бес¬сознательного, поскольку они могут быть дериватами того, что было приобретено с помощью языка и образования. Необходимо отделить и все случаи криптомнезии, что иногда весьма затруд¬нительно. Однако, несмотря на все эти трудности, остается вполне достаточное количество индивидуальных инстанций, вне всякого сомнения указывающих на автохтонное возрождение мифологических мотивов. И если подобное бессознательное во¬обще существует, то оно должно приниматься во внимание в процессе психологического объяснения, а некоторые этиологии, ранее предполагавшиеся личностными, заслуживают критиче¬ского пересмотра.
То, что я имею в виду, легче всего прояснить на конкретном примере. Возможно, вы читали работу, в которой Фрейд обсуж¬дает одну из картин Леонардо да Винчи: святая Анна с девой Марией и ребенком Христом. Фрейд интерпретирует эту замеча¬тельную картину в терминах того факта, что у Леонардо было две матери. Данная каузальность является личностной. Мы не станем останавливаться на том, что данный сюжет далеко не уникален в живописи, не в той мелкой неточности, что св. Анна является бабушкой Христа, а не его матерью, как это вытекает из интерпретации Фрейда. Нам достаточно указать на вплетаю¬щийся в личностную психологию безличный мотив, хорошо из¬вестный по другим областям знания. Это мотив дуальной мате¬ри, архетип, многочисленные варианты которого встречаются в области мифологии и сравнительного религиоведения, образую¬щий основу для множества «representations collectives». Я мог бы отметить, например, мотив двойного происхождения, т. е. происхождения от земных и божественных родителей, как в случае с Гераклом, получившим бессмертие и неохотно усынов¬ленным Герой. То, что в Греции представляло собой миф, в Египте было настоящим ритуалом: фараон по своей природе был и человеком и божеством. В родильных палатах египетских храмов изображаются на стенах второе божественное зачатие и рождение фараона. Он является «дважды рожденным». Эта идея лежит и в основании всех мистерий возрождения, включая и христианство. Сам Христос является «дважды рожденным»: крещением в Иордане он возродился водой и духом. В римской литургии источник обозначается как «uterus ecclesiae», и, как вы можете прочитать в римском требнике, он так называется и по¬ныне («благословление источника» в святую субботу накануне Пасхи).. Далее в соответствии с ранней христианско-гностической идеей появившийся в виде голубя дух интерпретировался; как Sophia- Sapientia — Мудрость и Богоматерь. Благодаря этому мотиву двойного рождения сегодняшние дети, вместо того; чтобы добрые или злые феи магически усыновляли их своими благословениями или проклятиями, имеют «крестного отца» и «крестную мать».
Идея второго рождения встречается повсюду и во все времена. На са-мых ранних этапах медицины оно было магическим средством исцеления; во многих религиях оно представляет собой самый центр мистического опыта; это ключевая идея в средневековой оккультной философии; наконец, это детская фантазия, имеющая место у бесчисленного количества детей, больших и малых, верующих в то, что их родители не являются настоя¬щими, но лишь воспитателями, которым они были переданы. Бенвенуто Челлини также думал подобным образом, как он рассказывает об этом в своей автобиографии.
Теперь мы можем полностью исключить предположение, будто все верящие в двойное рождение реально имеют двух матерей; или, наоборот, будто те немногие разделившие судьбу Лео¬нардо заразили человечество своими комплексами. Здесь скорее не обойтись без предположения, что универсальная распространенность мотива двойного рождения — вместе с фантазией о двух матерях — отвечает на общечеловеческую нужду, проявля¬ющуюся в этих мотивах. Если Леонардо да Винчи действительно изображал двух своих матерей в св. Анне и Марии — а в этом я сомневаюсь, — он тем не менее лишь выражал нечто представлявшее верования бесчисленных миллионов людей, живших до и после него. Обсуждаемый в указанной работе Фрейда символи¬ческий гриф делает данную точку зрения еще более вероятной. С известными основаниями он ссылается на «Иероглифику» Гораполлона как на источник символа. Этой книгой широко пользовались во времена Леонардо. Там вы можете прочитать, что грифы только женского рода и символизируют мать. Они зачинают от ветра (pneuma); это слово приобрело значение «духа» в основном под влиянием христианства. Даже в случае чуда нисхождения духа святого pneuma по-прежнему сохраняет двойное значение ветра и духа. Этот факт, по-моему, вне всякого сомнения указывает и на Марию, которая, будучи девствен¬ной по естеству, зачала от пневмы подобно грифу. Далее, со¬гласно Гораполлону, гриф также символизирует Афину, родившуюся без родов прямо из головы Зевса, которая была девственницей и знала лишь духовное материнство. Все это действи¬тельно представляет собой аллюзию Марии и мотива возрожде¬ния. И совсем не очевидно, что Леонардо своей картиной хотел сказать что-нибудь иное. Даже если верно предположение, будто он отождествлял себя с младенцем Христом, он, скорее всего, воспроизводил мифологический мотив дуальной матери, но ни¬коим образом не свою личную предысторию. А что говорить о всех прочих художниках, писавших на эту же тему? Разве все они имели двух матерей?
Перенесем теперь случай Леонардо в область неврозов и предположим, что пациент с материнским комплексом страдает от делюзии, будто причина невроза лежит в том, что у него бы¬ло две матери. С точки зрения личностной интерпретации мы должны будем признать, что он прав — хотя он будет совер¬шенно неправ. Ибо в действительности причина невроза будет лежать в реализации архетипа двух матерей совершенно незави¬симо от того, была ли у него одна мать или две, поскольку, как мы видели, этот архетип функционирует без какой-либо инди¬видуальной или исторической связи с относительно редко встре-чающимся фактом двойного материнства.
Конечно, есть искушение предположить наличие простой причины личностного характера, но все же эта гипотеза будет не только неточной, но и совершенно ложной. Вполне понятны трудности в понимании того, как мотив дуальной матери — не¬знакомый врачу, получившему лишь медицинскую подготов¬ку, — может иметь столь значительную силу, чтобы произвести травматическое состояние. Но если мы примем во внимание ги-гантские силы, потаенно лежащие в мифологической и религи¬озной сферах человеческого бытия, этиологическая значимость архетипа не покажется столь фантастичной. В многочисленных случаях невроза причина нарушений лежит в том самом факте, что психическая жизнь индивида лишена кооперации с этими мотивирующими силами. Тем не менее чисто личностная психо¬логия, редуцирующая все к личностным причинам, всеми силами стремится отрицать существование архетипических мотивов и даже старается разрушить их личностным анализом. Я считаю это достаточно опасной процедурой, которая медицински совер¬шенно не оправданна. Сегодня вы можете много лучше, чем двадцать лет назад, судить о природе вовлекаемых сил. Разве мы не видим, как целая нация возрождает архаический символ и даже архаичные религиозные формы, как эта массовая эмоция воздействует, революционизируя жизнь индивида самым катаст¬рофическим образом? Человек далекого прошлого живет в нас сегодня в такой степени, в какой нам это и не снилось перед войной. А что такое в конечном счете судьба великих наций как не сумма психических изменений индивидов?
До тех пор пока невроз остается частным делом, коренится исключи-тельно в личностных причинах, архетипы не играют никакой роли. Но если речь идет об общей несовместимости или ином вредоносном состоянии, производящем неврозы у относительно большого числа людей, то мы должны предполагать наличие констеллированных архетипов. Так как неврозы в боль¬шинстве случаев являются не просто частным делом, а социалъным феноменом, мы должны предполагать, что в этих случаях также подключаются архетипы. Происходит активация соот¬ветствующего данной ситуации архетипа, в результате чего скрытые в нем взрывоопасные силы приходят в действие — час¬то с непредсказуемыми последствиями. Нет такого безумия, жертвой которого не становились бы люди под властью архети¬па. Если бы тридцать лет назад кто-нибудь решился предсказать, что наше психологическое развитие идет к возрождению средневековых преследований евреев, что Европа вновь задрожит от римских фасций и грохота легионов, что люди вновь станут пользоваться римским приветствием, как две тысячи лет назад, что вместо христианского креста архаичная свастика поведет за собой миллионы готовых к смерти воинов, — разве этого человека не заклеймили бы как впавшего в мистицизм идиота? А что Ямы видим сегодня? Сколь бы уди-вительным нам это ни каза¬лось, весь этот абсурд стал ужасающей реально-стью. Частная жизнь, приватные этиологии и неврозы сделались чуть ли не фикцией в современном мире. Человек прошлого, живший в ми¬ре архаичных representations collectives, вновь поднялся на по¬верхность видимой и до боли реальной жизни, причем речь идет не о нескольких неуравновешенных индивидах, но о многих миллионах людей.
Архетипов имеется ровно столько, сколько есть типичных жизненных ситуаций. Бесконечное повторение отчеканило этот опыт на нашей психической конституции — не в форме запол¬оненных содержанием образов, но прежде всего как форм без содержания, представляющих только возможность определенного типа восприятия и действия. Когда встречается ситуация, соот¬ветствующая данному архетипу, этот архетип активируется, по¬является принудительность, которая, подобно инстинктивному влечению, прокладывает себе путь вопреки всякому разуму и воле либо производит патологический конфликт, т.е. невроз.
3. МЕТОД ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мы должны обратиться теперь к вопросу о том, как можно проверить существование архетипов. Поскольку предполагается, что архетипы вызывают определенные психические формы, нам необходимо обсудить, как и где можно получить материальную демонстрацию этих форм. Главным источником являются в та¬ком случае сновидения, у которых есть то преимущество, что они суть непроизвольные, спонтанные продукты бессознатель¬ной психики. Тем самым они являются чистыми произведениями природы, которые не фальсифицируются какой бы то ни было сознательной целью. Спрашивая индивида, можно установить, какие из появившихся в сновидениях мотивов известны самому индивиду. Из тех, что ему незнакомы, мы должны исключить все те мотивы, которые могли бы быть ему известны. Например, если вернуться к случаю Леонардо, символ грифа. У нас нет уверенности, взял ли Леонардо этот символ у Гораполлона или нет, но это было вполне возможно для образованного человека тех времен, когда художники отличались широ-кими познания¬ми. Поэтому, хотя мотив птицы является архетипом par excel¬lence, его наличие в фантазии Леонардо еще ничего не доказы¬вает. Следовательно, мы должны обратиться к мотивам, которые по возможности неизвестны сновидцу, но которые все же функ¬ционируют в его сновидении таким образом, что совпадают с функционированием архетипов, известных нам по историческим источникам.
Другим источником необходимого для нас материала явля¬ется «активное воображение». Я имею в виду последовательность фантазий, протекающих при произвольной концентрации внима¬ния. Я обнаружил, что существование нереализованных, бессоз¬нательных фантазий увеличивает частоту и интенсивность сно¬видений, и в том случае, если фантазии становятся осознанны¬ми, сновидения меняют свой характер, делаются более слабыми, редкими. Отсюда я сделал вывод, что сновидения часто содержат фантазии которые «хотят» стать осознанными. Источниками сновидений часто являются подавленные инстинкты, обладающие естественной тенденцией оказывать влияние на сознание. В таких случаях перед пациентом просто стоит задача созерцания любого фрагмента фантазии, кажущейся ему значимой — слу¬чайная идея или какая-то дошедшая до сознания часть сновиде¬ния, — пока не прояснится его контекст, т.е. соответствующий ассоциативный материал, в который внедрен этот фрагмент. Речь идет не о «свободном ассоциировании», рекомендуемом Фрейдом при анализе сновидений, но о разработке фантазии путем наблюдения дальнейшего материала фантазирования, при-бавляющегося естественным образом к данному фрагменту.
Здесь не место вступать в обсуждение технических деталей метода. Достаточно сказать, что получаемая в результате цепь фантазий приоткрывает бессознательное и дает богатый архетипическими образами и ассоциациями материал. Понятно, что этот метод может использоваться лишь в определенных, хорошо подобранных случаях. Метод небезопасен, поскольку может увести пациента слишком далеко от реальности. Так что уместно предупредить против бездумного его применения.
Наконец, очень интересным источником архетипического материала являются делюзии параноиков, фантазии, наблюдае¬мые в состояниях транса, сновидения раннего детства (от трех до пяти лет). Такой материал имеется в избытке, но он лишен всякой ценности до тех пор, пока мы не можем провести убеди¬тельные мифологические параллели. Конечно, недостаточно просто увязывать сновидение, в котором присутствовала змея, с мифологическим значением змей, ибо кто может гарантировать, что змея в сновидении та же, что и в мифе? Чтобы провести значимую параллель, необходимо знать функциональное значе¬ние индивидуального символа, а затем выяснить, не находится ли этот символ — явно параллельный мифологическому — в сходном контексте, а следовательно, не имеет ли он то же самое функциональное значение. Установление подобных фактов не только требует длительного и трудоемкого исследования, но и яв¬ляется неблагодарным предметом для доказательств. Поскольку символы не должны вырываться из контекста, постольку необхо¬димо углубляться во всеохватывающее описание как личностного, так и символического аспектов, что далеко выходит за пре¬делы данной лекции.
СОВЕСТЬ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Слово «совесть» указывает, что имеется в виду особый слу¬чай «веда-ния» или «со-знания». Специфика «совести» состоит в том, что это есть знание или весть об эмоциональной ценности представлений, имеющихся у нас по поводу мотивов наших дей¬ствий. Уже из этого определения видно, что совесть является сложным феноменом, состоящим частью из элементарного воле¬вого акта или сознательно необоснованного стремления к дейст¬вию, а частью из разумного чувства. Это ценностное суждение, отличающееся от интеллектуального суждения тем, что наряду с объективным, всеобщим, предметным его характером в нем за¬метна и отсылка к субъективному. Ценностное суждение всегда предполагает субъекта, так как оно предполагает, что нечто пре¬красно и хорошо «для меня». Если же утверждается, что нечто прекрасно и хорошо для кого-то другого, то мы имеем дело с суждением необязательно ценностным — оно может быть ут¬верждением интеллектуального порядка. Сложный феномен со¬вести, таким образом, состоит как бы из двух уровней. Один из них, образующий основание, содержит в себе психическое явле¬ние, а другой — своего рода надстройка содержит утверждаю¬щее или отрицающее суждение субъекта.
Сложности феномена соответствует его пространная эмпири¬ческая феноменология. Совесть может предварять, сопутство¬вать, дополнять сознательную рефлексию, выступать как просто привходящее аффективное явление при протекании каких-либо психических процессов (причем моральный ее характер тут не разу различим). Например, при совершении того или иного действия она может заявить о себе по внешней видимости как беспричинное состояние страха. При этом субъект ни в малейшей мере не осознает связи своего действия с сопутствующим состоянием страха. Нередко моральное суждение сдвигается в последующее сновидение, непонятное для субъекта. Например, одному бизнесмену была предложена внешне серьезная и честная сделка, которая, однако, как он осознал это позже, могла вовлечь его в фатальное для него дело о мошенничестве, прими он тогда это предложение. На следующую ночь (а сделка, как уже было сказано, казалась ему вполне приемлемой) ему присни¬лось, что руки его по плечи покрылись грязью. Он был не в состоянии найти здесь какую бы то ни было связь с событиями Предшествующего дня, так как и представить себе не мог, что предложенная сделка ставит его в уязвимое положение, посколь¬ку соединялась для него с представлением об удачной деловой операции. Я предупредил его, и он был достаточно предусмотрительным, чтобы принять определенные меры предосто-рожности, каковые и спасли его потом от колоссальных убытков. Будь си-туация изначально обозримой для его сознания, он непременно испытал бы муки совести, поскольку понимал бы, что речь идет » «грязном деле», несовместимом с его моралью. Как говорится, он «покрыл бы руки грязью». Сновидение облекло это изрече¬ние в образную форму. В данном случае отсутствует классичес¬кая характеристика совести, а именно conscientia peccati, созна¬ние греха. Отсутствует и специфическое чувство мук совести. Вместо них во сне возник символический образ покрытых гря¬зью рук, обративший внимание на возможную нечистоту дела. Чтобы его моральная реакция, т.е. его совесть, стала осознан¬ной, он должен был рассказать мне свое сновидение. Этот рас¬сказ был в каком-то смысле актом совести, поскольку в связи со «сновидением возникла какая-то неуверенность. Она была ре¬зультатом практики анализа, показавшего ему, что сновидения Часто приносят нечто значимое для самопознания. Без этого опыта, наверное, он не обратил бы на сновидение внимания.
Поучителен здесь важный факт: моральная оценка действия, входящая свое выражение в специфической тональности чувст¬венного представления, не всегда есть дело conscientia peccati, но может функционировать и без его участия. Фрейд выдвинул гипотезу, что в подобных случаях имеет место вытеснение, исходящее из некого психического фактора, так называемого «Сверх-Я». Но для того чтобы сознание осуществило волевой акт вытеснения, требуется предположить, что моральная предо¬судительность вытесняемого содержания уже была как-то осоз¬нана. Ведь без такой мотивации не был бы задействован соответ¬ствующий волевой импульс. Но как раз такое знание настолько отсутствовало у нашего бизнесмена, что он не только не обнару¬жил ни малейшей чувствительности, он и мое предупреждение принял с немалыми оговорками. Основанием для этого является тот факт, что дву-смысленность сделки он никоим образом не осознавал, а потому был лишен и всяких мотивов для вытесне¬ния. Так что гипотеза о сознательном вытеснении в данном слу¬чае также неприменима.
Произошедшее представляет собой бессознательный акт, протекавший так, словно он является сознательным и намерен¬ным действием, а именно актом совести. Будто субъект осозна¬вал аморальность сделки и ответил на это соответствующей эмо¬циональной реакцией. Но весь процесс протекал за порогом со¬знания, сублиминально, и единственным оставленным им следом является сновидение, но и в нем моральная реакция является бессознательной. «Совести» как ведания нашего «Я», как соп-scientia, в данном случае нет. Если совесть является веданием, то ведающий не эмпирический субъект, но бессознательная личность, которая, по всей видимости, поступает как сознательный субъект. Эта личность знает о двусмысленности сделки, она осознает также характер своего Я, не боящегося преступления закона ради прибыли. Поэтому она побуждает соответствующий приговор совести. Иначе гово-ря, Я замещается здесь бессозна¬тельной личностью, которая и совершает искомый акт совести. Подобные или сходные наблюдения побудили Фрейда придать особую значимость «Сверх-Я». Фрейдовское «Сверх-Я» высту¬пает теперь уже не как природная и наследуемая психическая структура, но скорее как приобретенное сознанием достояние — через традиционные обычаи, через так называемый моральный кодекс, воплощенный, например, в Десятословии. «Сверх-Я» оказывается патриархальным наследством, и как таковое оно является сознательным приобретением, собственностью созна¬ния. Когда у Фрейда «Сверх-Я» выступает как почти бессозна¬тельный фактор, то при этом он опирается на практический опыт работы с индивидуальными случаями, с которыми он счи¬тался как с фактами, а именно что акт совести, как и в нашем примере, удивительно часто протекает бессознательно. Как из¬вестно, Фрейд и его школа отвергают гипотезу об унаследован¬ных инстинктивных способах поведения, обозначаемых нами как архетипы. Они считают их мистическими и ненаучными, поэтому бессознательные акты совести объ-ясняют вытеснением «Сверх-Я».
В понятии «Сверх-Я» нет ничего выходящего за границы об-щеизвестного. Оно тождественно в данном отношении тому, что называется «моральным кодексом». Особенностью является лишь тот факт, что в индивидуальном случае тот или иной ас¬пект моральной традиции выступает как бессознательный. Сле¬дует упомянуть, что Фрейд отдавал себе отчет о наличии неких «архаических остатков» в «Сверх-Я», признавал, что акты со¬вести находятся под влиянием архаических мотиваций. Посколь¬ку наличие архетипов, т.е. подлинно архаических способов по¬ведения, Фрейд оспаривал, то остается предполагать, что под «архаическими остатками» он подразумевал наши сознательные традиции, которые в индивидуальном случае могут выступать как бессознательные. О врожденных типах у него и речи быть не может, ведь они для него должны были бы быть «унаследо¬ванными представлениями». Насколько мне известно, примеров тому он не приводит. Поскольку свидетельств в пользу гипотезы об унаследованных инстинктивных способах поведения, а имен¬но архетипов, имеется вдоволь, то «архаические остатки» в «Сверх-Я» являются, вероятно, какой-то невольной уступкой учению об архетипах. Это означает тем самым и принципиаль¬ное сомнение в аб-солютной зависимости бессознательного содер¬жания от сознания.
Для такого сомнения есть все основания: во-первых, бессоз¬нательное и онтогенетически и филогенетически старше созна¬ния, а во-вторых, слишком уж хорошо известен тот факт, что бессознательное не поддается никакому (или почти никакому) воздействию сознательных волевых актов. Или оно может лишь вытесняться или подавляться, да и то по большей части только на время. Как правило, оно сразу же выставляет за это свой счет. Не будь это так, психотерапия была бы беспроблемным делом. Путем разумения и воли тогда можно было бы получить окончательный доступ к бессознательному, психика без остатка трансформировалась бы в сознательные намерения, если бы бес сознательное целиком зависело от сознания. Лишь далекие от мира идеалисты, рационалисты и прочие фанатики способны предаваться таким мечтам. Психика — это не волевое явление, но природа, которая хотя и модифицируется в иных моментах искусством, наукой и терпением, но без глубочайшего поврежде¬ния человеческое существо не поддается превращению в artifi cium . Конечно, можно сделать человека больным животным, но уж никак не вымышленным идеальным существом.
Хотя люди доныне предаются самообману, будто сознание представляет целостность человеческой психики, оно является лишь ее частью, о связи которой со всей целостностью, впрочем, мы мало что знаем. Так как бессознательная часть на деле не осознается, то границы ее колышками не обставишь. Иначе гово¬ря, мы не можем указать, где- начинается и где заканчивается психика. Хотя нам известно, что сознание и его содержания представляют собой изменяемую часть психики, но чем глубже мы пытаемся проникнуть, хотя бы косвенно, в область бессозна-тельной души, тем чаще возникает у нас ощущение, что тут мы имеем дело с автономной сущностью. Следует даже добавить, что наилучших успехов в лечении и воспитании мы достигаем как раз там, где соучаствует бессознательное. Т.е. там, где цель нашего воздействия совпадает с бессознательной тенденцией раз¬вития. И наоборот, наши наилучшие методы и намерения отказывают там, где природа не приходит на помощь. Без хотя бы относительной автономии был бы невозможен и универсальный опыт дополняющей, т.е. компенсаторной, функции бессоз-на¬тельного. Будь бессознательное в самом деле зависимым от сознания, в нем ничего, кроме сознания, и не содержалось бы.
Наш пример сновидения и множество других сходных случаев при-ближают к мысли, что сублиминальная моральная оценка и нравственный кодекс сновидения действуют так, словно осново¬полагающими законами бессознательного являются сознание, опирающееся на традиционные мо-ральные законы, или всеобщая моральность. Либо они по меньшей мере оказывают воздействие на бессознательное. Такой вывод находится в очевидном противоречии с универсальным опытом автономии бессознательного. Хотя моральность является всеобщим свойством человеческой психики, но не тот или иной моральный кодекс. Последний никак не может быть природной психической структурой. Тем не менее, как то показывает наш пример, имеются обстоятельства, когда акт совести протекает в бессознательном точно так же, как в соз¬нании. Он следует тем же моральным предписаниям, а потому возникает видимость, будто моральный кодекс управляет и бессознательными процессами.
Эта видимость все же обманчива — есть столько же, если не больше, примеров, когда сублиминальная реакция вовсе не совпадает с моральным кодексом. Однажды я консультировал весь¬ма знатную даму, отличавшуюся не только благородством манер, но и высокой «духовностью». Она желала избавиться от своих «гадких» сновидений. Целыми сериями шли постыдные сновиде¬ния, наполненные пьяными проститутками, венерическими забо¬леваниями и тому подобным. Дама была в ужасе от таких не¬пристойностей и никак не могла объяснить, почему именно ее, всегда стремившуюся к высокому, преследуют подобные образы дна. Точно так же она могла бы спросить, почему именно святые подвергались наисквернейшим искушениям. Если моральный ко¬декс играет здесь вообще какую-то роль, то как раз обрат-ную. Вместо того чтобы производить нравственные увещевания, бес-сознательное удовлетворяется изготовлением всяческой имморальности, словно оно имеет в виду лишь нравственно предосудительное. Такого рода опыт встречается настолько часто и регулярно, что еще ап. Павел должен был признать, что доброго, которого он хочет, не делает, а злое, которого не хочет, делает (К римл. 7, 19).
Сновидение и предостерегает и искушает, а потому возникает сомне-ние в том, что можно расценить как моральное суждение, в нем совершаю-щееся, иными словами, приписать бессознательному моральную функцию. Разумеется, мы вольны понимать сновидение моральным образом, не предполагая при этом, о с бессознательным связана какая-то моральная тенденция. Скорее может показаться, что с равной объективностью оно про¬водит и аморальные фантазии и моральные суждения. Парадоксальность, внутренняя противоречивость совести издавна хорошо знакомы исследователям этого вопроса: помимо «правиль¬ной» есть и «ложная» совесть, которая искажает, утрирует, превращает зло в добро и наоборот. Это, например, совершают иные угрызения совести, причем с такой же принудительностью, с такими же сопутствующими эмоциями, как и при истинной со¬вести. Без этой парадоксальности вопрос о совести вообще не представлял бы проблемы, поскольку всегда можно было бы це¬ликом полагаться на решение совести. Но по этому поводу име¬ется огромная и вполне оправданная неуверенность. Требуется необычайное мужество или, что то же самое, непоколебимая ве¬ра, когда мы желаем следовать собственной совести. Мы по¬слушны совести лишь до какого-то предела, заданного как раз извне нравственным кодексом. Тут начинаются ужасающие кол¬лизии с долгом, разрешаемые по большей части согласно пред¬писаниям кодекса. Лишь в редких случаях решения принимают¬ся ин-дивидуальным актом суждения. Там, где совесть не получа¬ет поддержки морального кодекса, она с легкостью впадает в пристрастия.
Пока царствуют традиционные моральные предписания, от¬личить от них совесть практически невозможно. Поэтому мы так часто встречаемся с мнением, будто совесть есть не что иное, как суггестивное воздействие мо-ральных предписаний, что ее не су¬ществовало бы вообще без моральных законов. Феномен, имену¬емый нами «совестью», обнаруживается повсюду, во всем чело¬веческом. «Совеститься» мне как-то по тому поводу, что он сы¬рую шкуру скребет железным ножом (должно было бы камен¬ным), либо из-за того, что он бросает друга в беде, когда дол¬жен был бы прийти на помощь, — в обоих Случаях речь идет о неком упреке, идущем изнутри, об «угрызении» совести. Нечто вроде шока в обоих случаях вызывает отклонение от укоренив¬шегося путем долгого употребления обычая, от общезначимого правила. На все непривычное и необычное первобытная душа отвечает эмоциональной реакцией, которая тем сильнее, чем больше противоречие с «representations collectives» , сопровож¬дающими соответствующее правилам действие. Первобытный ум все и вся снабжает мифическими выводами и объяснениями. Все, что мы склонны расценивать как чистейшую случайность, пони¬мается первобытным умом как преднамеренное магическое воз¬действие. И это никак не «вымыслы», а спонтанные образы фантазии. Они появляются без умысла, естественно, невольно, именно как архетипические реакции, свойственные человеческой психике. Нет ничего превратнее мнения, будто миф есть «выдумка». Скорее миф напоминает все прочие подлинные образы фантазии, явленные по большей части в сновидениях. Hybris дознания состоит в том, что оно желает все вывести из примата | сознательного, хотя само оно достоверным образом происходит из более древней бессознательной психики. Единство и длитель¬ность сознания — это недавние приобретения, и именно поэтому всегда есть страх их вновь утратить.
Моральная реакция изначально присуща психике, в то время как мо-ральный закон есть позднее, окаменевшее в суждениях следствие морального поведения. Он кажется идентичным мо¬ральной реакции, т.е совести. Но эта иллюзия исчезает в то мгновение, когда происходит коллизия долга, когда становится Очевидным различие между нравственным кодексом и совестью. решение тут зависит от силы: перевесит ли традиционно-конвен¬циональная мораль или совесть. Должен ли я говорить правду, ввергая тем самым других в верную катастрофу, или должен солгать, чтобы их спасти? К голосу совести тут прислушивается тот, кто закоснел в одном: «ты не должен лгать». Он просто последует нравственному кодексу. Но если прислушаться к совес¬ти, то охватывает одиночество и становится слышным субъектив¬ный голос, о котором поначалу не известно, какие им движут мотивы. Никто не дает га-рантии, что им руководят лишь благо¬родные побудительные причины. Себя знаешь иной раз слишком хорошо, чтобы фиглярствовать по поводу стопроцентности своих исключительно добрых намерений — до мозга костей альтруистических. При самых благих наших деяниях за спиной всегда стоит дьявол, который отечески похлопывает нас по плечу и на-шептывает: «Ты это сделал просто замечательно!»
В чем оправдание истинной и подлинной совести, возвышающейся над моральным кодексом и не подчиняющейся его решениям? Что дает мужество полагать, что тут не «ложная» совесть, не самообман?
Иоанн (1 Посл. 4, 1) говорит: «Испытывайте духов, от Бога ли они». Это предупреждение применимо и к нашему случаю. Ведь совесть с древ-нейших времен понималась скорее как бо¬жественное вмешательство, чем как психическая функция; ее приказ означал vox Dei, глас Божий. Это показывает, какую ценность и какое значение придавали и до сих пор придают данному феномену. Психология не должна упускать из виду подоб¬ные оценки, ибо эти хорошо известные явления требуют осмыс¬ления, раз уж мы занялись психологической трактовкой совести. Вопрос об истинности, который в связи с этим иной раз неправо¬мерно поднимают, не имеет ничего общего с психологической проблемой. Vox Dei есть свидетельство совести и должен прини¬маться как свидетельство. Все психологические факты, устанав¬ливаемые не при помощи аппаратов и точных естественнонауч¬ных методов, суть свидетельства, мнения, наделенные психичес¬кой реальностью. Мнение о том, что глас совести есть глас Бо¬жий, истинно психологически.
Так как феномен совести не совпадает с моральным кодек¬сом, но ско-рее ему предшествует, содержательно его превосхо¬дит (будучи, возможно, «ложным»), то представление совести как vox Dei делается крайне деликат-ной проблемой. А именно трудно указать ту точку, где заканчивается «ис-тинная» и начи¬нается «ложная» совесть, каков критерий их различия. Здесь снова в дело вступает моральный кодекс, ставящий себе целью точное познание добра и зла. Но если голос совести есть глас Божий, то авторитет у него должен быть непременно более высо¬ким, чем у традиционной морали. Тот, кто наделяет совесть этим достоинством, должен тогда наудачу доверяться божественному решению. Он более следует своей совести, нежели оглядкам на конвенциональную мораль. Верующему в Бога как в summum bonum , легче следовать внутреннему голосу, ибо он уверен, что никогда не будет введен в заблуждение. Однако об этом мы лишь всегда просим в «Отче наш», чтобы Он не ввел «нас во ис¬кушение», а тем самым оказывается погребенной и надежда ве¬рующего, будто в коллизиях долга он может следовать голосу совести не обращая внимания на «мир» — в данном случае на предписания морального кодекса (ибо он «повинуется больше Богу, нежели человекам» (Деян. апостолов, 5, 29).
Как ни обосновывать совесть, она ставит индивиду требова¬ние: следуй своему внутреннему голосу, не бойся сбиться с пути Можно не повиноваться этому приказу, ссылаясь на подкреп¬ленный религией моральный кодекс, но при этом испытывая тя¬желое чувство измены. Этос был и остается внутренней ценнос¬тью, утрата его нешуточна, а в определенных обстоятельствах возможны и ощутимые психические последствия такой утраты. Известно это, правда, сравнительно немногим, ибо вообще не¬многие объективно отдают себе отчет о душевных взаимосвязях. Душа относится к тем предметам, о которых мало осведомлены, так как мало кому понравится осведомляться о собственной тени. Сама психология платит дорогую цену за сокрытие истин¬ных причинных связей. Чем научнее она действует, тем больше так называемая объективность, являющаяся прекрасным сред¬ством избавления от обре-менительного чувства совести, которое представляет собственную динамику моральной реакции. А без эмоциональной динамики феномен совести теряет всякий смысл — в этом и состоит бессознательная цель так называемого научного подхода.
Совесть является автономным психическим фактором. В этом сходятся все, кто не отвергает ее прямо. Это видно из пред¬оставления о ней как о vox Dei, «гласе Божием», часто вступаю¬щем в резкое противоречие с субъективными намерениями, при¬нуждающем к далеко не добровольному решению. Если сам Фрейд наделил свое «Сверх-Я» чуть ли не демонической влас¬тью (хотя «Сверх-Я» per definitionem представляет собой не подлинную совесть, но человеческие конвенции и традиции), то при этом ничуть не преувеличивал. Он просто констатировал то, что регулярно встречается в опыте практикующего психолога. Совесть — это требование, которое либо вообще направлено против субъекта, либо по меньшей мере готовит ему немалые трудности. Разумеется, этим не отрицается наличие случаев бес¬совестности. Представлять себе совесть чем-то полученным в ре¬зультате обучения может лишь тот, кто воображает, будто она была уже в предыстории, когда возникли первые моральные ре¬акции. Совесть — далеко не единственный автономный внутренний фактор, противостоящий воле субъекта. Таков всякий ком¬плекс, а ведь никто в здравом уме не скажет, что комплекс есть результат обучения. Никто не имел бы ни единого комплекса, если бы ему вдалбливали его путем обучения. Даже домашние животные, которым никак не припишешь совести, имеют комплексы и моральные реакции.
Автономия психического заставляет первобытного человека подозре-вать магические и демонические силы. Для него это считается в порядке ве-щей. Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется, что и человек ан-тичной культуры, например Со¬крат, тоже имел своего демона. И тогда существовала всеобщая и естественная вера в сверхчеловеческие существа, каковые се¬годня рассматриваются нами как олицетворения проецирован-ных содержаний бессознательного. Эта вера не утеряна и сегод¬ня, она существует в различных модификациях, например в предположении, что совесть есть глас Божий. Или в том факте, что она является весьма существенным душевным фактором и сопровождает независимо от темперамента наиболее дифферен¬цированную функцию (скажем, интеллектуальная или чувствен¬ная мораль). И что, даже не играя по видимости никакой роли, совесть косвенно заявляет о себе в форме навязчивых симпто¬мов. Во всех этих проявлениях находит свое выражение собст¬венная динамика моральной реакции, которую в зависимости от условий называют демоном, гением, ангелом-хранителем, «луч¬шим Я», сердцем, внутренним голосом, внутренним или высшим человеком. В непосредственной близости к положительной или истинной совести стоит отрицательная, именуемая ложной, со¬весть. Соответствнно она принимает имена дьявола, искусителя, соблазнителя, злого духа и т.д. С фактом этой близости сталкивается каждый отдающий себе отчет о своей совести. Он должен признаться, что мера добра в лучшем случае лишь не намного превосходит меру зла — если вообще превосходит. И некий Па¬вел признавался в наличии у него «ангела сатаны» (2 Коринф. 12. 7). Греха следует избегать (порой это и возможно), но уже на следующем шаге, как показывает опыт, мы в него снова впа¬даем. Только бессознательные и некритичные люди могут вооб¬ражать себе, будто они способны постоянно пребывать в мораль¬ном благолепии. Большинство лишено самокритичности, поэтому самообман делается чуть ли не правилом. Более развитое соз¬нание выносит сокровенные моральные конфликты на дневной свет, обостряет уже осознанные противоречия. А это достаточное основание для самопознания и психологии вообще, для того,чтобы пренебрегать душой.
Нет другого такого психического феномена, который отчет¬ливее вы-свечивал бы полярность души, нежели совесть. Несом¬ненную ее динамику, чтобы вообще ее понимать, следует пред¬ставлять энергетически, т.е. как некий потенциал, возникающий из противоположностей. Совесть доводит до сознательного восприятия всегда и по необходимости существующие противопо¬ложности. Величайшей ошибкой является предположение, будто от этой противоречивости можно избавиться. Она является неиз-бежным структурным элементом психики. При попытках снять моральную реакцию путем дрессировки противоположности прос¬то переворачиваются и пользуются друг другом для выражения морального. Но они не исчезают. Если верно представление о совести как о vox Dei, то из него логически вытекает метафизи¬ческая дилемма: либо дуализм с ограничением божественного всемогущества, либо монотеистический образ Бога (например, образ Яхве в Ветхом завете), в котором легко увидеть сохранен¬ные черты моральной противоречивости. Эта фигура соответ¬ствует целостной картине психики, которая динамически опира¬ется на противоположности. Тут и платоновская упряжка с бе¬лым и черным конями, и Фауст: «Две души, живут в моей гру¬ди» (а с ними никакой возничий не управится, как на то ясно указывает судьба Фауста).
Психология может подвергать критике метафизические вы-сказывания, находить в них человеческое, но они сотворены не ею; она устанавливает лишь их наличие как своего рода воскли¬цаний. Она знает, что ни одна формулировка не является дока¬зуемой, а тем самым объективной. Но законность субъективных высказываний она должна признать. Подобные высказывания суть психические проявления человеческой сущности. Без них нет психической целостности, даже если придавать им лишь субъективную значимость. Субъективным высказыванием явля¬ется и гипотеза о vox Dei, подчеркивающая нуминозный харак¬тер моральной реакции. Совесть — проявление Мана, демон¬страция «чрезвычайно действенного», т.е. свойство, присущее прежде всего архетипическим представлениям. Именно потому, что моральная реакция только по видимости тождественна суг¬гестивному воздействию морального комплекса, она подпадает под категорию коллективного бессознательного. Это архетипический pattern of behaviour , существующий повсюду вплоть до Животной души. Как природное явление архетип имеет морально амбивалентный характер; лучше сказать, он сам по себе лишен тральных качеств, внеморален (как и яхвистический образ Бога акте познания обретающий моральные черты). Яхве справедлив и несправедлив, добр и жесток, правдив и обманчив. Все это целиком относится и к архетипу. Праформа совести поэтому парадоксальна: сжечь еретика вроде Яна Гуса, с одной стороны, похвальное и святое дело, что и сам он, согласно преданию, признал, воскликнув с костра: «О sancta simplicitas» . С другой же стороны, это проявление гнусной и жестокой мести.
Обе формы совести, истинная и ложная, проистекают из од¬ного источника, а потому близки по своей убедительности. Это находит выражение и в другом отношении, например в символи¬ческих именах Христовых, таких, как Люцифер, Лев, Ворон (вернее, Нюктикоракс), Змей, Сын Божий и т.д., каковые явля¬ются у него общими с Сатаной. И в идее, что добрый Бог Отец христианства настолько мстителен, что ему понадобилось жесто¬чайшее жертвоприношение собственного сына, чтобы примирить¬ся с человечеством; либо в идее, согласно которой summum bonum принадлежит стремление вводить во искушение подчиненное ему и беспомощное человечество, дабы на последнем лежала ответ¬ственность за вечное проклятие (если только человечеству со временем не удастся учуять эту божественную ловушку). Эти не¬выносимые для религиозного чувства парадоксы заставляют ме¬ня предложить редукцию представления о vox Dei к доступной и понятной для нас гипотезе архетипа. Будучи биологическим фе¬номеном, pattern of behaviour, архетип морально индифферен¬тен, хоть и наделен динамикой, способной глубочайшим образом воздействовать на человеческое поведение.
Понятие «архетип» так часто получало ложное истолкова¬ние, что без объяснения его о нем и упомянуть нельзя. Оно яв¬ляется итогом многократ-ных наблюдений, анализа мифов, ска¬зок, мировой литературы, где всегда и повсюду встречаются од¬ни и те же мотивы. Их же мы обнаруживаем в фантазиях, сно¬видениях, бреде и навязчивых идеях наших современников. Эти типичные образы и взаимосвязи получили название архетипических представлений. Чем, они отчетливее, тем заметнее становится одна их черта — наделенность особой жизненной окрашенностью, специфическая динамика в рамках душевной жизни. Они впечатляют, воздействуют, очаровывают. Их истоком является архетип, который сам по себе недоступен созерцанию. Это бес¬сознательная праформа, принадлежащая унаследованной психической структуре: вследствие этого она может спонтанно заяв¬лять о себе повсюду. В соответствии со своей инстинктивной природой архетип лежит в основе чувственно окрашенных ком¬плексов — отсюда их относительная автономность. Архетип яв¬ляется также психической предпосылкой религиозных воззре¬ний, он обусловливает антропоморфность образов Бога. Но это не является осно-ванием каких бы то ни было метафизических Суждений, будь они утверди-тельными или отрицательными. С представлениями такого рода мы остаемся в рамках воз¬можного человеческого опытами познания. Vox Dei означает Здесь не более чем свойственную архетипу тенденцию, а именно характерный для мифических высказываний нуминозный опыт. Он и выражает и обосновывает эти мифические события. С этой редукцией к эмпирически улавливаемому мы ничуть не отверга¬ем трансцендентного. Когда кого-нибудь поражала молния, ан¬тичный человек верил, что это громовая кара Зевса. Мы обхо¬димся без такой мифологической драматизации и удовлетворяем¬ся скромным объяснением: неожиданное выравнивание электри¬ческого напряжения случайно происходит именно там, где этот несчастный прятался под деревом. Слабым местом этого аргу¬мента является, безусловно, так называемая случайность, о кото¬рой более ничего не скажешь. В первобытности такой случай¬ности как раз не было, поскольку все было умыслом.
С одной стороны, сведение акта совести к коллизии с архе¬типом — это целиком оправданное объяснение. Но, с другой — мы должны добавить, что психоидный архетип, т.е. его недо¬ступная созерцанию и бессознательная сущность, является не просто постулатом ума. Ему свойственны парапсихологические характеристики, обозначаемые мной во всей их совокупности термином синхроничность. Случаи телепатии, ясновидения и им подобные необъяснимые феномены особенно часто наблюдаются в архетипических ситуациях. Здесь возможна связь с коллектив¬ной природой архетипа, ибо коллективное бессознательное в противоположность личностному бессознательному всегда и везде у всех людей одно и то же, как и все прочие основополагаю¬щие биологические функции или инстинкты. Не вдаваясь в тонкости, можно сказать, что синхроничность наблюдается при инстинктивных действиях, например в кочевом инстинкте с его выраженным синхронизмом. В связанных с бессознательной психи¬кой парапсихологических феноменах категории пространства и времени релятивизируются; коллективному бессоз-нательному присущи внепространственные и вневременные свойства. Поэто¬му с известной вероятностью можно утверждать, что архетипическая ситуация сопровождается синхроническими феноменами (например, ситуация смерти, когда такие явления относительно часто имеют место).
Как и при всех архетипических явлениях, фактор синхро¬ничности должен приниматься во внимание в случае совести. Далеко не всегда основанием совести является субъективная мо¬ральная оценка — голос совести часто звучит в момент архетипической констелляции. А именно встречаются случаи, когда переживаются острые муки совести, хотя для них нет видимых оснований. Разумеется, во множестве случаев этот факт можно объяснить незнанием или самообманом, но в принципе не исклю¬чен и такой случай, когда угрызения совести возникают во вре¬мя разговора с незнакомым человеком, у которого для таких уг¬рызений как раз есть все основания, только они остаются бессоз¬нательными. Это относится также к страху и другим эмоциям, в основе которых тоже лежит коллизия с архетипом. При разгово¬ре с индивидом, у которого имеются «констеллированные», т.е. активированные бессознательные, содержания, возникает парал¬лельная им констелляция в собственном бессознательном. Иначе говоря, переживаются одинаковые или сходные архетипы. И ес¬ли один из них не столь бессознателен, как другой, не имеет по¬вода для вытеснения, то в его сознании всплывают эмоциональ¬но окрашенные ощущения, поднимается страх совести. Он скло¬нен приписывать эти моральные реакции себе самому, тем более что для совершенно чистой совести у него нет и малейшего пово¬да. Но в данном случае эта похваль-ная самокритичность заходит слишком далеко. Сразу же после завершения беседы необъясни¬мым образом исчезает и ощущение нечистой совести, столь же необъяснимо, как оно и возникло. А через какое-то время выяс¬няется, что этот собеседник должен был бы испытывать угрызе¬ния совести. Тут мелькают и такие случаи, один из которых описал Цшокке (Zschokke) в своем «Самонаблюдении». Он ос¬тановился в трактире в Брюгге, где за обедом перед ним сидел молодой человек. Неожиданно своим внутренним взором Цшок¬ке увидел, какого vis-a-vis взламывает сейф и завладевает лежа¬щими в нем деньгами. Цшокке была известна даже точная сум¬ма, причем он был настолько в этом уверен, что прямо задал вопрос молодому человеку. Тот был настолько ошеломлен пoзнаниями Цшокке, что немедленно удалился.
Такая неожиданная картина неизвестных нам ранее событий может проявиться в сновидении; она может быть причиной осо¬знаваемого неприятного, но трудно формулируемого чувства; может дать повод для догадки, вообще неизвестно к кому отно¬симой. Психоидный архетип имеет тенденцию локализироваться не в отдельной личности, но воздействовать на ее ближнее или дальнее окружение. Передача происходит в большей части слу¬чаев через подпороговое восприятие мельчайших признаков дан-ного аффекта. Звери и дикари обладают особо тонким чутьем. Такое объяснение не подходит, однако, в парапсихологических случаях.
С опытом такого рода чаще всего сталкивается психотера¬певт или иное лицо, которому приходится в силу профессио¬нального долга вести беседы с людьми, с которыми У него нет личных связей, — беседовать об их интимных делах. Разумеет¬ся, далеко не всякий «беспричинный» страх совести имеет своей причиной воздействие собеседника. Подобный вывод оправдан лишь там, где, по зрелом размышлении, собственная виновность доказывается совершенно неадекватной для объяснения имевшей место реакции. Различить тут все не так уж просто: психотера¬пия является делом деликатным, нельзя задевать этические цен¬ности, ставя под вопрос результат лечения. Но это имеет значе¬ние не только для психотерапевтического процесса, представля¬ющего собой лишь отдельный случай человеческого общения в целом. А именно стоит обоим собеседникам натолкнуться на фундаментальное, существенное, нуминозное, стоит возникнуть некому между ними созвучию, как возникает феномен «partici¬pation mystique» (такое название оправданно дал ему Леви-Брюль). Это бессознательное тождество, в котором обе индиви¬дуальные психические сферы до такой степени пронизывают друг друга, что уже трудно решить, что и кому принадлежит.Если при этом задета проблема совести, то виновность одного делается виновностью другого, и поначалу нет никакой возможности распутать это эмоциональное тождество. Для этого требуется особый акт рефлексии.
Я задержал внимание на этом феномене, поскольку хотел показать, что понятие архетипа не является чем-то окончатель¬ным. Было бы искажением моей позиции предположение, будто сущность совести редуцируется к «всего лишь» архетипу. Психоидиая природа архетипа заключает в себе много больше того, что поместилось бы в психологическое объяснение. Эта природа указывает на сферу unus mundus, к которой разными путями идут психология и атомная физика, причем независимо друг от друга они используют аналогичные вспомогательные понятия. На начальной своей ступени процесс познания расходится и раз¬бирается на части; на второй ступени разделенное снова сходит¬ся, и объяснение становится удовлетворительным лишь вместе с достижением их синтеза.
Поэтому я не могу ограничиться только психологической природой совести, но должен упомянуть и теологический аспект данного феномена. Кстати, последний совсем не предполагает того, что акт совести ео ipsd является предметом лишь рацио¬нальной психологии. На первом месте тут находится vox Dei. Это не умничанье рассудка, а первичный голос самого феноме¬на, нуминозный императив, авторитет которого издревле стоял куда выше человеческого рассудка. Даймонион Сократа вовсе не является эмпирической личностью Сократа. При объективном рассмотрении, т.е. без рационалистических предпосылок, со¬весть притязает на божественный авторитет, заявляет о себе как vox Dei. Объективная психология, отдающая себе отчет об ирра¬циональном, не может пройти мимо этих притязаний. Она не за¬дается вопросом об истине последнего — на этот вопрос и нет ответа. По теоретико-познавательным основаниям вопрос этот давно устарел. Человеческое познание должно довольствоваться построением моделей, истинность которых имеет вероятностный характер. Требовать большего — значит впадать в немыслимую самонадеянность. Познание и вера все-таки различны. Мы гово¬рим здесь о предметах возможного знания, т.е. о познании, а не о вере, которая изначально лежит за пределами всякой крити¬ческой дискуссии. Частым употреблением парадокса -— «позна¬ние посредством веры» — не навести мостов через разделяющую их пропасть.
Психологическое объяснение совести имеет полное право довольствоваться формулировкой о коллизии сознания с нуминозным архетипом. Но тут требуется дополнение: архетип сам по себе, т.е. психоидная сущность, этой формулировкой не улавливается. Эта сущность трансцендентна, как непознаваемая субстанция психики. Мифическое выражение совести — vox Dei — относится к ее нуминозной сущности. И это не менее объективной феномен, чем сама совесть.
Подводя итог, я хотел бы сказать, что совесть находится в соответствии с психической реакцией, которую следует называть моральной, поскольку она всегда появляется там, где сознание оставляет пути обычая, нравов (mores). Поэтому в большинстве индивидуальных случаев совесть означает реакцию на действи¬тельное или замышляемое отклонение от морального кодекса. Она сходна с первобытным страхом перед необычным, а потому безнравственным». Это поведение, так сказать, инстинктивно, в лучшем случае лишь частью осознанно, а потому оно при своей моральности не может притязать на этическое значение. Пос¬леднее характерно для совести лишь в том случае, когда она рефлексивна, включена в сознательное обсуждение. А это стано¬вится возможным лишь вместе с появлением принципиального сомнения, когда сталкиваются два возможных способа морально-то поведения, при коллизии долга. Такая ситуация разрешима только путем подавления: одна неосознанная моральная реакция подавляет другую. Напрасно в таком случае взывать к мораль¬ному кодексу, а рассудок здесь попадает в ситуацию буриданова осла, оказавшегося между двумя охапками сена. Окончательное решение зависит от творческой силы этоса, в которой человек участвует целиком. Как и все творческие способности человека, этос эмпирически происходит из двух источников: рационального знания и иррационального бессознательного. Этос есть особый случай того, что мы называем «трансцендентной функцией», подразумевающей борьбу и сотрудничество сознательных и бес¬сознательных факторов. На языке религии: разума и милости.
В задачу психологии не входит расширение или сужение понятия со-вести. В общем словоупотреблении «совесть» означает уверенность в наличии какого-то фактора, который в случае доброй совести принимает решение или подтверждает деяния, соответствующие имеющимся нравам. В противном случае она осуждает их как «безнравственные». Выводимое из «mores» (нравы, обычаи) представление о совести можно поэтому на-звать «моральным». От него отличается этическая форма совес¬ти, выступающая при столкновении двух одобряемых моралью «должных» решений или поступков. В этом не предусмотренном нравами случае, как правило индивидуальном, требуется сужде¬ние, которое уже больше чем просто морально (т. е. соразмерно нравам). На нравы ему тут не опереться. Решающим для совести фактором выступает не традиционный моральный кодекс, а бес¬сознательный фундамент личности или индивидуальности. Ре¬шение всплывает из темноты глубинных вод. Конечно, такие коллизии долга очень часто и без труда решаются путем обраще¬ния к нравам, т.е. путем подавления одной из противоположнос¬тей. Но не всегда: при достаточной совестливости конфликт до¬водится до конца и возникает творческое решение, привнесенное ко констеллированным архетипом. Это решение обладает принуди¬тельным авторитетом и по праву характеризуется как vox Dei. Такое решение соответствует глу-бинным основаниям личности, ее целостности, охватывающей Сознание и бессознательное, а по¬тому превосходящей наше «Я».
Таким образом, понятие и феномен совести при рассмотре¬нии их с психологической точки зрения содержат в себе две раз¬личные стороны: напоминание и увещевание, идущие от нравов, и коллизию долга, разрешаемую путем творчества. Таковы мо¬ральная и этическая стороны акта совести.
ДОБРО И ЗЛО В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Я выражаю сердечную благодарность профессору 3айферту за все столь основательно сказанное им относительно проблемы Тени. Если в соответствии с вашими пожеланиями я должен еще что-то добавить, то я скажу по поводу чисто эмпирического ас¬пекта добра и зла, как конкретно имеет с ними дело терапевт.
Должен сознаться, что я всегда сталкиваюсь с трудностями, обсуждая эту тему с философами или теологами. У меня возни¬кает ощущение, будто они говорят не о самом предмете, не о су¬ти дела, а лишь о словах, понятиях, обозначающих этот пред¬мет. Мы так легко даем увлечь себя словами, что они замещают всю действительность. Мне говорят о добре и зле, предполагая, что я уже знаю, что это такое. Но я этого не знаю. Когда кто-нибудь говорит о добре или зле, то он подразумевает именуемое им добрым или злым, то, что он ощущает как доброе или злое. Он говорит о них тогда со всевозрастающей уверенностью, не зная, является ли в действительности таковым называемое им добрым или злым, покрывают ли его слова действительность. Возможно, образ мира у говорящего не вполне согласуется с реальным положением дел, а объективное замещено внутренним, субъективным образом.
Для того чтобы договориться по столь сложному вопросу о добре и зле, нам нужно исходить из следующего: добро и зло суть сами по себе принципы, и следует думать, что принципы эти простираются за пределы нашего существования. Говоря о добре и зле, мы ведем конкретный разговор о сущности, глубо¬чайшие качества которой нам. в действительности неизвестны. Если нечто переживается нами как злое или греховное, то пере¬живание это зависит от субъективного суждения, равно как мера и тяжесть греха.
Вам, думаю, известна забавная история того исповедника в Техасе, к которому пришел молодой человек с перекошенным от ужаса и отчаяния лицом. «What's the matter?» (Что случи¬лось?) — «Something terrible happend» (Произошло ужасное) -«But what happend?»,(Но что же произошло?) — «Murder» (Я убил) — «How many?» (Скольких?). По этому диалогу видно, насколько различно воспринимают оба одно и то же положение дел, одну и ту же действительность. Какое-то определенное по-ложение дел я называю злом часто без уверенности в том, что это действительно зло. Какие-то вещи кажутся мне злом, не бу¬дучи таковыми в действительности. Нередко я и сам оказывался в ситуации, когда, отпустив пациента, я готов был волосы на го¬лове рвать, считая, что сделал что-то неправильно, был чересчур суров или что-то не так сказал. А при следующей встрече этот пациент говорил мне: «Это было неповторимо, именно тогда бы¬ло сказано то, к чему я должен был прислушаться». Может про¬изойти и прямо противоположное. Я могу думать, что часовой сеанс был превосходным, скажем, превосходным было мое ис¬толкование сновидения пациента, — а ему оно кажется ложным.
Откуда у нас эта вера, эта внешняя уверенность, будто мы знаем, что такое добро и зло? «Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum» (I.Mose 3, 5) . Только боги знают, мы не знаем. Это чрезвычайно верно и психологически. Если у вас такая установ¬ка: «Это может быть весьма скверно, а может и нет», — то у вас есть шанс, что вы поступите правильно. Но если вы знаете зара¬нее, скверно оно или нет, то ведете себя, будто вы сам Господь Бог. Однако все мы лишь ограниченные люди и в каждом кон¬кретном случае по существу не знаем, творим ли добро или зло. Мы знаем их абстрактно. Видеть конкретную ситуацию на¬сквозь, во всей ее полноте посильно одному Господу Богу. У нас может только сформироваться мнение, при том что мы не знаем, является ли оно правомочным. Мы можем быть в высшей степе¬ни предусмотрительными: то или иное является добром или злом учетом такого-то масштаба. То, что нашему народу кажется злом, другой народ может считать благом. Относительность оце¬нок касается и эстетической области: одному произведение со¬временного искусства кажется шедевром, за который он готов платить огромные деньги, чего никак не может понять другой. И все же мы не можем просто-напросто не судить. Если кажущееся нам злом мы назовем добром, то в итоге будет ложь. Если я ска¬жу кому-нибудь: «Написанное вами—шедевр», — думая при этом, что оно никуда не годится, то это ложь. Возможно, мое суждение какое-то время будет оказывать положительное воз¬действие на данного человека, он будет польщен. Но по-настоя¬щему действует на другого только то, что я отдаю ему мое наи¬лучшее, а именно мое признание, идущее из глубины моего убеждения и отданное ему, к тому же в нужное время. Когда мы подпадаем под влияние эмфатических оценок, то приходим в эмоциональное состояние, в котором мы в наименьшей мере спо¬собны применять верный масштаб.
Мой подход к этой проблеме является эмпирическим, а не теоретиче-ским или априорным. Когда пациент приходит к тера¬певту, то приводит его к нему конфликт. Речь тогда идет о том, чтобы вскрыть эту конфликтную ситуацию, часто бессознатель¬ную, но прежде всего чтобы найти выход из конфликта. И тут мне не остается ничего другого, кроме как предусмотрительно сказать самому себе: в точности мы не знаем, что там разыгры¬вается. Положение дел может казаться тем или иным, но разве его нельзя с полным на то правом истолковать иначе? То, что сначала могло показаться негативным, затем оказывается тем, что и должно было случиться с пациентом волей судеб. Поэтому я часто говорю: я надеюсь на Бога, что теперь не плошаю.
Возможно, речь тут идет об аффективно - эксцессивной ситуа¬ции, как говорил Альберт Великий: «in excessu affectus» . При¬смотревшись, мы заметили, что добро и зло суть principia. Принцип происходит от prius, от того, что было раньше того, что лежит вначале. Последним мыслимым principium является Бог. Principia в последнем счете суть лики Божий. Добро и зло - это principia нашего суждения, но в последнем онтическом их корне они суть начала, лики, имена Божий. Когда in excessu affectus, в эмоционально-эксцессивной ситуации я сталкиваюсь с парадоксальным положением вещей или событием, то сталкиваюсь в конечном счете с одним из божественных ликов. Логически расценить или осилить божественный лик я не в со¬стоянии, ибо он сильнее меня, т. е. имеет нуминозный характер. Тем самым я встретился с tremendum et fascinosum . «Осилить» нуминозное я не могу, я способен лишь открыться ему, дать ему меня потрясти, довериться его смыслу. Принцип всегда есть не¬что чрезвычайное, в сравнении со мной могущественное. Даже последние физикалистские принципы я не в состоянии осилить, в своей чистой данности они стоят намного выше меня, надо мной, они имеют силу. Тут задействовано нечто непреодолимое.
Если в excessu affectus я скажу: «Это плохое вино» либо: «Этот тип — подлая собака», то я не знаю, имеет ли смысл дан¬ное суждение. У другого о том же вине или том же человеке мо¬жет быть совсем иное мнение. Мы знаем лишь поверхность ве¬щей, мы знаем их лишь такими, какими они нам явлены, а пото¬му нам следует быть очень скромными. Часто со мной бывало так, что я хотел исключить из мира пациента абсолютно, как мне казалось, вредную для него тенденцию, а потом в каком-то глубинном смысле оказывалось, что он был прав, следуя этой тенденции. Например, я хотел предупредить одного человека, что он подвергается смертельной опасности. Когда мне это уда¬лось, я был уверен, что это окажет на него нужное терапевтичес¬кое воздействие. Но вскоре, когда он последовал моему совету, я увидел, что он-то как раз был прав, подвергаясь этой опасности. Тогда возникает вопрос: должен ли он подвергаться смертельно¬му риску? Если он не отваживается рисковать своей жизнью, то в каком-то наиважнейшем для него смысле его опыт будет обед¬нен. Он никогда не ставил свою жизнь на карту, а потому ни-когда и не выигрывал.
При рассмотрении вопроса о добре и зле терапевту также ос¬тается только надеяться, что он правильно видит вещи, но он никогда не должен быть уверен в этом окончательно. Как тера¬певт, я не могу подходить к проблеме добра и зла в данном кон¬кретном случае теологически или философски, но могу обхо¬диться с ней лишь эмпирически. Это не означает, что при эмпи¬рическом подходе я делаю добро и зло сами по себе относитель¬ными. Я ясно вижу: вот зло, но весь парадокс в том, что у данного человека в этой конкретной ситуации, на определенной сту¬пени его пути зрелости это зло может оказаться добром. Имеет силу и обратное: в ложный момент в недолжном месте добро об¬ратится своей противоположностью. Не будь это так, все было бы просто — слишком просто. Когда я не сужу a priori, но при¬слушиваюсь к конкретной данности, то я уже не знаю заранее, что для пациента добро, а что зло. Хотя многие вещи наличны, они не прозрачны для нас, как и их смысл, они явлены нам in umbra , сокрыты и окутаны тьмой. Лишь с ходом времени прони¬кает луч света на тайное до той поры. То, что в Ветхом завете было явлено in umbra, то воссияло в луче истины в Новом завете.
Это верно и психологически. Было бы заносчиво с нашей стороны мнить, будто мы всегда можем сказать, что для пациен¬та добро или зло. Наверное, нечто для него действительно явля¬ется злом, он его все же творит и в результате испытывает муки совести. Но это может быть для данного человека — глядя и те¬рапевтически и эмпирически — великим благом. Возможно, он должен пережить и перетерпеть зло и его власть, ибо лишь так он может наконец преодолеть свое фарисейство по отношению к другим людям. Возможно, ему надлежало получить щелчок по носу — называйте это как хотите — от судьбы, либо бессозна¬тельно, либо от Бога: свалиться в грязь, поскольку лишь такое мощное переживание способно «подтолкнуть» его, хотя бы на шаг вывести его из инфантилизма и сделать более зрелым. Как может человек знать, что ему требуется освобождение, если он самоуверенно мнит, будто ему не от чего освобождаться? Он ви¬дит свою тень, нижние уровни своего бытия, но отворачивает от них взгляд, бежит от них, не вступает с ними в сражение, ничем не рискует. Он хвалится тогда перед Богом, перед самим собой, перед другими людьми своими белыми и незапятнанными одеж¬дами, но этому ангелоподобию и всесовершенству он поистине обязан своей трусостью, своей регрессией. И вместо того чтоб стыдиться, он становится перед храмом и глаголет: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие лю-ди...» (Лука, 18, 9-14).
Такой человек мнит, будто он праведен, так как знает, что Неправедно, и сторонится этого. Но оно никогда не было кон¬кретным содержанием его жизни, и он не знает, от чего ему нужно спасаться. Лишь частичную гарантию дают и слова апокифа: «Человек, если ведаешь, что делаешь, ты блажен, если же не ведаешь, проклят». Человек, знающий, что он делает, когда творит зло, имеет шанс на блаженство, но поначалу он в аду. Ибо творимое зло, даже творимое сознательно, остается злом. Если же человек не становится на этот путь, не совершает этого шага, то это может оказаться душевной регрессией, отступлени¬ем во внутреннем развитии, инфантильной трусостью. Тот, кто мнит, будто с помощью слов апокрифа, «ведающего деяния», он может уберечься от греха или от него спастись, заблуждается, ведь он скорее утопает в грехах. Но тут же мы имеем дело с та¬ким парадоксом, который является ужасающе шокирующим для нашего привычного чувствования. Церкви, однако, это ведомо, когда она (в литургии в ночь Воскресения) говорит о felix culра праотцев. Не впади они в грехи, то не было бы felix culpa, повлекшей за собой еще большее чудо спасения. Тем не менее зло остается злом. Не ос-тается ничего иного, как смириться с этой парадоксальной мыслью.
Сами того не желая, как люди мы поставлены в ситуации, когда «principia» впутывают нас в нечто, из чего выпутываться предоставлено нам самим. Иногда с помощью Божией нам указан ясный путь, но иной раз возникает чувство, будто мы оставлены всеми добрыми духами. В критических ситуациях герой всегда те¬ряет свое оружие; и в такой момент, как перед смертью, мы стал¬киваемся с голым фактом, не ведая, как мы к тому пришли. Ты¬сячи сплетений судеб неожиданно приводят к такому положе¬нию. Символически это представлено борьбой Якова с ангелом. Тогда человеку не остается ничего иного, как постоять за себя самого. Это ситуации, где требуется реагировать целиком. И мо¬жет статься, что тут не удержишься за параграфы предзаданного морального закона. Тут начина-ется самая что ни на есть лич¬ностная этика: в серьезнейшем столкновении с абсолютным, в прокладывании пути, который осуждают общепринятые парагра¬фы морали и хранители закона. И все же человек чует, что он никогда не был так верен своей глубиннейшей сущности и при¬званию, а тем самым и абсолютному, ибо только он и Всеведающий одновременно смотрят на конкретную ситуацию изнутри, тогда как судящие и осуждающие видят ее лишь извне.
Есть известная история о сыне, ставшем совершеннолетним. Отец сказал ему: «Теперь тебе уже двадцать. Обычные люди держатся Библии и того, что говорит проповедник. А для разум¬нейших есть и свод уголовных законов». Иными словами, ты стоишь между «официальной» религиозной моралью и моралью публичной. Там же, где с ними сталкивается собственная со¬весть, там рождается личностное, этическое решение, с сознани¬ем творческой свободы — следовать моральному закону или нет. Например, я могу попасть в положение, когда я — чтобы сохра¬нить врачебную тайну — должен лгать. И было бы суетно пу¬гаться этого, произнося речи о собственной морали. К черту такое самопочитание.
Я высказал все это, чтобы прояснить свою практическую по¬зицию. Я вижу свою задачу не в философских дискуссиях. Для меня речь идет о практических вещах. Конечно, философская сторона дела для мня тоже не лишена интереса, но так и собаку за печь не заманишь. Реальность добра и зла заключается в ве¬щах, в ситуациях, которые набрасываются на тебя и овладевают тобой, в которых утопаешь с головой, когда положение делается conspectu mortis, когда речь идет о жизни и смерти. То, что мне достается во всей силе и интенсивности, то переживается мной как нечто нуминозное, обозначу ли я его как божеское, дьяволь¬ское или судьбоносное. Тогда я сталкиваюсь с чем-то сильней¬шим, непреодолимым. Трудность заключается в следующем: мы имеем обыкновение обмысливать эти проблемы до полной ясности, до «дважды два — четыре». Но на практике-то так не получается, мы не приходим к такому принципиальному решению. И желать этого было бы заблуждением. Тут есть сходство с зако¬нами природы, каковые, как мы признаем это, действуют повсе¬местно. В обычной морали все в точности, как в класси-ческой физике: тут статистические истина и мудрость. Сегодняшний физик хоть и знает, что каузальность имеет статистическую ис¬тинность, но в практическом случае он всегда спрашивает о дей¬ствующем для данного случая законе. Сходным образом проис¬ходит и в области нравственности. Не, стоит соблазняться мыс¬лью, будто тобой сказано нечто абсолютно значимое, когда ты судишь о практическом случае: это добро, это зло. Конечно, мы часто должны судить — этого не избежать. Возможно, мы даже высказываем при этом истину, попадаем «в десятку». Но считать наше суждение окончательным было бы нелепо, ибо мы тог¬да желали бы уподобиться Господу Богу.
Даже тому, кто совершает какое-либо действие, часто не видны его глубинные моральные побуждения, сумма сознатель¬ных и бессознательных мотивов, лежащих в его основании, и уже тем более при суждении о действии другого, воспринятом извне, а не в его глубинном бытии. Кант с полным правом тре¬бовал, чтобы индивид и общество продвинулись от «этики дел» к «этике принципов». В последнем и глубочайшем основании лишь Бог способен видеть целиком те принципы, которые стоят за совершаемым делом. А поэтому наши суждения о добре или зле in concrete должны быть всегда осмотрительны и гипотетич¬ны, а не столь аподиктичны, словно мы способны узреть послед¬ние основания. Взгляды на мораль зачастую так же расходятся, как представления о лакомстве у нас и эскимосов.
Меня могут упрекнуть в том, что моя позиция является че¬ресчур эмпирической, но это и требуется, чтобы найти решение. Когда мы наблюдаем, как люди сталкиваются с одной и той же этически значимой ситуацией, то возникает своеобразный двой¬ной эффект: неожиданно делаются видны обе стороны. Эти лю¬ди замечают не только свою моральную неполноценность, но ав¬томатически и свою лучшую сторону. Они с полным правом го¬ворят: «Я все-таки не настолько плох». Противопоставить чело¬веку его тень — значит показать ему светлую сторону. Испытав это однажды, обнаружив себя между противоположностями, че¬ловек неизбежно ощущает и собственную са-мость. Тот, кто вос¬принимает одновременно свою тень и свой свет, видит себя с двух сторон, а тем самым занимает середину.
В этом тайна Востока: созерцание противоположностей учит восточного человека видеть характеристики майи. Она наделяет действительность характером иллюзии. За противоположностя¬ми и в противоположностях явлена сама действительность, види¬мая и охватываемая целым. Это целое индиец называет Атманом. Самосознание позволяет нам сказать: «Я есмь тот, кто го¬ворит добро и зло» или еще лучше: «Я есмь тот, через коего го¬ворится доброе ли, злое ли. Тот, кто во мне, говорящий principia, пользуется мною для их выражения. Он говорит через ме¬ня». Это соответствует тому, что восточный человек называет Атманом, тем, что, образно говоря, «дышит насквозь» (atmet durch). Но не только сквозь меня, но и сквозь все, иначе говоря, это не только индивидуальный Атман, но и Атман-Пуруша, все¬общий Атман, Дух, который все пронизывает. В немецком языке мы используем для него слово «Selbst», «самость», в противопо¬ложность малому «я». Из сказанного ясно, что эта самость не есть лишь нечто более сознательное или выше вознесенное «Я», что напрашивается в таких выражениях, как «самосознатель¬ное», «самостоятельное» и т.д. То, что именуется здесь «самос¬тью», пребывает не только во мне, но во всем, как Атман, как Дао. Это психическая тотальность.
Упреки в том, что я тем самым сотворил имманентного Бога, некий «эрзац Бога», проистекают из недоразумения. Я эмпирик и как таковой могу доказать существование высшей целостности, доказать эмпирически. Эта высшая целостность переживается сознанием как нуминозная, как tremendum et fascinosum. Как эмпирика меня интересует только характер переживания этой высшей целостности, которая в себе, онтически, является indescritibile . Эта «самость» никогда и нигде не занимает места Бо¬га, но является, наверное, сосудом для милости Божией. Такие недоразумения проистекают из предположения, будто я иррелигиозный, в Бога не верующий, коему следовало бы просто ука¬зать путь к вере.
И в индийской духовной истории не раз заявляли о себе подходы, в которых Атман не отождествлялся монистически с Брахманом (например, у Рамануджи в противоположность Шанкаре или в Бхакти-йоге), и Ауробиндй полагает, что индиец се¬годня настолько поднялся вверх от ступени бессознательного к сознательности, что уже не признает за абсолютом характера просто бессознательной, аперсональной мировой силы. Но это уже не чисто эмпирические вопросы. Как эмпирик, я могу по крайней мере констатировать, что и восточный и западный чело¬век поднимаются через переживание Атмана, «самости», высшей Целостности над игрой майи или противоположностей. Они знают, что тьма и свет создают мир. Я могу совладать с этой противоположностью путем созерцания обоих, освобождения от них, прихождения в центр. Лишь тут я не подлежу власти этих противоположностей.
У нас неверный образ Востока. Оттуда до нас дошел шутливый вопрос: кому дольше идти к освобождению — тому, кто любит Бога, или тому, кто Бога ненавидит? Поначалу ожидаешь ответа, что несравненно дольше требуется идти тому, кто Бога ненавидит. Но индус говорит: если он любит Бога, то семь лет если ненавидит — только три. Ведь если он ненавидит Бога, то куда больше о нем думает! Такая вот утонченная бессовестность! Но вопрос этот абсолютно правилен, причем в том самом виде как он замыслен. Такого рода шутливый вопрос ставится скорее перед образованной публикой, чем перед крестьянином.
Эта история напомнила о наблюдении, сделанном мной на Цейлоне. Там я видел, как два крестьянина со своими повозками встретились в узком переулке. Подумайте, что произошло бы здесь, в Швейцарии, где мы так изобретательны на брань! Там же произошло следующее: они поклонились друг другу и сказа¬ли: «Преходящая помеха. Без души (анатман)». Иначе говоря, эта помеха имеет место лишь вовне, в пространстве майи, а не в пространстве подлинной действительности — туда она не прони¬кает, там она не Оставляет следа. Можно было бы подумать, что нечто подобное у столь простых людей выглядит почти неверо¬ятным. Перед подобным останавливаешься в изумлении. Но для тамошних людей это нечто само собой разумеющееся. То же са¬мое пережил Рихард Вильгельм: он видел двух поспоривших мальчишек-рикш. Словесное сражение было ужасающим, Виль¬гельм думал, что сейчас в ход пойдут кулаки, а то и кровь по¬льется. Но вот один из них вскакивает, движется на другого, но при этом проходит мимо, толкает колесо его повозки — этим разрешается ссора. Я сам видел мальчишек, надвигающихся друг на друга с кулаками, только кулаки останавливались за па¬ру сантиметров до лица другого, повисали в воздухе — ни один из них не причинил вреда другому. Это результат воспитания каждого из тех мальчишек — на Цейлоне все еще властвует древний буддизм. Таково моральное воспитание, ставшее при¬вычкой, тут нет никакой их заслуги.
А теперь, дамы и господа, есть ли у вас еще вопросы? (Был задан во-прос о «дьяволе», о его особой, соответствующей наше¬му времени реальности, поскольку у всякой эпохи свой дьявол.)
Дьявол нашего времени поистине ужасен! Если посмотреть на наше нынешнее положение, то трудно предвидеть, что еще может произойти. Развитие будет идти дальше столь же принудитель¬но, все божественные силы творения попадут постепенно в руки человека. Чудовищное свершилось путем расщепления атомного ядра, чудовищная власть досталась людям. Когда Оппенгеймер увидел первое испытание атомной бомбы, то ему вспомнились слова Бхагавадшты: «Ярче тысячи солнц». Связующие мир си¬лы очутились в руках человеческих, а люди способны дойти и до идеи об искусственном солнце. Причем речь идет о силах, ко-торые сами по себе не злы, но в людских руках они становятся страшными орудиями, в руках у злых людей. Разве это зло не является действительностью, переживаемой нами, выходящей на первый план в нашем реальном мире? Зло — это чудовищная действительность! И оно пребывает в жизни каждого индивида. И если мы желаем видеть принцип зла как действительный, то мы можем назвать его «дьяволом». Лично мне нелегко считать верной идею зла как privatio boni .
(Один практический вопрос: что должен делать психотера¬певт? Дол-жен ли он указывать пациенту, как тому избежать зла, либо он должен принудить пациента самому искать путь?)
Вы вводите меня в соблазн — дать некое правило. Но я луч¬ше дам такой совет: делайте так, делайте и эдак, действуйте, как терапевт, исходя не из неких априори, но прислушивайтесь к от¬дельному случаю, к требованиям конкретной ситуации. Вот ва¬ше единственное априори. Например, пациент может быть на¬столько бессознателен, что он не способен занять никакой пози¬ции относительно своих проблем. Такой пациент, подобно пси¬хотику, еще отождествляет себя со своим бессознательным и ско¬рее примет врача за безумного, нежели осознает свою внутрен¬нюю ситуацию. Попробуйте-ка сказать совершенно бессознатель¬ной матери — Кали Дурга, — считающей себя лучшей матерью в мире, что на ее совести невроз старшей дочери и неудачный брак младшей, — и вас ждет нечто! И прежде всего пациентке вы не по-можете. Сначала нечто должно произрасти изнутри нее самой. Другой пациент достиг известной сознательности, он ждет от вас каких-то ориентиров. Тогда было бы большой ошиб¬кой не дать ему знать вашу позицию. Должно говорить в верный момент, в верном месте и верное.
Нельзя подходить к пациенту как к какому-то подчиненному существу, лежащему на кушетке, над коим вы возвышаетесь как Бог и сверху вниз наделяете его своим словом. Нужно также из¬бегать всего, что может выступать как внушение болезни. Пациент и без того имеет эту тенденцию, он охотно бежит в этом на¬правлении, в болезнь: «...теперь можно сдаться, теперь можно прилечь, я ведь совсем болен...» Болезнь — это тоже своего рода разрешение жизненных проблем: «Я ведь нынче болен, пусть док¬тор мне поможет!» Как терапевт, я не должен быть наивным. Па¬циентов, если только они действительно не прикованы к постели, нужно рассматривать как нормальных людей, можно даже ска-зать, как партнеров. Это служит здоровым основанием для даль¬нейшего лечения. Ко мне часто приходят люди в ожидании, что я вот-вот совершу медицинское чудодейство. А когда я обращаюсь с ними как с нормальными людьми и веду себя как нормальный че¬ловек, они разочаро-вываются. Один пациент, лежа на кушетке в какой-то другой приемной, имел дело лишь с «молчаливым бо¬гом». Когда я стал с ним разговаривать, он в изумлении, чуть ли не в ужасе заявил: «Но вы же выказываете аффекты, вы да¬же свое мнение выказываете!» Конечно, у меня есть аффекты, и я их выказываю. Нет ничего важнее, чем принимать другого че¬ловека как человека, а тем самым находить соответствующий его особенностям способ лечения.
Поэтому я говорю молодым терапевтам: учитесь, познавайте все и самым наилучшим образом — а потом, когда приходите к пациенту, забудьте обо всем. Ведь и хорошим хирургом не ста¬нет тот, кто досконально выучил учебник. Но перед нами сегод¬ня возникает настоящая опасность — вся действительность заме¬щается словами. Это ведет к ужасающему отсутствию инстинкта у современного, в особенности у городского, человека. Он ли¬шен контакта с растущей, живущей, дышащей природой. О кро¬лике или корове знают только по иллюстрациям, энциклопеди¬ям, киноэкрану и думают, будто их действительно знают, а по¬том дивятся тому, что в стойле «пахнет», ведь об этом в энцик¬лопедии ничего не написано. Подобна этому и опасность того, что страждущему человеку терапевт торопится поставить меди¬цинский диагноз. Считается, что самое важное сделано, если знают, что данная болезнь описана в семнадцатой главе такого-то автора. Несчастный пациент может страдать дальше.
Иногда говорят об «осиливании зла». Но есть ли у нас та «сила», чтобы «осиливать»? Стоит помнить о том, что «добро» и «зло» поначалу даны в нашем суждении в определенной ситуа¬ции, либо, иначе говоря, что некие принципы завладели нашими суждениями. Зачастую тогда об осиливании зла и речи быть не может, поскольку мы находимся в несвободном положении, в апории, т. е. что бы мы ни выбрали — все дурно. Важно почув¬ствовать, что мы оказались в нуминозной ситуации, окруженные Богом со всех сторон, — он может побуждать и к тому и к ино¬му, да и делает это. В Ветхом завете тому достаточно примеров. Или вспомним о Терезе Авильской, с которой зло приключилось во время путешествий. Карета развалилась на части при переез¬де через небольшую речку, она упала в холодную воду. «Гос¬подь, как ты это позволил?» — «Да, так я обращаюсь с моими друзьями». — «Так вот почему их у тебя так мало». Тереза поставлена в ситуацию, когда она не знает, откуда к ней подсту¬пает зло — в данном случае физическое, — как ей его «класси-фицировать», но она чувствует даже тут непосредственное при¬сутствие Бога. Именно так вступают в действие «principia», «из¬начальные силы»: они помещают человека в нуминозную ситуа¬цию, для которой он не находит решения чисто рационального порядка. Человек чувствует себя не «деятелем» и властелином ситуации, ибо «деятелем» в такой ситуации ощущается Господь. Никто не в силах предвидеть, чем она разрешится, мы часто да¬же не можем сказать, как решается проблема добра и зла в такой ситуации. Мы предоставлены здесь высшей власти.
Если с такого рода проблемой я столкнусь практически, при анализе, то, наверное, скажу: так, теперь немного спокойно подождем и посмотрим, какие, например, сны обнаружатся и не вмешаются ли высшие силы — бо-лезнью, смертью ли, — но во всяком случае теперь нельзя самому решать. Вы и я — мы ведь не Господь Бог.
Иначе говоря, нужно быть предельно внимательным при до¬ведении до сознания пациента его тени, чтобы бессознательное не сыграло в шутку так, что до настоящего столкновения с те¬нью дело не дойдет. Возможно, пациент на мгновение заметит темноту в себе самом, но в тот же миг скажет себе: все не так уж плохо, так, пустяки... Либо пациент пересолит с раскаянием — ведь это так чудесно, так «красиво каяться», наслаждаться им, как пуховой постелью холодным зимним утром, когда нужно Подниматься. Такая нечестность с самим собой, такое нежелание видеть препятствует встрече с тенью. По мере роста сознатель¬ности в свет вступают также доброе и положительное. Мы долж¬ны считаться и с той опасностью, которая заключается в маниа¬кальном стремлении к таким аффектам, как раскаяние, меланхолия и т. д., они ведь искусительны. До самомнения могут ведь дойти, например, и потому, что так прекрасно каются. Потому люди любят театральность, фильмы, проповеди, трогающие их до слез, они наслаждаются собственной трогательностью.
По ходу нашей беседы однажды встретилось слово «эзотерический». Говорят, например, что психология бессознательного ведет к эзотерической этике. С таким словом следует быть осторожным. Эзотерика — это ведь равно тайная наука. Но подлин¬ных тайн мы не знаем, их и так называемые эзотеристы не веда¬ют. Эзотеристы, по крайней мере прежде, должны были не выда¬вать своих тайн. Но истинную тайну и невозможно выдать. С на¬стоящими тайнами и «эзотерическим заниматься» нельзя именно потому, что они неведомы. Так называемые эзотерические таинства суть на деле искусственные тайны, а не действительные. У человека есть потребность иметь тайны, а так как о подлинных тайнах он не имеет ни малейшего представления, то создает себе искусственные. Подлинные же тайны нападают на него из глу¬бины бессознательного, так что он иной раз то выдает, что дол жен был хранить втайне. Уже поэтому мы вновь обнаруживаем нуминозный характер лежащей в основании действительности. Не мы владеем тайнами, действительные тайны владеют нами.
1. УГРОЗА ИНДИВИДУУМУ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Людей всегда занимал вопрос: «Что принесет будущее?», — но занимал не всегда в равной степени. В исторической перспективе чаще во времена физических, политических, экономических духовных бедствий они в тревожной надежде направляли свой взгляд в будущее и создавали предчувствия, утопии и апокалипсические видения. Вспомним о веке Августа — начале христи¬анского Эона с его хилиастическими ожиданиями либо о метаморфозах западного духа, сопровождавших конец первого христианского тысячелетия. Сегодня мы живем накануне завершения второго тысячелетия, во времена апокалиптических предчув¬ствий всемирного разрушения. Каков смысл той трещины, кото¬рая отчетливо предстает в виде железного занавеса, разделивше¬го человечество на две половины? Что произойдет с нашей куль¬турой, с нашим человеческим существованием вообще, если нач¬нут рваться водородные бомбы? Либо если духовный и мораль¬ный мрак государственного абсолютизма распространится по всей Европе?
У нас нет ни малейшего повода недооценивать эту угрозу. По всему западному миру уже имеются подрывные меньшинства с заготовленными для поджога факелами. Они даже пользуются защитой нашего права и нашего гуманизма, а потому на пути у этих идей стоит лишь критический разум благоразумного и духовно стабильного слоя населения. Не стоит переоценивать его мощь. Она изменчива, находится в зависимости от национально¬го темперамента, страны, даже региона с его системой обществен¬ного воспитания и образования и прежде всего от воздействия се-рьезных факторов политической и экономической природы. Верхняя граница этого слоя по самым оптимистичным оценкам и на основе опыта голосования лежит где-то возле 60% от числа избирателей. Тем самым не опровергается несколько более пес¬симистичный взгляд, поскольку дар разума и критического раз¬мышления вовсе не является непременным свойством человека, и даже там, где они имеются в наличии, у них нет твердости и ус¬тойчивости - как правило, тем более, чем обширнее рассматри¬ваемая политическая группа. Масса подавляет еще возможную у каждого по отдельности способность трезво видеть и размыш¬лять, она принудительно влечет к доктринерской и авторитар¬ной тирании, стоит хоть чуть ослабнуть правовому государству.
Разумная аргументация возможна и перспективна лишь до тех пор, пока эмоции не превысили некоторой критической для данной ситуации точки. Стоит температуре аффектов превзойти этот градус, и действенность разума отказывает, на его место приходят лозунги и химерические желания, иными словами, род химерической одержимости, которая, разрастаясь, производит психическую эпидемию. В этом состоянии приобретают значи¬мость те элементы населения, которые раньше, под властью разума, влекли асоциальное и едва терпимое существование. Подобные индивиды вовсе не представляют собой редкого курье¬за, обнаруживаемого разве что в тюрьмах и сумасшедших до¬мах. На всякого явно душевнобольного, по моей оценке, прихо¬дится как минимум с десяток латентных случаев. При видимой нормальности их воззрения и поведение находятся под влиянием бессознательных болезнетворных и извращенных сил, хотя до прорыва последних дело чаще всего не доходит. Никакая меди¬цинская статистика по понятным причинам не даст нам справки относительно частоты латентных психозов. Но даже если их чис¬ло меньше десяти на каждое явное душевное заболевание и пре¬ступление, то сравнительная незначительность в процентном отношении к числу всего населения перевешивается особой опас¬ностью подобных индивидов. Их душевное состояние соответст¬вует как раз коллективному возбуждению группы, которой вла¬деют аффективные предрассудки и фантастические желания. В такой среде они оказываются самыми приспособленными, тут они чувствуют себя как дома. Ведь им по собственному опыту знаком язык подобных состояний, они умеют с ними обходиться. Взывающие к коллективному неразумию, исполненные фанатич¬ной злобы, химерические идеи падают на плодородную почву: здесь говорят те мотивы, поднимается та злоба, которые дрем¬лют у нормального человека под покровом разума и благомыслия. Хотя число таких индивидов ничтожно в сравнении со всем населением, они опасны как источник заразы, а именно по той причине, что так называемый нормальный человек располагает лишь весьма ограниченным самопознанием.
«Самопознание» обычно путают со знанием собственной соз-нательной личности, своего «Я». Всякий, у кого есть сознание «Я», полагает само собой разумеющимся, будто он себя знает. Однако сознанию «Я» ведомы только его же содержания, но ни¬как не бессознательное. Человек путает познание самого себя с тем, что в среднем известно о нем в его социальном окружении. Действительное его психическое состояние остается по большей части сокрытым. В этом отношении душа подобна телу: неспециа¬листу тоже очень мало известно о физиологических и анатоми¬ческих структурах, хотя ими и в них он живет. Требуются спе-циальные познания, чтобы довести до «Я» хотя бы уже извест¬ное, не говоря уж о неведомом.
То, что обычно называется «познанием себя», есть по боль¬шей части ограниченное и зависимое от социальных факторов знание о происходящем в человеческой душе. Здесь мы вновь и вновь сталкиваемся с предрассудками (мол, такого «у нас», «в нашей семье», в ближайшем либо далеком окружении не быва¬ет); нередки также иллюзорные предположения по поводу яко¬бы имеющихся свойств, которые, однако, служат лишь сокры¬тию действительного положения вещей.
Именно эта широко простирающаяся область бессознательного недос-тижима для критики и контроля сознания; здесь мы явно беззащитны перед лицом возможного влияния и психического заражения. Против психической заразы, как и против любых других опасностей, мы можем защищаться лишь в том случае, если осознаем, где, когда и как на нас нападают. В случае самопознания речь идет о постижении индивидуального состояния, поэтому теория дает здесь очень мало. Чем выше воздвигается притязание на всеобщую значимость, тем меньше теория отдает должное индивидуальному положению дел. Основанная на опыте теория по необходимости является статистической, т.е. она говорит о какой-то идеальной середине, погашая исключе¬ния сверху и снизу, замещая их абстрактным средним. Это сред¬нее имеет свое значение, но только в действительности оно как таковое не встречается. В теории оно тем не менее признается неоспоримым и фундаментальным фактом. Исключения по одну или другую сторону вообще не предстают в конечном результа¬те, они снимают друг друга. Скажем, если я получу в результате вычисления средний размер камня в 145 граммов, то это мне немного скажет о реальном содержимом слоя гравия. Тот, кто на основании такого расчета полагает, будто с первого раза вынет из этого слоя гальку весом 145 граммов, наверняка ошибается. Может случиться, что он, несмотря на все поиски, не найдет ни одного камня весом ровно 145 граммов. Статистический метод дает нам идеальное среднее, а не картину эмпирической действи¬тельности. Подобный метод улавливает неоспоримо существую¬щий аспект реальности, но он может полностью исказить факти-ческую истину. В особенности это свойственно теориям, опираю¬щимся на статистику. Факты действительности индивидуальны; если несколько утрировать, то можно было бы сказать, что нас¬тоящая картина действи-тельности вообще состоит из сплошных исключений, а тем самым абсолют-ным принципом, господствую¬щим в реальности, оказывается иррегу-лярность.
Об этом следует помнить, когда речь заходит о теории, ко¬торая Должна служить руководством для самопознания. Само¬познание просто невозможно в соответствии с подобными пред¬посылками, поскольку предметом познания тут выступает инди¬вид — относительное исключение из правил, иррегулярность. Не всеобщее и повторяющееся, а уникальное — вот что отличает индивидуума. Его следует понимать не как повторяющуюся еди¬ницу, но как неповторимую единственность, которая в конечном счете не доступна ни для сравнения, ни для познания. Человека можно и должно описывать и статистически, иначе о нем вообще, не высказать ничего всеобщего. В этих целях его можно тракто¬вать и как сопоставимую единицу. Так появляются общезначи¬мые антропология и психология с абстрактно - усредненным обра¬зом человека. Только из этого образа выпали все индивидуаль¬ные черты, которые важнее всего для понимания. Когда я хочу понять отдельного человека, то я должен отложить в сторону все: научные познания о среднем человеке, отказаться от всякой теории, чтобы смотреть всякий раз по-новому и без предубеждений. К задаче понимания я могу приступать лишь vacua et libera mente , тогда как научное познание требует всевозможных знаний во всеобщей форме.
Идет ли речь о понимании стоящего передо мной индивиду¬ума или о самопознании, в обоих случаях я должен повернуться спиной к теоретическим предпосылкам, ясно отдавая себе отчет в том, что научное познание тут умолкает. Однако последнее не только пользуется всеобщим почитанием, оно вообще служит современному человеку в качестве единственного духовного авторитета. Понимание другого индивида требует, так сказать, crimen laese maiestatis , а именно игнорирования научного позна¬ния. Такой отказ означает нелегкую жертву: можем ли мы изба¬виться от научного подхода, не утратив при этом чувства ответ-ственности? Если психолог одновременно является еще и вра¬чом, стремящимся не только к научному упорядочению феноме¬нов, но и к человеческому пониманию своего пациента, ему пря¬мо угрожает коллизия долга: он оказывается между двух проти¬востоящих друг другу установок, между познанием и понимани¬ем. В терминах «или-или» этот конфликт не решается, тут тре¬буется «двухколейное» мышление: мыслить одно, не забывая при этом и другого.
В силу того что очевидное достоинство познания выступает в то же самое время как специфический недостаток понимания, возникает риск парадокса. С одной стороны, для науки индиви¬дуум — это лишь абстрактная, бесконечно повторимая единица, обозначаемая любой буквой; с другой — для понимания уни¬кальный индивид является как раз благороднейшим и единственно реальным предметом, отодвигающим на второй план все эти милые научному сердцу закономерности и регулярности. Данное противоречие становится проблемой прежде всего для врача. По¬лученное им естественнонаучное образование оснащает его ста¬тистическими истинами, но перед ним стоит задача излечения больного, который требует индивидуального понимания, особенно в случае психических страданий. Чем схематичнее избранное им лечение, тем сильнее будет оправданное сопротивление со стороны пациента, тем меньше шансов на исцеление. Психотера¬певт nolens volens должен принимать во внимание индивидуаль¬ность пациента и в соответствии с ней вносить изменения в метод лечения. Сегодня во всех областях медицины приходят к призна¬нию того, что задачей врача является лечение больного человека, а не абстрактной болезни, одинаковой у всех и каждого.
Сказанное по поводу медицины представляет собой лишь от¬дельный случай общей проблемы воспитания и образования. Опирающееся только на естественные науки образование имеет своим фундаментом статистические истины и абстрактные позна¬ния. Тем самым образование служит передаче нереалистичного рационалистического мировоззрения, для которого индивидуаль¬ный случай, будучи просто пограничным феноменом, не играет никакой роли. Но индивидуум есть иррациональная данность и как таковая представляет собой особого рода действительность, а именно действительность конкретного человека, противопо¬ложную идеальному или нормальному человеку, к которому от¬носятся суждения науки. Естественные науки к тому же склонны представлять результаты своих исследований таким образом, словно они получены вообще без человеческого вмешательства. Неизбежное воздействие психики остается невидимкой. (Исклю¬чением из этого правила является современная физика, признаю¬щая зависимость наблюдаемого от наблюдателя.) Тем самым ес-тествознание дает картину мира, из которой как бы исключена человеческая психика. Отличие естествознания от Humaniora здесь очевидно.
Ущерб от влияния естственнонаучных постулатов претерпе¬вает не только психика, но и сам человек: все индивидуальное подвергается нивелировке и пребывает в безвестности, так как образ реальности искажается идеей среднестатистического. Пси¬хологическое воздействие статистической картины мира не сле¬дует недооценивать: она вытесняет индивидуальное ради ано¬нимных единиц, скученных в массы. На место конкретных инди¬видуальных существ приходят названия организаций, причем высшее место занимает понятие государства как принципа поли-тической реальности. Моральная ответственность индивида заме¬щается государственным интересом, на место моральных и духовных особенностей индивидов становятся общественное благосостояние и повышение жизненного уровня. Цель и смысл жиз¬ни каждого (а только она является подлинной жизнью!) заклю¬чаются уже не в индивидуальном развитии, а в государственном интересе, который извне чеканит человека, подчиняет его аб¬страктным понятиям, вбирающим в себя вообще всю жизнь. Ин¬дивид все меньше способен принимать моральное решение, на¬правлять свою жизнь, им управляют как социальной единицей, каковую кормят, одевают, воспитывают, которой дают соответ¬ствующее жилье, которую развлекают, причем идеальный мас¬штаб тут задан благоденствием и довольством мас-сы. Правители сами являются точно такими же социальными единицами, от уп¬равляемых они отличаются лишь тем, что предстают как специа-лизированные носители государственной доктрины. Ей не нуж¬ны способные к критическому мышлению личности, доктрине требуются просто специалисты, которые ни на что не способны за пределами своей специальности. Чему учат и чему учатся — это определяется государственным интересом.
Всемогущая государственная доктрина, в свою очередь, на¬правляется всевластными высшими правительственными чина¬ми; это они говорят от имени государственного интереса. Тот, кто путем выборов или с помощью произвола взбирается на эти места, уже не знает над собой никакого принуждения, ведь он сам теперь стал государственным интересом и действует по лич¬ному усмотрению. Вместе с Людовиком XIV он может сказать: «L'Etat c'est moi» . Тем самым он оказывается единственным или одним из немногих индивидов, которые могут свободно употреб¬лять свою индивидуальность. Если только они еще способны от¬личать ее от государственной доктрины, скорее они являются ра¬бами собственной фикции. Но такая односторонность психологи¬чески компенсируется бессознательными подрывными тенденци¬ями. Рабство и бунт пребывают в неразрывной связи друг с другом. Властолюбие и недоверие духу пронизывают весь общест¬венный организм снизу доверху. Кроме того, для компенсации своей хаотичной бесформенности масса творит себе «фюреров», они неизбежно впадают в инфляцию собственного «Я», чему история дает немало примеров.
Развитие такого рода логически неизбежно с момента омассовления индивида. В гигантских скоплениях человеческих масс индивидуальность и без того исчезает, а к этому добавляется в качестве одного из главных факторов омассовления естественно¬научный рационализм. Он грабит индивидуальную жизнь, ли¬шает ее фундамента, а тем самым и ее достоинства, ибо как со¬циальная единица человек утрачивает свою индивидуальность и превращается в абстрактный статистический номер в организа¬ции. Теперь он играет лишь роль бесконечно малой и взаимоза-меняемой единицы. Но если смотреть извне и рационалистичес¬ки, то он таковым и является. Под этим углом зрения было бы даже смехотворно рассуждать о ценности или внутреннем смыс¬ле индивидуума. Как вообще можно говорить о достоинстве от¬дельной человеческой жизни — ведь этому противостоит очевид¬ная истина науки.
С этой точки зрения индивидуум действительно имеет исчезающе малое значение, и тот, кто отстаивает нечто другое, обна¬руживает нехватку аргументов. Полагая важным себя самого, свою семью, ценимых им близких или знакомых, он имеет дело с довольно-таки комичной субъективностью своих ощущений. Что такое эти немногие в сравнении с десятками и сотнями ты¬сяч, с миллионами? Это напоминает мне аргумент моего глубо¬комысленного друга, с которым мы оказались в насчитывавшей десятки тысяч толпе: «Вот самое убедительное доказательство против веры в бессмертие души: все они жаждут бессмертия».
Чем больше масса, тем недостойнее индивид. Но там, где он испытывает превозмогающее чувство собственной малости и пус¬тоты, где он утрачивает смысл жизни (пока тот не исчерпывает¬ся общественным благосостоянием и высоким жизненным уров¬нем), там он уже на пути к государственному рабству. Сам того не ведая и не желая, он прокладывает дорогу к этому рабству. Кто видит только внешнее, только большие числа, тому уже не¬чем обороняться от подобных свидетельств своих чувств и разу¬ма. Именно этим и занят сегодня весь мир: в восхищении и пре-клонении перед статистическими истинами и большими числами всякий ежедневно убеждается в ничтожности и бессилии отдель¬ной личности, пока она не представляет и не олицетворяет ка¬кой-нибудь массовой организации. И наоборот, любой индивид хоть чуть видимый на сцене мира, чей голос внятен широкому кругу, кажется некритичной публике носителем массового движения и общественного мнения. Только на этом основании его приемлют или ведут с ним борьбу. Массовое внушение тут обычно преобладает, а потому остается неясным: является ли его послание собственным его деянием, за которое он несет личную ответственность, либо он просто функционирует как некий мегафон, передающий коллективные мнения.
В этих обстоятельствах понятны растущая неуверенность ин-дивидуальных суждений и вытекающая из нее коллективизация ответственности, которая откатывается от индивида к корпора¬ции. Индивидуум все более и более делается функцией общест¬ва, а оно принимает на себя функцию подлинного носителя жиз¬ни, хотя само оно, если разобраться, есть не более чем идея, к примеру идея того же государства. И общество, и государство гипостазируются, делаются независимыми сущностями. Государ¬ство превращается чуть ли не в живую личность, от которой все чего-то ждут. В действительности государство представляет со¬бой лишь камуфляж для тех индивидов, которые неплохо зна¬ют, как можно с его помощью тайком манипулировать другими. Изначальная .конвенция правового государства неожиданно обо¬рачивается примитивной социальной формой, а именно комму¬низмом первобытного племени, которое подлежит автократичес¬кой власти вождя или какой-то олигархии.
2. РЕЛИГИЯ КАК КОМПЕНСАЦИЯ ОМАССОВЛЕНИЯ
Чтобы освободить от любых ограничений эту фикцию един¬ственной в своем роде государственной власти, т.е. произвола манипулирующего госу-дарством вождя, все нынешние социаль¬но-политические движения, стремя-щиеся к достижению этой це¬ли, пытаются уничтожить религию. Для превращения индивидуума в функцию государства у него нужно отнять все прочие обусловленности или зависимости. Религия означает зависи¬мость от иррационального, подчинение ему как данности, которая прямо не сводится к социальным или физическим условиям, а скорее соотносится с психическими установками индивидуума.
Разглядеть внешние условия существования можно лишь в том случае, если есть точка зрения, с которой на них смотрят. Религии дают человеку такую точку зрения или даже требуют ее от него, способствуя тем самым свободному суждению индивидуума Религии дают ему запас прочности против многообразного и неуклонного принуждения извне, перед которым пасует всякий, кто жив лишь внешним миром и не чувствует под ногами никакой почвы, кроме асфальта. Если нет никакой другой дейст¬вительности, помимо среднестатистической, то она одна наделе¬на авторитетом. Тогда она одна решает и обусловливает, тогда ей нечего противопоставить, а свободное суждение и решение тогда не просто избыточны, они и невозможны. Индивидуум принужден исполнять роль статиста, быть функцией государства или какого-нибудь другого абстрактного принципа порядка, как бы он ни назывался.
Религии учат иному авторитету, который противостоит авто¬ритетам «мира сего». Учение о божественной обусловленности человека выдвигает столь же высокие притязяния на человека, как и мир. Может случиться, что абсолютность этих притязаний настолько же отчуждает человека от мира, насколько он спосо¬бен потерять себя, поддавшись коллективной ментальности. В первом случае он может потерять свободу суждения и решения ничуть не меньше, чем во втором. К этой цели явно стремятся религии, когда они не удовлетворяются компромиссом с государ¬ством. В случае такого компромисса я вообще предложил бы го¬ворить не о религии, а о вероисповедании (в полном соответ¬ствии со значением этих слов). Вероисповедание — это испове¬дание определенных коллективных убеждений, тогда как слово «религия» выражает субъективное отношение к неким метафизи¬ческим, т.е. внемирским, факторам. Вероисповедание направле¬но по существу на внешний мир, является внутримирским делом; смысл и цель религии — отношение между индивидуумом и Бо¬гом (христианство, иудаизм, ислам) либо путь освобождения (буддизм). Из этого проистекает теперешняя этика, которая без индивидуальной ответственности перед Богом означает лишь конвенциональную мораль.
Будучи компромиссом с мирской действительностью, вероис-поведания склоняются к растущей кодификации своих воззре¬ний, учений и обычаев. Тем самым они настолько овеществляют¬ся, что на задний план отходит их подлинно религиозная сущность, а именно живое отношение, непосредственная встреча с внемирским. Вероисповедальная точка зрения мерит ценность и значимость субъективной религиозной связи масштабом передан¬ного традицией учения. Там же, где это не так сильно выражено (например, в протестантизме), там речь сразу заходит о пиетиэме, сектантстве, духовных мечтаниях и т.п., стоит кому-либо прямо сослаться на Божью волю. Вероисповедание либо образует государственную церковь, либо по меньшей мере является публичным институтом, к которому принадлежат не только ве¬рующие в узком смысле слова, но также бесчисленное число тех, кто безразличен к религии, кто принадлежит к вероисповеда¬нию, так сказать, по привычке. Различие между вероисповеда-нием и религией здесь очевидно.
Принадлежность вероисповеданию поэтому далеко не всегда является делом религии, скорее это дело общественное, не затра¬гивающее основ индивидуума. Этот фундамент определяется от¬ношением индивидуума с внемирской инстанцией, причем крите¬рием тут является не произносимое вслух исповедание, а психо¬логический факт зависимости жизни индивидуума не только от его «Я» (со всеми его мнениями), не только от социальных де¬терминант, но также от трансцендентного авторитета. Основания автономии и свободы индивидуума закладываются не одними высокими этическими правилами или ортодоксальным исповеда¬нием веры, но прежде всего эмпирическим сознанием, недву¬смысленным опытом личностного и многостороннего отношения с какой-то внемирской инстанцией, которая недоступна «миру со своим разумом».
Сказанное выше вряд ли порадует тех, кто считает себя час¬тицей массы, но ничуть не больше она годится для исповедую¬щих коллективные верования. Для первых высшим принципом мышления и деятельности оказывается государственный интерес, целям которого они преданы, тогда как индивидууму право на существование предоставляется ровно настолько, насколько он представляет собой государственную функцию. Вторые призна¬ют за государством моральные притязания, исповедуют убежде¬ние, согласно которому не только человек, но и возвышающееся над ним государство подлежит Божьей власти. В сомнительных случаях высшее решение падает на нее, а не на государственный интерес.
Я воздерживаюсь от метафизических суждений, а потому ос¬тается от-крытым вопрос: противостоит ли Богу внешний «мир», т.е. человек и природа в целом. Я могу сослаться лишь на тот факт, что психологически эти две области опыта противостоят друг другу; об этом свидетельствует не только Новый завет, но и подчеркнуто отрицательное отношение современных диктаторских режимов к религии и церкви, их приверженность атеизму и материализму.
Как социальное существо, человек не может долгое время жить без связи с обществом, а потому он способен найти дейст¬вительное оправдание собственному существованию, духовную и нравственную автономию лишь в каком-то внемирском принци¬пе. Так он может уравновесить давление внешних факторов. Не укорененный в Боге индивидуум на основании своих личных мнений не способен оказать какое бы то ни было сопротивление физическому и моральному могуществу мира. Для этого он нуж¬дается в очевидности своего внутреннего, трансцендентного опы¬та — только он мог бы защитить его от иначе неизбежного омассовления. Чисто интеллектуальный или даже чисто моральный взгляд на глупость и нравственную безответственность массового человека не поможет, это лишь некое колебание на пути к атомизации индивидуума. Тут не хватает силы религиозного убеж¬дения, поскольку держатся здесь одного разума. У диктаторско¬го государства в сравнении с разумом буржуа есть даже извест-ное преимущество, поскольку это государство заглатывает вмес¬те с индивидуумом его религиозные силы. Государство становит¬ся на место Бога — в этом отношении социалистические дикта¬туры являются религиями, а государственное рабство — род богослужения. Такое искажение, фальсификация религиозной функции вызывают, конечно, сомнения, но они тут же подавля¬ются, чтобы избегнуть конфликта с господствующим устремле¬нием к омассовлению. Как всегда, это производит сверхкомпен¬сацию, а именно фанатизм, который, в свою очередь, является мощным рычагом подавления и искоренения всякой оппозиции. Свобода слова удушается, моральная автономия жестоко уничто¬жается, причем цель освящает любые, даже самые дурные сред¬ства. Государственный интерес делается исповеданием веры, вождь или стоящий у государственного руля деятель превраща¬ется в полубога, стоящего по ту сторону добра и зла, а фанатик становится героем, мучеником, апостолом и миссионером. Есть лишь одна истина, она неприкосновенна, недоступна любой кри¬тике. Всякий, у кого остались хоть какие-то собственные мысли, есть еретик, и ему, следуя хорошо известным образцам, уготав¬ливаются малоприятные последствия. Государственную доктри¬ну аутентично может интерпретировать лишь тот, кто держит в своих руках государственную власть, а потому он толкует так, как это ему заблагорассудится.
Когда в результате омассовления индивидуум стал социаль¬ной едини-цей под каким-то порядковым номером, а государство сделалось высшим принципом, религиозная функция неизбежно вовлекается в этот водоворот. Религия есть прирожденное чело¬веку инстинктивное стремление. В ней осуществляются наблю¬дение и уяснение неких невидимых и неконтролируемых челове¬ком факторов. Проявления этого стремления можно проследить во всей духовной истории. Его целью было сохранение психи¬ческого равновесия: естественный человек имеет столь же естест¬венное знание о пересечениях его сознания с неконтролируемы¬ми сознанием факторами (будь они внешними или внутренними по происхождению). Поэтому люди с древнейших времен забо¬тились о том, чтобы всякое решение с непредсказуемыми послед¬ствиями имело подстраховку подходящими для этого мерами, ре¬лигиозными по своей природе. Незримым силам приносились жертвоприношения, произносились заговоры и молитвы, совер¬шались прочие священнодействия. Всегда и по-всюду имелись rites d'entreeet de sortie , которые для невежд в психологии — просветителей — были магией и предрассудком. Не следует не-дооценивать психологической эффективности магии. Исполне¬ние «магического» действия придает человеку чувство уверен¬ности, необходимое для решительного осуществления замысла. Такая страховка нужна и для принятия решения, поскольку оно всегда тяготится односторонностью и ощущается как рискован¬ное. Даже диктатор сопровождает свои государственные акты не одними угрозами, но также шумом празднеств. Марши, флаги, лозунги, парады и чудовищные сборища в принципе неотличимы от молельных процессий, пушечных залпов и фейерверков в честь изгнания бесов. Суггестивные демонстрации государствен¬ного могущества вызывают коллективное чувство безопас-ности. Правда, в отличие от религиозных представлений они не дают индивидууму никакой защиты против его внутреннего демонизма. Еще судорожней он цепляется за государственную власть, т.е. за массу, предается ей всей душой, ощущая собственное социальное бессилие. Подобно церкви, государство требует энтузи¬азма, жертвенности и любви, но если религии уповают на страх Божий, то диктатура уже позаботилась о терроре.
Нападки просветителей на традицию с ее чудодействием ри¬туала просто бьют мимо цели, даже не задевая главного, а имен¬но психологического воздействия. Им пользуются обе партии церковь и государство, пусть для противоположных целей. Но и в области целей есть сходства: цель религии, а именно: спасение от зла, примирение с Богом, потустороннее вознаграждение, трансформируется в посюсторонние обещания: в обещание свобо¬ды от забот о хлебе насущном, обещание справедливого рас¬пределения материальных благ, грядущего всеобщего благоден¬ствия, сокращенного рабочего дня. То, что исполнение этих обе-щаний столь же незримо, как и рай небесный, указывает лишь на еще одну аналогию с религией. От внемирской цели массы обращаются к вере в исключительно посюстороннее. Она рас¬хваливается не менее пылко, чем церковная вера, — направ¬ления противоположны, но в обоих случаях это «единственно правильная» вера.
Я не стану повторяться и перечислять все параллели между потусто-ронними и посюсторонними верованиями. Подчеркну лишь тот факт, что рационалистическая просветительская крити¬ка не может устранить естественной и от века существующей ре¬лигиозной функции. С ее помощью можно установить несостоя¬тельность той или иной вероисповедальной доктрины, даже ее высмеять. Но просветительские методы даже близко не затраги¬вают религиозной функции, которая образует фундамент всех вероисповеданий. Религия, т.е. добросовестное рассмотрение ир-рациональных факторов, души и судьбы, даже в наихудших своих формах восстает против обожествления государства и диктаторов. Naturam expellas furca tamen usque recurret . Правильно оценив ситуацию, вожди и диктаторы всячески пытаются затушевать отчетливые параллели с обожествленными цезарями. Свое фактическое всевластие они прячут за фикцией государства, что, конечно, не меняет сути дела.
Диктатуре мало бесправия индивидуума, ей нужно выбить у него почву из-под ног, отнять метафизическую основу его существования. С моральным выбором отдельного человека yже никто не считается, важнее темное движение ослепленной массы, а потому ложь сделалась единственным принципом политического действия. Государством отсюда сделаны все возможные выводы, как о том неопровержимо свидетельствует жизнь миллионов и миллионов совершенно бесправных государственных рабов.
И диктаторское государство, и вероисповедальная религиоз¬ность в особенности настаивают на идее сообщества, общности людей. Собственно говоря, это идеал коммунизма, который на¬вязывается народу до такой степени, что вызывает прямо проти¬воположный результат: вместо общности появляется разъединя¬ющее недоверие. Церковь ничуть не меньше подчеркивает идеал общности, а там, где церковь слаба, как в протестантизме, там болезненно ощущаемая утрата связей между людьми компенси¬руется надеждой или верой в «чувство общности». В такой «общности» нетрудно увидеть необходимое вспомогательное средство организации масс, но только меч этот является обоюдо¬острым. Так же как сложение нулей никогда не даст единицы, так и ценность сообщества соответствует средней духовной и мо¬ральной высоте составляющих ее индивидов. От общности нельзя ждать действия, которое выходило бы за пределы того, что ук¬ладывается в реакции на воздействие среды. Она не производит деяний, которые способны радикально и до самых оснований изменять индивидов — хоть во благо, хоть во зло. Такого измене¬ния можно ждать от личностного взаимодействия одного челове¬ка с другим, но уж никак не от коммунистических или христи¬анских массовых скрещений, которые не затрагивают внутренне¬го человека. События последнего времени ясно показывают, на¬сколько поверхностным является воздействие пропаганды общ¬ности. Этот идеал не принимает в расчет обстоятельств, не видит конкретного человека, который когда-нибудь да предъявит свои требования.
3. ЗАПАД И РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС
Такое положение в двадцатом по христианскому летоисчислению веке заставляет западный мир оглянуться на свое наследие. Римское право, сокровищница метафизически обоснованной иудео-христианской этики, идеал вечных человеческих прав безмолвно ставят перед ним пугающий вопрос: как бы остановить подобное развитие или даже повернуть его вспять? Мало толку от того, что социальную диктатуру клеймят как утопию и объявляют ее экономические принципы неразумными. Во-первых, тут Запад разговаривает сам с собой, его аргументы слышны лишь по эту сторону железного занавеса, а во-вторых, любые эконо¬мические принципы могут применяться, если только примирить¬ся с вытекающими из них жертвами. Любая социально-экономи¬ческая реформа осуществима, стоит согласиться с голодной смер¬тью трех миллионов крестьян, да еще при наличии миллионной армии бесплатной рабочей силы. Такое государство не боится никаких социальных или экономических кризисов.
Пока власть государства неприкосновенна, т.е. пока в распо¬ряжении есть хорошо откормленная и дисциплинированная поли¬цейская машина, такое государство может существовать неогра¬ниченно долгое время и даже приумножать свою власть. Несмот¬ря на мировой рынок, состояние которого в значительной мере зависит от уровня оплаты труда, оно может увеличивать число своей неоплачиваемой рабочей силы, т.е. считаясь лишь с естест¬венным ее приростом, а тем самым оставаться конкурентоспособ-ной. Настоящая опасность грозит ему только извне, от военного нападения. Но риск год от года уменьшается, поскольку и воен¬ный потенциал диктаторских государств непрерывно растет, и Запад не может позволить себе нападения, которое тут же про¬будило бы русский или китайский национализм и шовинизм, - это целиком исказило бы благое намерение.
Остается лишь одна возможность, а именно распад этого го¬сударства изнутри, предоставив его своему внутреннему разви¬тию. Поддержка извне здесь иллюзорна, если учесть имеющийся аппарат контрразведки и опасность националистической реак¬ции. К тому же в распоряжении абсолютного государства за его пределами находится целая армия фанатичных миссионеров. Приходится считаться с «пятой колонной», которой предоставляет убежище правовой порядок западных государств. В ряде стран многочисленные общины тех, кто держится подобной веры, означают и слабость государственной воли. Сходное воздействие Запада по другую сторону остается невидимым и неощути¬мым, хотя нельзя исключить существования известной оппози¬ции в народных массах на Востоке. Всегда были и есть мужест¬венные и честные люди, ненавидящие ложь и тиранию, но не нам судить, могут ли они воздействовать на массы при господст¬вующем полицейском режиме.
В этих условиях перед Западом вновь и вновь встает вопрос что мы можем сделать против такой угрозы? Хотя Запад располагает значительной экономической мощью и заметным оборонным потенциалом, это не приносит успокоения. Ведь хорошо из¬вестно, что даже лучшие пушки и сильнейшая промышленность, относительно высокий уровень жизни недостаточны для того, чтобы сдержать психическое заражение религиозным фанатиз¬мом. Люди всегда недовольны, и даже если у каждого рабочего будет по автомобилю, он ведь все равно на всю жизнь обречен быть пролетарием, а у других есть два автомобиля и на одну ванную в квартире больше.
К сожалению, на Западе по-прежнему не замечают того, что все наши призывы к идеализму и разуму, ко всем прочим поч¬тенным добродетелям повисают в воздухе, даже если призывы без обмана и полны энтузиазма. Это лишь легкий ветерок против шторма веры, какой бы чудовищной она нам ни казалась. Мы имеем дело с ситуацией, которую не одолеть аргументами разума и морали. На вызванное духом времени высвобождение сил поч¬ти не действуют разумные доводы и моральные сентенции. Иной раз слышишь слова, с которыми нельзя не согласиться: в таком случае целебным эликсиром, противоядием должна быть сильная вера (иная, не материалистическая). Основывающаяся на такой вере религия будет единственной эффективной защитой против психической заразы. В высказываниях такого рода почти всегда присутствует сослагательное наклонение («должна бы быть»), что свидетельствует о слабости или даже отсутствии убежденнос¬ти. Западу недостает не только такой объединяющей веры, спо¬собной встать на пути фанатичной идеологии; сам Запад, поро¬дивший марксистскую философию, опирается на те же самые духовные предпосылки, на сходные цели и аргументы. Церкви на Западе пользуются полнейшей свободой, но они не более пол¬ны (или пусты), чем на Востоке. У них нет заметного влияния на политику. Недостатком вероисповеданий как общественных институтов является как раз то, что они служат двум хозяевам. Они выводят самих себя из связи человека с Богом, но они же несут государственную службу, имеют обязанности перед миром, ссылаются на «Богу Богово, кесарю кесарево» и другие новоза¬ветные притчи.
Вплоть до сравнительно недавнего времени еще говорили о <Богом данной власти», но сегодня это устарело. Церкви дер¬жатся традиционных коллективных убеждений, которые у очень многих верующих не имеют фундамента собственного внутреннего опыта. Они держатся на вере без размышления —слишком уж легко потерять то, о чем начинаешь размышлять. Содержа¬ние веры сталкивается в таком случае со знанием и выясняется что иррациональность первой недорастает до разумности второ¬го. Вера не является достаточной заменой внутреннего опыта, и там, где он отсутствует, там и самая сильная вера, чудесно явив¬шись, как donum gratiae , столь же чудесно растворяется. Веру называют религиозным опытом в собственном смысле слова, но при этом не отдают отчета в том, что она в действительности представляет собой вторичный феномен. Она покоится на нашем опыте встречи с чем-то внушающим нам «pistis», т.е. доверие, преданность. У этого переживания имеется определенное содер-жание, которое можно истолковать в смысле того или иного ве-роисповедания. Но чем дальше заходит такое истолкование, тем чаще возникают беспредметные конфликты со знанием. Пред¬ставления вероисповеданий уходят в глубокую древность, про¬низаны впечатляющей мифологической символикой, которая, ес¬ли буквально передать ее словами, впадает в невыносимое про¬тиворечие со знанием. Например, воскресение Христа из мерт¬вых можно понимать не буквально, но символически, тогда воз¬можны различные трактовки, которые не вступают в конфликт со знанием и не искажают смысла этого тезиса. На это возража¬ют, говоря, что символическое понимание уничтожает надежду христиан на бессмертие. Это лишено смысла, поскольку челове¬чество задолго до христианства верило в посмертную жизнь и не нуждается в Пасхе как гаранте бессмертия. Сегодня куда боль¬ше опасность того, что слишком многие целиком отринут всю буквально понимаемую мифологию, на которой стоит церковное учение. Не лучше ли символически понимать христианские ми¬фологемы, нежели вообще их упразднять?
Пока непредвидимы последствия того, что фатальный парал¬лелизм церковной и марксистской государственных религий сде¬лается очевидным для всех и каждого. Речь идет не о простом сходстве абсолютных притязаний, выдвигаемых, с одной сторо¬ны, представителями civitas Dei , а с другой — сторонниками «божественного» государства. Моральные выводы из авторитета церкви, сделанные Игнатием Лойолой (коротко говоря, цель ос¬вящает средства), самым опасным образом предваряют ложь в качестве государственно-политического инструмента. В обоих случаях требуют безусловного подчинения и обрубают челове¬ческую свободу: одни во имя Божие, другие во имя государства, выкапывая могилу индивидууму. И без того хрупкое существо¬вание единственного носителя жизни оказывается под угрозой вопреки обещаниям одними благ идеальных, духовных, а други¬ми материальных. Многие ли способны долгое время сопротив¬ляться мудрости поговорки «лучше синица в руках, чем жу¬равль в небе»? Запад присягает на верность тому же научному и просветительскому мировоззрению с его стремлением к статисти¬ческой нивелировке всего и вся, с теми же материалистическими целями, что и вос-точная государственная религия.
Что может предложить политически и конфессионально рас¬колотый Запад современному индивидууму? К сожалению, толь¬ко многообразные пути, ведущие к той же самой цели, которая едва отличима от марксистского идеала. Не нужно долго ломать голову, чтобы понять, откуда коммунистическая идеология чер¬пает свою уверенность в том, что время работает на нее, что мир созрел для обращения в эту веру. Факты здесь говорят самым внятным языком. Закрыть глаза, стараться не видеть собствен¬ной фатальной зачарованности — это никак не поможет Западу. Тот, кто все время безусловно подчинялся коллективной вере, отдавал свое вечное право свободы, тот может с такой же некри¬тичной верой пойти в ином направлении, стоит только на место его мнимого идеализма поставить другое, «лучшее» убеждение. Что произошло в совсем недавнее время с культурным европей¬ским народом? Немцев иной раз обвиняют в том, что они успели это позабыть, хотя нет никакой уверенности в том, что подобное не могло случиться и в других странах. И если другая культур¬ная нация вдруг поддастся заразе столь же односторонней веры, то это никак не назовешь чудом. В каких странах самые боль¬шие коммунистические партии? Правда, кажутся иммунизиро¬ванными Соединенные Штаты, образующие сегодня — о quae mutatio rerum — настоящий политический хребет Западной Ев¬ропы. Сказывается отчетливое противостояние США этой зара¬зе, но как раз США ей, быть может, подвержены даже больше, чем Европа, поскольку образование и воспитание в Америке на¬ходятся под определяющим влиянием естественнонаучного мировоззрения с его статистическими истинами. У перемешанного и лишенного исторической почвы населения нет корней, а необхо¬димое как раз в таких обстоятельствах историко-гуманитарное образование прозябает в Золушках. Такие предпосылки имеются у Европы, но тут есть и обратная сторона в форме национально¬го эгоизма и парализующего скепсиса. По обе стороны Атланти¬ки господствуют материалистические и коллективистские цели, в обоих случаях недостаток того, что объемлет и выражает челове¬ка в целом, что, собственно, и ставит его в центр как меру всех вещей.
Эта идея — «человек есть мера всех вещей» — вызывает по¬всюду сильнейшее сопротивление и сомнение. Можно даже пред¬положить, Что единственным настоящим убеждением, находя¬щим сегодня всеобщее и безраздельное согласие, является убеж¬дение в ничтожности индивидуума в сравнении с большими чис¬лами. Говорится, правда, о том, что современный мир принадле¬жит человеку, что он властвует над воздухом, водой и землей, что судьбы народов в его руках. К сожалению, этот горделивый образ человеческого величия иллюзорен и опровергается совсем иной реальностью. На деле человек является рабом и жертвой тех самых машин, которые завоевали для него пространство и время. Он ими задавлен, он находится под угрозой могущества той самой военной техники, которая должна была охранять и за¬щищать его физическое существование. Духовная и моральная свобода гарантирована в малой части человеческого мира, но и ей грозят хаос, утрата всех ориентиров. В других частях света эта свобода вообще уничтожена. Наконец, если к трагическому прибавить комедию, этот властитель стихий, носитель свобод-ных решений, поклоняется воззрениям, которые наклеивают яр¬лык ничтожества на все его достоинства, высмеивают человече¬скую автономию. Все достижения и владения не сделали челове¬ка больше, напротив, они его умалили. Это самым ясным обра¬зом видно на судьбе рабочих при господстве «справедливого» распределения благ. За работу на фабрике он платит утратой личной собственности, свобода передвижения дана ему как воз¬мещение за цепи рабства на рабочем месте. У него нет никаких средств для улучшения своего положения, за исключением экс¬плуатации на изнурительной аккордной работе. А если он предъявляет какие-то духовные требования, то ему подсовывают политическую веру и мизерные профессиональные знания. Крыша над головой и каждодневная кормежка, как полезному рабочему скоту, — это, конечно, уже немало, ведь и необходимого для простейшего выживания он может со дня на день лишиться.
4. САМОПОНИМАНИЕ ИНДИВИДА
Поразительно то, что человек, очевидный инициатор, откры¬ватель, носитель этого развития, зачинщик всех решений и мне¬ний, составитель планов будущего, сам себя полагает quantite negligeable . Противоречивая, даже парадоксальная оценка чело¬веком своей собственной сущности столь изумительна, что объяс¬нить ее можно лишь необычайной для него неуверенностью в суждениях, иными словами, тем, что сам для себя человек явля¬ется загадкой. Это и неудивительно, ведь для самопознания ему недостает возможности сравнения. Он в точности знает анатомию и физиологию, чтобы отличать себя от прочих animalia. Однако он лишен какого бы то ни было масштаба для суждения о себе как существе, наделенном сознанием, рефлексией, языком. На этой планете он уникален, не сравним ни с чем сколько-нибудь похожим. Возможность сопоставления и тем самым самопозна¬ния он получил бы лишь в том случае, если бы установил кон¬такт с другими подобными ему существами из иных миров.
Человечество живет пока отшельником, хотя ему ведомо, что со сравнительно-анатомической точки зрения он состоит в род¬стве с антропоидами, чрезвычайно отличаясь от этих сородичей в психическом отношении. Специфическим отличием homo sapiens является как раз то, что он сам себя не знает, остается для себя тайной. Те или иные внутривидовые различия несу¬щественны для познания, если сравнить их с возможностями, проистекающими от встречи с существом иного происхождения, но сходной организации. Наша психика, несущая ответствен¬ность за все творимое человеческими руками на нашей планете, остается неразрешимой загадкой, неописуемым чудом, т.е. пред¬метом, вызывающим немалую озабоченность. Это роднит психи¬ку со всеми тайнами природы. Но там мы не теряем надежды, мы совершаем все новые открытия и способны найти ответ на труднейшие вопросы. В случае психики и психологии начинают¬ся удивительные колебания. Как эмпирическая наука психология является не просто самой юной из дисциплин, она сталкива¬ется с величайшими трудностями уже при определении собствен¬ного предмета.
Подобно тому как нам потребовалось освободить картину мира от предрассудков геоцентризма, еще большие усилия чуть ли не революционного порядка были нужны для освобождения психологии от обаяния мифологических представлений, а затем от предрассудка, будто психика, с одной стороны, есть лишь эпифеномен биохимических процессов мозга, а с другой — пред¬ставляет собой нечто личностное. Связь психики с мозгом нико¬им образом не доказывает ее эпифеноменальности, вторичности, каузальной зависимости от биохимических процессов в субстра¬те, хотя нам хорошо известно, сколь сильными могут быть пси-хические нарушения, проистекающие из процессов головного мозга. Эти факты настолько впечатляют, что вывод об эпифено¬менальности психики казался чуть ли не неизбежным. Однако уже парапсихологические явления взывают к осторожности с подобными выводами: они указывают на то, что психические факторы делают относительными пространство и время, а тем самым ставят под вопрос поспешные и наивные объяснения в ду¬хе психофи-зического параллелизма. Поэтому опыт парапсихоло¬гии отвергается с порога или из-за мировоззренческих причин, или из-за духовной лености. Во всяком случае этот метод остере¬гаются называть научным — обычная уловка при столкновении мысли с необычным. Чтобы судить о психических явлениях, мы должны принимать во внимание все феномены, а потому не сле¬дует держаться общей психологии, отвергающей существование бессознательного или парапсихологии. Структура и физиология мозга не дают никакого объяснения сознательным процессам. Своебразие психики заключается в ее несводимости к чему бы то ни было другому. В физиологии психика предстает как относи¬тельно ограниченная область опыта, но тут же выясняется ее со¬вершенно особое значение: она заключает в себе одно из двух непременных условий бытия вообще, а именно феномен созна¬ния. Мир существует лишь будучи осознанным посредством пси¬хики, приходя к языку. Сознание есть условие бытия. Таким образом, психика обретает достоинство космического принципа, а он — философски и de facto —указывает психике на высокое место рядом с принципом физического бытия. Носителем созна¬ния является индивидуум, который не творит психику по своему произволу. Наоборот, она преформирует его, из нее в его дет¬ские годы постепенно пробуждается сознание. Если психика имеет столь возвышенное эмпирическое значение, то не меньшим наделен и индивидуум — единственный непосредственный носи¬тель психики.
На этом следует вновь и вновь делать ударение: индивиду¬альная душа, во-первых, уже в силу своей индивидуальности представляет собой исключение из статистических правил, а по¬тому при научном ее познании посредством статистической ниве¬лировки она теряет важнейшие свои черты. Во-вторых, церков¬ные вероисповедания придают ей ценности ровно настолько, на¬сколько психика допустима той или иной догмой. Иными слова¬ми, она должна подпадать под какую-то коллективную катего¬рию. В обоих случаях воля к индивидуальности трактуется как эгоистическое упрямство. Наука обесценивает ее как субъекти¬визм, а вероисповедания моралистически осуждают как ересь и духовную гордыню. В последнем случае нельзя не заметить, что в отличие от других религий как раз христианство учит символу веры, согласно которому индивидуальная жизнь человека и Сы¬на человеческого в процессе индивидуации включила в себя боговоплощение и откровение. Самосозиданию человека тем самым была придана необъятная значимость, которую редко верно оце¬нивали. Слишком часто внешнее загораживало путь к прямому внутреннему опыту. Не будь индивидуальная самостоятельность Тайным стремлением многих людей, едва ли речь могла бы идти хоть о какой-то возможности духовного и морального претерпе¬вания коллективного подавления.
Все эти препятствия на пути правильной оценки человечес¬кой души сами по себе значат не так уж много, если сравнить их с одним примечательным фактом. Речь идет о том опыте, с кото¬рым чаще всего сталкиваются врачи. Заниженная оценка психи¬ки и прочие виды сопротивления в значительной мере происте¬кают из боязни, даже па-нического страха перед возможными от¬крытиями в области бессознательного. Такого рода страхи мож¬но обнаружить не только у тех, кто не приемлет фрейдовской картины бессознательного, они были и у самого творца «психо¬анализа». Он сам советовал мне сделать догмат из его сексуаль¬ной теории, обосновывая это тем, что такой догмат — единствен-ное укрепление разума против возможного «прорыва черного потока ок-культизма». Фрейд был убежден в том, что от бессознательного можно ожидать всяких «оккультистских» явлений (что вполне соответствует действительности). Речь идет об «ар¬хаических остатках», о том, что покоится на инстинктах, выра¬жает себя в архетипических формах с присущими им нуминоз-ными свойствами, зачастую вызывающими страх. Они неискоре¬нимы, недоступны для интеллекта и представляют собой истин¬ный фундамент психики. Вместе с разрушением того или иного их проявления они возобновляются в преображенном обличий. Страх перед бессознательным психическим является главным препятствием не только на пути самопознания, Но в равной сте¬пени на пути роста и распространения психологического позна¬ния. Страх иной раз так велик, что о нем даже не отдают себе отчета. Над этим вопросом следовало бы всерьез задуматься каждому религиозному человеку.
Конечно, научная психология должна прибегать к абстрак¬циям, т.е. удаляться от своего конкретного предмета. Но ровно настолько, чтобы вообще не потерять его из виду. Как раз по этой причине познания лабораторной психологии так невразуми¬тельны и малоинтересны как для практических целей, так и с самой общей точки зрения. Чем больше в поле исследования до¬минирует индивидуальный объект, тем жизненнее, практичнее и шире по своему охвату вытекающее из него познание. Однако тем самым предмет исследования делается чрезвычайно слож¬ным, возрастает неопределенность единичных факторов, а пото¬му и возможность ошибки. Академическая психология не идет на такой риск, подменяет сложные состояния простыми и безна¬казанно обходится примитивными вопросами. Она ведь распола¬гает полной свободой выбора вопросов, которые желает поста¬вить природе.
Медицинская психология лишена этого завидного положе¬ния. Здесь вопросы ставятся объектом, а экспериментатор-врач сталкивается с состояниями, которые он не выбирал. Он их не избрал бы, будь у него даже полнейшая свобода. Главные воп¬росы ставит болезнь, точнее, больной человек. Тут природа экс¬периментирует над врачом, ожидая от него ответа. Своеобразие индивидуума и его уникальная ситуация стоят перед глазами врача, обязанности которого принуждают сталкиваться со слож¬ными факторами и неопределенными ситуациями. Конечно, врач подойдет к ним уже имея обобщенный опыт, но он скоро прихо¬дит к обстоятельствам, которые не находят удовлетворительного выражения во всеобщих формулах. Чем глубже его понимание, тем меньше роль всеобщих суждений. Но именно такие сужде¬ния являются масштабом и фундаментом объективного позна¬ния. То, что врач и пациент называют «пониманием», приводит ко все большей субъективизации познания. Первоначально это казалось преимуществом, теперь грозит стать опасным недостат¬ком. Субъективизация (технически — перенос и контрперенос) вызывает изоляцию от окружающего мира, а тем самым и неже¬лательные социальные последствия. Такая субъективизация вся¬кий раз возникает вместе с перевесом понимания над познанием: по мере того как углубляется понимание, увеличивается разрыв с познанием. Идеальное понимание было бы в конечном счете со¬вершенно лишенным познания сопереживанием, целиком субъек¬тивным и социально безответственным. Столь далеко зашедшее понимание невозможно, поскольку требует полного уподобления двух различных индивидов. Раньше или позже один из партне¬ров обнаруживает, что он вынужден жертвовать собственной ин-дивидуальностью, которая захватывается другим. Понимание тогда рушится, ибо его предпосылкой является сохранение це¬лостной инди-видуальности обоих партнеров. Поэтому целесооб¬разно доводить понимание до равновесия с познанием; понима¬ние a tout prix вредит обоим партнерам.
Эта проблема встает всякий раз, когда речь заходит о пони¬мании и познании сложных индивидуальных ситуаций. Именно в этом заключается специфическая задача психологов. Она вста¬ла бы и перед directeur de conscience (занятого сига animarum ), но у того сама служба предполагает масштаб его веро¬исповедания. Право индивида и здесь ощутимо урезается кол¬лективными предрассудками. Этого можно избежать лишь в том случае, если догматический символ, например образец христианской жизни, конкретен и адекватно воспринимается индивиду¬умом. Я предоставляю другим судить, насколько это верно для настоящего времени. Во всяком случае врачу слишком часто приходится иметь дело с пациентами, у которых вероисповеда¬ния либо имеют малое значение, либо он» вообще утрачены. Профессия врача побуждает избегать предвзятых мнений. Он должен уважать метафизические, т.е. непроверяемые, убеждения предположения, воздерживаться от приписывания им универ¬сальной значимости. Подобная предосторожность тут тем более уместна, если учесть, что индивидуальные черты личности недо¬ступны для произволь-ного внешнего вмешательства. Врач препо¬ручает их внутреннему развитию, судьбе в самом широком смыс¬ле слова, будь ее решения мудрыми или нет.
Такие предосторожности могут показаться чрезмерными, но в диалектическом взаимодействии двух индивидов даже при са¬мой тактичной сдержанности имеет место такое обоюдное влия¬ние, что исполненный ответственности врач должен опасаться приумножения числа тех коллективных факторов, жертвой кото¬рых и без того является пациент. Он слишком хорошо знает, что проповедью даже самых наилучших принципов он вызовет толь¬ко явное или тайное сопротивление, противодействие пациента. Без всякой на то нужды под угрозой оказывается цель — изле¬чение больного. Психической ситуации индивидуума наших дней и без того настолько грозят реклама, пропаганда и прочие более или менее доброжелательные советы и внушения, что хоть раз в жизни ему стоит предложить человеческое отношение, в котором нет повторяемых до тошноты «ты должен, тебе следует» (и прочих признаний собственного бессилия). Врач обязан взять на себя роль адвоката против этого внешнего натиска и его про¬явлений в психике индивидуума. Опасность разнуздания анар¬хических влечений, как правило, преувеличивается, так как про¬тив нее имеются как внешние, так и внутренние средства защи¬ты. К ним можно отнести природную трусость большинства лю¬дей, затем следуют мораль, хороший вкус и last not least уго¬ловный кодекс. В противоположность этим опасениям немалые трудности доставляет как раз доведение индивидуальных побуж¬дений до сознания, не говоря уж об их исполнении. Когда инди¬видуальные порывы все же вдруг осмеливаются нарушить уста¬новленный порядок, то врач обязан защитить пациента от неук¬люжей близорукости, от впадения в гнус-ность и цинизм.
В дальнейшем по ходу общения наступает время, когда от врача потребуется оценка индивидуальных побуждений. Но до этого пациент должен достичь уверенности в своих суждениях, ручательства в том, что он действует по собственному усмотре¬нию, способен решать сам, а не просто подражать коллективным условностям. В особенности там, где его индивидуальные мне¬ния совпадают с коллективными. Пока индивидуум не стоит прочно на своих собственных ногах, так называемые объектив¬ные ценности ему не в прибыток, поскольку они служат лишь эрзацем его собственного характера и ведут к подавлению инди¬видуальности.
Неоспоримым правом социума является защита от безгра¬ничного субъективизма. Но до тех пор пока общество состоит из лишенных индивидуальности личностей, оно беззащитно перед лицом нападения всякого рода подлецов. Сплоченное и органи¬зованное общество оказывается легкой добычей жадных до влас¬ти индивидуумов в силу своей сплоченности, способствующей растворению отдельной личности. Сложение миллиона нулей ни¬когда не даст единицы. В конечном счете все зависит от свойств отдельных лиц, и фатальная близорукость современного мира находит свое выражение в мышлении, оперирующем лишь боль¬шими числами и массовыми организациями. Дисциплинирован¬ная масса в руках безумного — на это мир нагляделся вдосталь, и об этом следовало бы помнить. К сожалению, мало кто об этом думает; продолжают радостно организовываться, веруя во всеспасительную действенность массовых мероприятий. Отсутст¬вует малейшее осознание того, что могущественные организации реализуются лишь с огромным риском для моральности. Настой¬чивость приведенной в движение массы должна воплощаться в воле одной личности, предводителя, который ни перед чем не остановится. Программа для такой массы должна быть утопиче¬ской, с хилиастическими образами, доступными для самого ни¬чтожного ума (и даже именно для него!).
Церкви тоже по случаю пользуются массовыми действами, побивая дьявола с помощью Вельзевула; те самые церкви, кото¬рые заботятся о спасении души индивида! Кажется, служители церкви не имеют ни малейшего представления об основах массо¬вой психологии, а именно о том, что в массе индивидуум мо¬рально и духовно мельчает. Поэтому церковь не обременяет себя тем, что составляет истинную ее задачу— содействием (сопсеdente Deo ) достижению метанойи отдельным человеком, т.е. его духовному возрождению. Без истинного обновления человека в Духе не может быть никакого сообщества, ведь оно состоит как раз из суммы нуждающихся в спасении индивидов. Я вижу лишь ослепление церкви в ее попытках уловить отдельного чело¬века в сети социальной организации. Его приводят тем самым в состояние урезанной вменяемости, тогда как его нужно поднять из затхлой бессознательной массы, привести к сознанию, что спасение мира заключается в спасении его собственной души.
На массовых сборищах ему, правда, вбиваются в голову сходные идеи и даже пытаются прибегнуть к средствам массово¬го гипноза, чтобы эти идеи запечатлеть в его памяти. Но достиг¬нутый успех обманчив: стоит пройти небольшому времени, стоит развеяться упоению и массовый человек подпадает под власть другого, еще более блестящего и громко провозглашенного ло¬зунга. Индивидуальное отношение к Богу было бы для него дей¬ственной защитой от пагубного влияния массового действа. Раз¬ве Христос зазывал своих учеников на чудовищные сборища и разве привела трапеза на пять тысяч к тому» что ее участники не закричали потом вместе со всеми прочими: «Распни его!»? Разве самый «камень» — Петр — не впал в весьма сомнительные ша¬тания вопреки своей избранности? И разве не потому Иисус и Павел являются образцами для «человеков», что пошли своим собственным путем на основе индивидуального внутреннего опы¬та, не склоняя головы перед миром?
Этот аргумент не мешает нам видеть реальную ситуацию церкви. Когда она пытается оформить аморфную массу, объеди¬нить посредством внушения разрозненных индивидов в сообщест¬во верующих, то этим она служит не только социальным целям. Она предоставляет индивидууму неоценимое благо — осмыслен¬ную форму жизни. Но с помощью таких даров удостоверяют, но не преображают. Какой бы ни была община, внутренний чело¬век не испытывает преображения. Среда не может даровать ему то, что он может купить лишь ценой личного напряжения и страдания. Наоборот, как раз благоприятное внушение среды усиливает опасную тенденцию: ожидать всего извне и приукра¬шивать себя, прикрыв яркими красками отсутствие самого глав¬ного — глубокого преображения внутреннего человека. Массо¬вые феномены настоящего и особенно грозящие нам в будущем массовые проблемы требуют именно такого преображения. Насе¬ление не убывает, но неизменно растет. Расстояния уменьшают¬ся, земной шар все более сжимается. Пределы достижимого с по¬мощью массовых организаций хорошо видны уже сегодня. Настало время задать себе вопрос: кого объединяют такие органи¬зации, как устроен человек, именно действительный, а не статис¬тический, индивидуум. Ответ на него возможен только с помо¬щью нового самосознания.
Массовое движение скользит по поверхности больших чи¬сел: в толпе чувствуют себя в безопасности, вера множества должна быть истиной, стре-миться нужно к тому же, чего желает большинство, — ведь это всем потребно, а потому не может не быть благом. Желания толпы — вот принудительная власть. А лучше всего сладостно пребывать в стране детства, под присмот¬ром родителей, в беззаботности и безответственности. Ведь о те¬бе пекутся вышестоящие, они за тебя думают, на все вопросы уже готовы ответы, на все приняты надлежащие меры. Инфан¬тильная дрема массового человека настолько далека от реальнос¬ти, что он даже не задумывается: кто, собственно говоря, оплачи¬вает этот рай. Плата по счетам тайком доверена особым институ¬циям, которые тому и рады: власть их все растет и растет, а чем больше они возвышаются, тем слабее и бес-помощнее индивид.
Достигнув значительных масштабов, подобное Состояние от¬крывает дорогу к тирании, а свобода индивидуума превращает¬ся в духовное и физическое рабство. Всякая тирания имморальна и гнусна, а потому она куда свободнее в выборе средств, ког¬да существует в виде института, куда индивид к тому же сам приносит счет. Стоит ему встать в оппозицию к государственной машине, и ему очень скоро дадут почувствовать фактическую из¬нанку этой морали. Его вынудят пользоваться теми же средства¬ми, и таким образом множится зло, даже если индивиду удалось избежать прямого заражения. Эта зараза особенно опасна там, где решающее значение придается большим числам и среднеста¬тистическим ценностям. Но именно таков наш западный мир — во все возрастающей степени. Большие числа, массы с их подав¬ляющей мощью — вот что ежедневно предстает перед нашими глазами при чтении газет, де-монстрирующих незначительность отдельного человека. Он теряет надежду, что его когда-либо или где-либо услышат. Стертые от употребления, сделавшиеся пус¬тыми фразами идеалы liberte, egalite, fraternite , чем они могут помочь, когда их произносят его палачи, представители массы.
Сопротивление организованной массе может позволить себе лишь тот, кто в своей индивидуальности организован точно так же, как масса. Эти слова звучат для современного человека почти невразумительно. Средневековое воззрение, согласно ко¬торому человек есть микрокосм, так сказать уменьшенное отоб¬ражение большого космоса, давно нами утеряно. Оно могло бы нас научить тому, что человек соразмерен миру и душе мира. Как душевное существо, он не является в своих созерцаниях простым отпечатком макрокосма, но является в огромной мере его творцом. Соответствием большому миру он наделен, во-пер¬вых, благодаря рефлексии своего сознания, а во-вторых, в силу унаследованной архетипической природы инстинктов, связую¬щих его с окружающим миром. Своими влечениями он не только заключен в макрокосм, но и прорывается из него стремлениями, влекущими его по разным направлениям. Он постоянно впадает в противоречия с самим собой и лишь изредка умеет найти одну-единственную цель жизни. За это он платит дорогую цену, подавляя другие стороны своего существа. Поэтому часто возни¬кает вопрос, стоит ли вообще форсировать такую односторон¬ность, если естественное состояние человеческой психики заклю¬чается в противоречивости поступков, в диссоциации ее элемен¬тов. Так воспринимает Дальний Восток привязанность человека к «десяти тысячам вещей». Порядок и синтез рождаются из это¬го состояния.
Подобно тому как хаотичное движение массы принудительно направляется волей диктатора, так и диссоциированное состоя¬ние индивида требует одного направляющего и упорядочиваю¬щего принципа. Сознание, ego, хотело бы своей волей обрести эту диктаторскую роль, но оно упускает из виду существование могущественных бессознательных факторов, которые срывают этот замысел. Чтобы достичь цели, синтеза, нужно сначала уяс¬нить себе природу этих факторов. Нужно либо испытать их воз-действие, либо иметь наготове религиозные символы, которые их выражают, побуждая к такому синтезу. Чтобы уловить и внятно выразить то, что просит слова у современного человека, требуется религиозный символ. Этого не позволяют христиан¬ские символы в силу нашего их восприятия. Наоборот, в душе «христианского» белого человека разверзлась пропасть, и наше христиански обусловленное мировоззрение доказало свое бесси¬лие перед лицом прорыва архаического общественного порядка, каковым является коммунизм.
Этим я вовсе не хочу сказать, что христианство себя исчер¬пало. Напротив, я убежден в том, что устарело вовсе не христи¬анство, а существовавшие до сих пор его интерпретации, сталки¬вающиеся с сегодняшней мировой ситуацией. Христианский сим¬вол — это жизненная сущность, содержащая в себе ростки даль¬нейшего развития. Но последнее требует решимости и основа¬тельного размышления о предпосылках христианства. Но для этого требуется совсем иное видение индивидуума, т.е. микро¬косма, нашей Самости. Неизвестно, что еще предстоит человеку, каким внутренним опытом он еще обогатится, какие душевные состояния войдут в фундамент его религиозных мифов. В этом мраке не различить его будущих интересов и занятий, и перед этой проблемой его сознание беспомощно.
Все козыри оказались на руках у противника, который опи¬рается на большие числа и их ошеломляющее господство. На стороне врага политика, наука и техника со всеми выводимыми из них следствиями. Высшую степень достоверности представляют аргументы науки, выше которых не поднимается дух челове¬ческий. Так кажется по крайней мере сегодняшнему человеку, которого сотни раз учили об отсталости и темноте прошлых сто¬летий с их суевериями. Современному человеку не приходит в голову, что его учитель — наука сама путается здесь, сравнивая несопоставимые величины. Хотя бы потому, что его нынешние духовные вожатые доказывают, будто невозможное для нынешней науки было невозможным во все времена. Это твердят прежде всего по поводу предметов веры, которые могли бы дать ему внемирскую точку отсчета по отношению к миру. Когда же он обращается с вопросом к представителям церкви, коим доверено cura animarum, то он слышит лишь о непременной принадлежности данной церкви, т.е. мирскому институту. Ему говорят, что сделавшиеся для него сомнительными предметы веры суть кон¬кретные исторические события, что некие ритуалы обладают чудодейственной силой. Либо что сами эти служители — заместители страстей Христовых — освобождают его от греха и вечного проклятия. Стоит ему поразмыслить над такими словами, над скудостью предлагаемых ему заповедей, и он вынужден признаться, что вообще ничего в этом не понимает, а потому перед ним остаются две возможности: либо принимать на веру невра-зумительное, либо его попросту отбросить.
Сегодняшний человек без труда схватывает «истины», пред¬лагаемые ему государством и массой. Куда сложнее с понимани¬ем истин религии. Ему недостает объяснения: «разумеешь ли, что читаешь?» (Деяния ап. 8, 30). Если все религиозные воззре¬ния им еще не оставлены, то связано это с тем, что они покоятся на инстинктивном стремлении, функционально присущем чело¬веку как виду. Богов у него можно отнять лишь в том случае, если он получит других. Вожди массового государства не могут обойтись без обожествления. Где такое не навязывается силой, там на первый план выходят наделенные демонической энергией навязчивые факторы: деньги, работа, политическое влияние и т.д. Утрата этой естественной функции, т.е. полное ее исключе¬ние из сферы сознания и воли, ведет к тяжким нарушениям. Вместе с победой Deesse Raison неизбежно произошли всеобщая невротизация современного человечества, расщепление личности, аналогичное нынешнему расколу мира. Зако-люченная погранич¬ная линия рассекает душу современного человека, по какую бы сторону он ни находился. В классическом случае невроза не осознается собственная изнанка, своя Тень; точно так же нор¬мальный индивид видит свою Тень в другом, стоящем по другую сторону пограничного рва. Политической и социальной задачей на сегодня сделалось наделение дьявольскими чертами: по одну сторону — капитализм, по другую — коммунизм. Но так же как невротик все-таки наделен какой-то догадкой о непорядке в соб¬ственной душе несмотря на ополовиненность своего сознания, так и западный человек проявляет инстинктивный интерес к соб¬ственной психике и «психологии».
Врач volens nolens оказывается на подмостках мира перед вопросами, касающимися поначалу интимного и сокровенного в жизни индивидуума, а в конечном счете обращенными к воздей¬ствию духа времени в целом. Личностную симптоматику по боль¬шей части вполне можно отнести к «невротическому материалу», к инфантильным фантазиям. Как правило, они плохо сочетают¬ся с содержаниями взрослой психики, вытесняются моральными суждениями (если вообще доходят до сознания). Но большая часть фантазий не осознается, и по меньшей мере маловероятно, чтобы они вообще когда-либо осознавались и сознательно вытес¬нялись. Скорее они имелись в наличии, но оставались бессозна-тельными, пока психологическое вмешательство не позволило им шагнуть за порог сознания. Процесс оживления бессознательных фантазий связан с бедственным положением сознания. Иначе они воспроизводились бы нормальным образом, не приводя к невротическим нарушениям сознания. Принадлежащие миру дет¬ства фантазии вызывают нарушения лишь в том случае, если они несвоевременно усиливаются ненормальными условиями соз¬нательной жизни, а именно когда неблагоприятные конфликты от-равляют саму атмосферу существования, когда воздействия родителей нарушают душевное равновесие ребенка.
Вместе с вспышкой невроза у взрослого появляется мир фантазий, на-поминающий фантазии ребенка. Поэтому невроз пытались каузально объяснять наличием инфантильных фанта¬зий. Но этим не объясняется отсутствие патологического воздей¬ствия фантазий в промежутке между детством и неврозом. Такое воздействие впервые заявляет о себе, когда индивидуум сталки¬вается с условиями, которые неодолимы для его сознания. Этот застой в развитии личности открывает окольный путь к инфан¬тильным фантазиям, которые скрытно имеются у всех людей, но не оказывают никакого влияния, пока сознательная личность без помех направляет путь. Стоит фантазиям достичь определенного Уровня интенсивности, и они прорываются в сознание, произво¬дят воспринимаемое пациентом состояние конфликта. Но расщепление личности надвое задолго до того подготавливалось в бессознательном: отток энергии от сознания (поскольку она не находила употребления) усиливает бессознательные нега-тивные черты, прежде всего инфантилизм.
Нормальные фантазии ребенка соответствуют инстинктивной Деятель-ности воображения. Происходит как бы тренировка будущей сознательной деятельности. Поэтому здоровое ядро целесообразности имеется даже в патологиях, в искаженных (отчасти извращенных) фантазиях невротика, регрессиях психической энергии. Подобное заболевание может означать нецелесообразное изменение динамики душевных процессов, которые сами по себе нормальны. Но инстинкты крайне консервативны, это относится и к их динамике и к форме, которая наглядно, образно выражает сущность инстинктивного стремления. Располагай мы картиной психики бабочки-юкка (классический для биологии случай симбиоза насекомого и растения), то мы и здесь обнару¬жили бы формы нуминозных представлений. Они не только принуждают бабочку упражняться в своей деятельности, способ-ствующей оплодотворению цветов юкки, но также способствуют «узнаванию» ситуации в целом. Инстинкт — это не просто сле¬пое неопределенное влечение, он всегда согласуется с какой-то внешней ситуацией. Отсюда специфическая форма инстинкта. Инстинкт изначален и передается по наследству, но столь же из¬начальна, т.е. архетипична, его форма. Инстинкт даже древнее и консервативнее, чем его телесное воплощение.
Биологические предпосылки, разумеется, есть и у вида homo sapiens, который, несмотря на присущие ему сознание, волю, ра¬зум, все же не выпадает из рамок общей биологии. Для челове¬ческой психологии это означает, что наша сознательная деятель¬ность покоится на фундаменте инстинкта: из него проистекает динамика психических процессов, равно как и основные черты осознаваемых представлений. Здесь нет никаких отличий от всех прочих живых существ. Человеческое познание есть приспособ¬ление априорных, изначально данных форм представления. Они нуждаются в модификации, поскольку в своей первоначальной форме соответствуют архаичной жизни, а не требованиям беско¬нечно изменчивой среды. Чтобы сохранить приток инстинктив¬ной энергии в нашу современную жизнь — а это совершенно не¬обходимо для поддержания нашего существования, — необходи¬мы преобразование архетипических форм, приспособление их к требованиям дня.
5. МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К сожалению, наши представления неизбежно отстают и плетутся за изменением ситуаций. Иначе и не может быть, по¬скольку, пока нет перемен, наши представления более или менее приспособлены к миру и удовлетвори-тельно функционируют. До поры до времени действительно нет никаких убедительных осно¬ваний для их изменения и нового приспособления. Вместе с, трансформацией, создающей нестерпимый разрыв между внешней ситуацией и отныне устаревшими формами представления, поднимается принципиальная проблема мировоззрения. Иначе, говоря, вопрос о том, как переориентировать или приспособить те формы представления, которые поддерживают приток энер¬гии инстинктов. Рациональными новообразованиями их не заме¬нить, поскольку в разуме запечатлена куда более внешняя ситуа¬ция, нежели биологические предпосылки человека. Такие ново¬образования не только не приближают нас к изначально челове-ческому, скорее они закрывают к нему доступ. Что соответствует целям марксистского воспитания, которое полагает (чуть ли не уподобившись Богу), будто может лепить людей по образу и подобию государства. Наши основополагающие убеждения во все большей степени делаются рационалистическими. Характер¬но то, что наша философия уже не представляет собой формы жизни, как это было в античности, но стала ис-ключительно ин¬теллектуальным занятием. Наши вероисповедания с их древни¬ми ритуалами и представлениями отображают картину мира, которая не вызывала ни малейших затруднений в средние века. Но она сделалась непостижимой для сегодняшнего человека, хотя глубокий инстинкт позволяет ему (несмотря на конфликт с со¬временным мировоззрением) держаться представлений, которые в буквальном истолковании уже не соответствуют духовному раз¬витию последних пяти столетий. Это помогает ему не упасть в бездну нигилистического отчаяния. Даже там, где рационалист считает себя обязанным критиковать буквализм и узкую конкретику верований, всегда следует иметь в виду то обстоятельство, что вероисповедания доносят до нас учения, символы которых вопреки уязвимым для критики интерпретациям наделены архе-типической жизненностью. Интеллектуальное их понимание во¬обще не является чем-то неизбежным. К нему обращаются лишь там, где имеется недостаток чувства и интуиции, т.е. у тех людей, Для которых именно интеллект наделен убедительной силой.
Нет ничего характернее и симптоматичнее в этом отношении, чем воз-никший в новое время разрыв между верой и знанием. Противостояние тут достигло такого размаха, что приходится го¬ворить о несовместимости двух категориальных систем, двух картин мира. Но речь идет все-таки об одном и том же эмпири¬ческом мире, в котором обнаруживает себя человек. Богословие также предполагает, что его вера опирается на факты, на нечто воспринятое исторически в этом ведомом нам мире. А именно Христос родился как человек, совершил множество чудес и стерпел свою судьбу, умер при Понтии Пилате, а после смерти телесно возродился. Теология даже противится всякому символическому пониманию своих первоисточников, скажем их истол¬кованию как мифов. С богословской стороны в последнее время были предприняты попытки «демифологизации» предмета веры (род уступки знанию), чтобы спасти хотя бы решающие свои по¬ложения. Но для критического мышления слишком очевидно, что миф является неотъемлемым элементом всех религий, что его в принципе нельзя исключить без ущерба для догматов веры.
Пропасть между верой и знанием — это симптом раскола сознания, характерный для нарушений в духовном состоянии нового времени. Словно две разные личности говорят об одном и том же факте со своей точки зрения, либо в одной личности в двух различных духовных состояниях появляются расходящиеся картины опыта. Если мы попробуем установить общее положе¬ние личности в современном обществе, то обнаружится, что она страдает от духовного расщепления, т.е. рода невротического нарушения. Это состояние никак не улучшится от того, что одна партия упрямо тянет вправо, а другая — не менее настойчиво влево. Такое случается в каждой страдающей душе невротика, пришедшего к врачу.
Выше я уже говорил кратко, но с вхождением в практичес¬кие подробности, вероятно изумившие читателя, о том, что врач должен восстанавливать взаимосвязь двух половинок личности пациента. Лишь тогда может появиться целостный человек, а не половина, подавляющая другую. Именно таким подавлением все время занимался пациент, да и современные воззрения не пред¬лагали ему иных средств. Индивидуальная ситуация больного в принципе неотличима от коллективной ситуации. Он является социальным микрокосмом, отображающим в уменьшенном мас-штабе свойства большого социума. Либо, наоборот, из этой мельчайшей единицы происходит путем сложения коллективное расщепление. Последнее более вероятно, ибо единственным не¬посредственным носителем жизни является отдельная личность, тогда как общество и государство представляют собой условные идеи. На действительность они могут притязать лишь будучи представленными каким-то числом индивидов.
Несмотря на преобладание безрелигиозности, наше время, так сказать, наследственно отягощено достижениями христианской эпохи. А именно господстовом слова, того самого Логоса, который является центральной фигурой христианской веры. Слово буквально сделалось нашим божеством и остается им даже там, где с христианством знакомы только понаслышке. Слова «общество», «государство» и им подобные настолько конкрети¬зировались, что стали чуть ли не олицетворенными. В веровани¬ях толпы государство превратилось в неистощимый источник благ еще больше, чем короли в былые времена. К государству взывают, на него возлагают ответственность, его обвиняют и т.д. Общество возведено в ранг высшего этического принципа, его на¬деляют даже какими-то творческими способностями. Никто не за¬мечает того, что необходимое на определенной стадии обожеств¬ление слов обладает и опасной изнанкой. В тот самый момент, когда «слово» достигает общезначимости путем векового воспи-тания, оно отделяется от своей изначальной связи с божествен¬ной личностью. Происходит олицетворение церкви, а затем last not least госу-дарства. Вера в «слово» делается суеверием, слово обретает черты адских лозунгов. Суеверие слов служит орудием обмана: с помощью пропаганды и рекламы граждан благополуч¬но надувают, совершаются политические сделки и компромиссы, ложь достигает невиданных ранее размеров.
Так, слово, благая весть о единстве человечества, о его еди¬нении в образе великого человека стали в наше время источни¬ком подозрительности и недоверия всех ко всем. Суеверие слов является одним из наихудших наших врагов, но именно к слову всякий раз взывает невротик, чтобы убедить противника в собст¬венной душе или заставить его замолчать. Сегодня верят, будто достаточно «только сказать» кому-нибудь, что ему «нужно де¬лать», и все пойдет своим путем. Но может ли он делать, хочет ли, это вилами по воде писано. Искусство врачевания, напротив, установило, что нотациями, убеждениями, уговорами, советами ничего не добьешься. Врач должен досконально знать душевный инвентарь своего пациента, он стремится получить подлинное энание. Поэтому он устанавливает контакт с индивидуальностью больного, принимает в расчет самые личностные и интимные моменты духовной конституции пациента. Он делает это даже в большей мере, чем педагог или directeur de conscience. Научная объективность позволяет ему видеть в пациенте не только чело-веческую личность, но и особь антропоида, телесность которого Устроена так же, как у животного. Естественнонаучное образование врача позволяет связать сознательную личность с бессознательным миром влечений, сокрытым за сознанием, а именно с сексуальностыо и влечением к власти, т.е. самоутверждением, которое, согласно моральным представлениям Августина, есть concupiscentia и superbia . Столкновение этих фундамен-таль¬ных влечений в индивидууме — сохранения рода и самосохране¬ния — образует источник множества конфликтов. В дальнейшем они становятся объектом морального осуждения, призванного исключать и подавлять коллизии влечений.
Влечение наделено двумя основными аспектами, а именно: как динамический фактор и как специфический смысл, иначе говоря, инстинкт и интенциональность. В высшей степени веро¬ятно, что все психические функции покоятся на каком-то инс¬тинктивном основании — это очевидно в случае животного, во влечении которого легко различить spiritus rector всего поведе¬ния. Ситуация делается менее определенной там, где получает развитие способность к обучению, у высших обезьян и человека. Здесь влечение в силу этой способности подлежит многообраз¬ным модификациям и дифференциациям, пока не достигает у цивилизованного человека такого расслоения, что достоверно можно различить лишь немногие основные влечения. Это два упомянутых выше влечения с их дериватами — до сих пор меди¬цинская психология имела дело именно с ними. Чем дальше про-слеживаются разветвления влечений, тем чаще исследователь на¬талкивается на образования, которые со все меньшей увереннос¬тью может приписать тому или другому влечению. Упомяну лишь один пример: первооткрыватель влечения к власти выска¬зывал даже сомнение, не следует ли объяснять по видимости бес¬спорное проявление сексуального влечения некой аранжировкой власти. У Фрейда наряду с превосходящим все остальное сексу¬альным влечением признавались «влечения Я», с явной уступ¬кой Адлеру. Нет ничего удивительного в том, что при такой не-определенности большую часть невротических симптомов можно почти без противоречий объяснять в терминах обеих теорий. Эти затруднения никоим образом не означают ложности одной или другой из них (или обеих вместе). Скорее обе теории имеют от¬носительную значимость и вопреки догматической односторон¬ности их создателей признают существование и конкуренции другого влечения. Хотя вопрос о человеческих влечениях не отнести к простым, вряд ли мы можем обойтись без предположения о том, что, например, способность к обучению покоится на инстинкте подражания животного, хотя кажется исключительно человеческим свойством. В природе влечения уже заключается тенденция: препятствовать иным инстинктивным действиям, даже модифицировать их на свой лад. Так, певчие птицы способ¬ны к адаптации других мелодий.
Ничто так не отчуждает человека от базиса его инстинктов, чем способность к обучению. Она предстает как прогрессирую¬щая трансформация человеческого поведения. К ней сводимы прежде всего перемены в условиях существования и требование все новых приспособлений, привносимое цивилизацией. Отсюда проистекают все те многочисленные психические нарушения и затруднения, обусловленные прогрессирующим отчуждением че¬ловека от своих инстинктивных корней. Он отождествляет себя с собственным сознанием, с знанием о самом себе, исключающем бессознательное. Современный человек ровно настолько знает себя, насколько способен осознавать. Сознание в огромной мере зависит от условий внешней среды, насильственно видоизменяю¬щих первоначальные инстинкты. Поэтому его сознание ориенти¬руется в первую очередь на познание, наблюдение внешнего ми¬ра, к свойствам которого он должен приспосабливать свои пси¬хические и технические средства. Эти задачи так настоятельны, а их реализация столь выгодна, что он как бы забывает за ними самого себя. Теряется из виду его изначально инстинктивная природа, на места его действительной сущности встают те представления, которыми он располагает по собственному поводу. Тем самым он незаметно уходит в мир понятий, где продукты его сознательной деятельности во все возрастающей степени замещают подлинную ре-альность.
Отход от инстинктивной природы неизбежно ведет цивилизованного человека к конфликту между сознанием и бессознательным, духом и приро-дой, знанием и верой, т.е. к расколу его сущности. Такое расщепление в лю-бой момент может стать патологи¬ям, когда сознание уже не в силах подавлять или игнорировать его инстинктивную натуру. Рост числа индивидов с подобным критическим состоянием вызывает массовое движение, которое выдает себя за ходатая угнетенных. В духе господствующих тенденций источник всякой нужды обнаруживается во внешнем мире, а требования относятся к изменению внешних социально-политических условий. Некритически предполагается, что таки ми переменами можно решить даже проблему глубинного раскола личности. В результате возникают социально-политические образования, воспроизводящие в измененном виде все ту же нуж¬ду, но с утратой духовных и моральных ценностей, возвышаю¬щих культуру над цивилизацией. Для начала тут осуществляют примитивное переворачивание: низменое выходит на вершину, тень — на место света. А так как тень анархична и взвихрена, то свободу «освободившихся» угнетенных по необходимости приходится урезать драконовскими мерами. Дьявола изгоняют с помо¬щью Вельзевула. Корни зла вообще не были поколеблены, происходит простое перемещение к противоположной позиции.
Коммунистическая революция унизила человека еще больше, чем демократическая коллективная психология, поскольку отня¬ла у него свободу в социальном, моральном и духовном смыс¬лах. Помимо политических трудностей, это взрастило на Западе и один гигантский психологический порок, сделавшийся непри¬ятно заметным уже во времена немецкого национал-социализма: появилась возможность указывать пальцем на эту воплощенную Тень. Она обрела отчетливые очертания по другую сторону по¬литической границы, тогда как мы стоим по другую сторону, а потому хороши собой и можем наслаждаться владением истин-ных идеалов. Не говорил ли один государственный деятель, что для зла ему недостает воображения? Он выразил этими словами тот факт, что западному человеку угрожает полная утрата собст¬венной Тени. Он отождествляет себя с фиктивной личностью, а мир с абстрактной картиной, подготовленной для него естест¬веннонаучным рационализмом. Тем самым он утрачивает почву под ногами.
Духовный и моральный противник обрел реальность не в его собственной душе, а где-то по ту сторону географической разделительной линии. А его не победить с помощью внешних мероприятий, будь они полицейскими или политическими. Раз¬делительная линия все опаснее раскалывает сознание и бессознательное человека. Мысль и чувство утрачивают свой внутренний противоположный полюс, а там, где бездействует религия, недалеко до всемогущего божества разнузданных страстей.
Нашу философию совершенно не интересует вопрос: согласен ли с на-шими сознательными планами и намерениями тот человек в нас самих, которому мы пока давали исключительно негативное имя, обозначив его как Тень. Эта философия ничего не знает о теневом существовании, коренящемся в своеобразии инс¬тинктивной природы человека. Без риска опасных последствий опрометчиво упускать из вида эту динамику, равно как и априор¬ный мир инстинктов. Насилие над инстинктами или пренебреже¬ние ими ведет к болезненным последствиям физиологического и психологического характера, с которыми имеет дело врач.
Уже более полувека известно (или считается, что известно) наличие противоположного сознанию бессознательного. Меди¬цинская психология предоставляет все необходимые эмпиричес¬кие и экспериментальные доказа-тельства по этому поводу. Име¬ется бессознательная психическая реальность, влияние которой на сознание вполне доказуемо. Из этого факта до сих пор не сделаны общие выводы, мыслят и действуют как и прежде, слов¬но индивид наделен одной, а не двумя сторонами. Поэтому он кажется безобидным, разумным и человечным. Его мотивы не ставятся под сомнение, и даже не ставится вопрос о внутреннем человеке и его деятельности по другую сторону. Это легкомыс¬ленно, поверхностно и даже неразумно, поскольку игнорировать реакции бессознательного психологически негигиенично. Мож¬но презирать желудок или сердце, но это не мешает нам видеть последствия плохой диеты или перенапряжения, которые обора¬чиваются страданиями всего человеческого существа. О послед¬ствиях душевных ошибок умалчивают, ведь «психическое» весит не больше воздуха. Хотя никому не придет в голову отрицать, что без психики вообще нет мира и уж по крайней мере человеческого мира. Иными словами, все зависит от человеческой ду¬ши и ее функций. Наибольшего внимания она заслуживает именно сегодня, когда радости и горести буду-щего все более за¬висят не от угрозы диких зверей или природных катастроф, не от эпидемий, но исключительно от психических изменений чело¬века. Достаточно едва заметного нарушения душевного равновесия в голове, одного из нынешних вождей, чтобы утопить мир в крови, огне и радиоактивности. Потребные технические средства уже наготове по обе стороны. Слишком легко возникают никем не контролируемые сознательные решения, пример которых был дан миру одним фюрером. Сознание современного человека настолько прилепилось к внешним объектам, что лишь на них возлагается ответственность, будто от них зависит принятие решения. Забывается, что психика некого индивида может однажды освободиться от объекта, что подобные «неразумности» наблюдаются каждый день и могут затронуть всякого,
Потерянность сознания в нашем мире связана прежде всего утратой связи с миром инстинктов, а эта утрата есть итог духов¬ного развития человечества на протяжении близящегося к концу Эона. Чем больше человек господствует над природой, тем силь¬нее ему в голову ударяет гордыня поразительных познаний и умений. Тем больше он презирает все естественное и случайное, т.е. иррациональное, в том числе и объективность психики, ко¬торая не сводится к сознанию. В противоположность субъекти-визму сознания бессознательное объективно. Оно заявляет о се¬бе в форме противящихся сознанию чувств, эмоций, импульсов и сновидений, которые совершаются непреднамеренно, но во власть которых человек впадает объективно. Психология до сих пор является по большей части наукой о содержаниях сознания. Она меряет все коллективной мерой. Индивидуальная душа де¬лается каким-то пограничным и случайным феноменом (хотя только она обладает в конечном счете действительностью); бес¬сознательное, способное заявить о себе только у реального, т.е. иррационального, человека вообще игнорируется. Речь идет не о какой-то невнимательности или незнании, но о настоящем сопро¬тивлении самой возможности иного, чем «Я», психического авто¬ритета. Это «Я» страшится даже малейшего сомнения в свое» единовластии. Религиозный человек должен был бы свыкнуться с мыслью, что не является монархическим владыкой в своем до¬ме, что решает все-таки не он сам, а Бог. Но много ли осталось тех, кто готов на деле положиться на волю Божию, кто не при¬дет в смущение, объясняя ею свое решение?
Религиозный человек, если держаться того, что вообще под¬лежит опытному установлению, находится под непосредственным воздействием бессознательных реакций. Он именует их обычно совестью. Поскольку имеются также моральные реакции других людей, то верующий соизмеряет свою совесть с традиционной этическим масштабом, т.е. какой-то коллективной величиной этом он решительно поддерживается его церковью. Пока индивид способен твердо держаться традиционной веры, а обстоятельства времени не требуют развитой индивидуальной автономии, этим можно и ограничиться. Но все сразу меняется, как это пpoисходит сегодня, когда мирской человек ориентируется на внешние факторы и утрачивает религиозные убеждения, входит в массу.
Верующий должен считаться с необходимостью защиты и обос-нования своей веры. Теперь он уже не может положиться на си¬лу внушения consensus omnium, он чувствует слабость церкви и незащищенность ее догматических предпосылок. А церковь сове¬тует ему приумножать веру, будто этот donum gratiae зависит от человеческого усмотрения. Истоком действительной веры являет¬ся не сознание, а спонтанный религиозный опыт, в котором пе¬реплетаются чувства верующего и его непосредственная связь с Богом. Тем самым возникает вопрос: есть ли у меня вообще ре-лигиозный опыт и прямая связь с Богом, а потому и уверенность в том, что для меня есть спасение от растворения в массе?
6. САМОПОЗНАНИЕ
Положительный ответ на проблему религиозного опыта име¬ется лишь в том случае, если человек исполняет требования строгого самоиспытания и самопознания. Этот замысел лежит в пределах досягаемости его воли. Если он реализуется, то чело¬век не только может сделать немало открытий по собственному поводу, он получает также одно психологическое преимущество: он сам делается достойным серьезного внимания и интереса. Он как бы ставит этим подпись под декларацией о достоинстве чело¬века, делает хотя бы первый шаг к фундаменту своего сознания, к истоку религиозного опыта. Это не значит, что бессознатель¬ное тождественно Богу и ставится на его место. Это медиум, по¬средством которого нам может быть явлен религиозный опыт. Первопричина такого опыта лежит за пределами возможного че¬ловеческого познания. Богопознание представляет собой транс¬цендентальную проблему.
Религиозный человек имеет одно громадное преимущество при ответе на грозные вопросы нашего времени. У него есть по тайной мере ясная идея об основании его субъективного су¬ществования, о связи с «Богом». Я ставлю слово Бог в кавычки, чтобы дать тем самым ясно понять: речь идет об антропоморф¬ном представлении, динамика и символизм которого опосредованы бессознательной психикой. Всякому дано, если он того хочет, по крайней мере приблизиться к источнику такого опыта независимо от веры или неверия в Бога. Без такого приближения лишь в крайне редких случаях происходит чудесное преображе-11ие, прототипом которого может служить опыт Павла по дороге в Дамаск. Нет нужды доказывать существование религиозного опыта. Но всегда остается открытым вопрос, образует ли истинное основание этого опыта то, что метафизика и теология имену¬ют Богом или богами. На самом деле вопрос этот праздный: от¬вет на него приходит сам собой вместе с превозмогающей силой нуминозного переживания. Им человек так захвачен, что ему вообще не до метафизических или гносеологических интерпретаций. Самодостоверность приходит с очевидностью, которая не нуждается в антропоморфных доказательствах.
Принимая во внимание всеобщее психологическое невежество и пред-взятость, можно считать чуть ли не несчастьем то, что единственное пережи-вание, дающее фундамент индивидуаль¬ному существованию, доверено со-мнительному посреднику, кото¬рый кажется произведением наших предрас-судков. Вновь и вновь слышится голос сомнения: «Что доброго может прийти из Назарета?» Бессознательное принимается за «просто животную природу», если не скопище отходов работы сознания. В действи¬тельности оно per difinitionem наделено необъятной широтой, а потому беспредметными становятся все пере- и недооценки, от¬падают все предрассудки. Такие речи особенно комичны в устах христиан, сам Господь которых родился в стойле на соломе, сре¬ди домашних животных. Хорошему вкусу больше подходило бы рождение в храме. Обмирщенный массовый человек ждет нуминозных переживаний на массовых сборищах — это, конечно, ку¬да более импозантный фон, чем единичная душа человеческая. Церковно ориентированные христиане разделяют это бе-зумие.
Устанавливаемое психологией значение бессознательных процессов для возникновения религиозных переживаний в выс¬шей степени непопулярно и среди левых и среди правых. Одни признают решающим для человека откуда-то извне привнесенное откровение как историческое событие. Другие объявляют это бессмыслицей, вообще отказывают человеку в религиозной функции, только веруют при этом в партийную доктрину, кото¬рая почему-то требует высшей интенсивности веры. К этому добавляется то, что различные вероисповедания предлагают самые различные вещи и каждая претендует на обладание абсолютной истиной. Но сегодня мы живем в одном мире, сегодня расстояния измеряются часами, а не неделями и месяцами, как то было раньше. Экзотические народы утратили непривычность диковинки из этнографического музея. Они стали нашими соседями, и то, что было прерогативой этнологов, превратилось сегодня в поли¬тическую, социальную и психологическую проблему. Мировоз¬зрения уже проникают друг в друга, и недалеко то время, когда и в этой области остро встанет вопрос о взаимопонимании. А оно невозможно без постижения глубинных оснований иной точки зрения. Для этого необходимо иное видение, которое вызовет со¬ответствующую реакцию с обеих сторон. История пройдет мимо тех, кто пытается затормозить это неизбежное развитие во имя собственной традиции. Вопреки всем различиям единство чело¬вечества властно скажет свое слово. На эту карту уже сделала ставку марксистская доктрина, в то время как западная демокра¬тия думает отделаться техникой и хозяйственной помощью. Ком¬мунизм учитывает огромную важность мировоззренческого эле¬мента, универсальных принципов. Опасность мировоззренческой слабости для нас не меньшая, чем для экзотических народов.
Недооценка психологического фактора жестоко мстит за се¬бя. Было бы поэтому своевременно преодолеть отсталость в этом отношении. Поначалу это может остаться благим пожеланием, поскольку следующее из него требование самопознания крайне непопулярно. Оно кажется досадным идеализмом, отдает мора¬лизаторством, да еще имеет дело с той психологической Тенью, которая всячески отрицается. По крайней мере никто охотно о ней не говорит. Задача, стоящая перед нашим временем, являет¬ся невероятно сложной. Она ставит высшим требованием responsabilite , если только последняя не окажется вновь traison des clercs . Ответственность касается прежде всего людей влиятель¬ных, руководящих другими, располагающих необходимым ин¬теллектом для понимания ситуации нашего мира. От них можно было бы ожидать совестливого приведения мира в порядок. Но как раз потому, что речь здесь должна идти не об одном интел¬лекте, но также о морали, у нас нет повода для оптимизма. При¬рода не настолько расточительна в своих дарах, чтобы наделять одновременно и высоким интеллектом и дарами сердца. Где есть одно, обычно отсутствует другое, а совершенствование одной способности происходит за счет другой. Особенно болезненным является поэтому рас-хождение интеллекта и чувства, они плохо переносят друг друга, о чем говорит нам опыт.
Нет смысла формулировать как моральные требования те задачи, которые принудительно ставят наше время и наш мир. Так мы в лучшем случае способны прояснить психологическое положение мира для близоруких и разъяснить его словами, до¬ступными даже для тугодумов. Но и в этом есть свой смысл: нужно надеяться на людей доброй воли, а потому неустанно проговаривать необходимые мысли. Вдруг да получит распрост-ранение истина, а не одна популярная ложь.
Ужас, распространяемый в последнее время диктаторскими государствами, — это вершина всех тех мерзостей, за которые не¬сут вину наши близкие и дальние предки. В этом главная труд¬ность для нас, европейцев. Начав с жестокостей и кровавых бань среди христианских народов — всем этим изобиловала наша ис¬тория, — европеец должен нести ответ и за все то, что он принес своими колониями, вломившись в мир экзотических народов. Тут возникает образ чернее черного. Человеческое зло столь велико, что чуть ли не эвфемизмом кажутся речи о peccatum originale , о наследственном грехе, имея в виду сравнительно невинные промахи Адама. Наш случай является куда более тяжелым.
Согласно общему мнению, человек есть то, что знает о нем его созна-ние. Поэтому он полагает себя безобидным, добавляя к собственному злу еще и глупость. Невозможно отрицать свер¬шавшиеся и свершающиеся поныне чудовищные преступления, но они всякий раз перекладываются на других. Если же они принадлежат недавнему или тем более давнему прошлому, то они быстро и благопристойно тонут в море забвения, чтобы вер¬нуться к сновидениям, именуемым «нормальным состоянием». Этому противостоит ужасающий факт: ничто не исчезает бес¬следно, ничто нельзя переделать заново. Зло, виновность, глубо¬кий страх совести и мрачные предчувствия стоят перед глазами тех, кто хочет видеть. Все совершенное было сделано людьми; я человек, соучастник человеческой природы, а потому я совиновен по сущности своей, ибо неизменно наделен способностью и стремлением совершить нечто подобное. Юридически мы не бы¬ли сообщниками, нас там не было, но мы все же являемся потен-циальными преступниками по нашей человеческой сущности Нам не хватало лишь подходящего случая, нас не захватывал адский водоворот. Ни одному из нас не выйти за границы той черной коллективной тени, которую отбрасывает человечество. Совершено ли злодеяние много поколений назад или сегодня, оно остается симптомом всегда и повсюду наличной предрасположенности. Поэтому неплохо было бы обладать «воображением зла», так как лишь глупец способен долго упускать из виду предпосылки собственной натуры. Так легче всего стать инстру¬ментом зла. Носителю бацилл холеры и его окружению ничуть, не помогает незнание заразности болезни, а нам не помогут безо¬бидность и наивность. Наоборот, они даже ведут к искушению проецировать невидимое зло на других. Вместе с такой проекци¬ей противостояние с другими усиливается, растет и трансфор¬мируется страх. Мы непроизвольно и тайно ощущали его по по-воду нашего собственного зла, а теперь он переносится на про¬тивника, многократно умножая весомость угрозы с его стороны. Утрата видения собственного зла лишает нас даже способности как-то с ним обходиться. Здесь мы сталкиваемся с принципиаль¬ным предрассудком христианской традиции, завлекающим нас в политические затруднения. А именно будто зла следует избегать, по возможности не, касаться, не упоминать. Это неблагоприятно, это табу, это страшно. Благородная поза и обхождение зла сто¬роной (пусть лишь кажущееся) соответствуют естественному стремлению уже первобытного человека: избегать зла, не вос¬принимать его, а по возможности прогонять куда-нибудь за гра¬ницу, как то происходило с ветхозаветным козлом отпущения, уносившим зло в пустыню.
Если держаться противоположной точки зрения, согласно которой зло сидит в самой природе человека независимо от его выбора, то оно выходит на психологическую сцену как прирож¬денный противник добра. Эта точка зрения прямо ведет к психо¬логическому дуализму, хотя он предшествует всякому видению, он преформирован политическим расколом мира и еще более бессознательным расщеплением современного человека. Дуализм приходит не с этой точкой зрения, мы преднаходим его в расколотости. Невыносимой кажется мысль, что мы сами несем ответ-ственность за подобную вину. Поэтому стремятся локализиро¬вать зло вокруг отдельных преступников или групп, а самим в невинности умывать руки. Но долго в позе безобидности не удержишься. Опыт показывает, что исток зла лежит в человеке, пока мы обходимся без метафизического принципа зла в соответствии с христианским мировоззрением. Этот постулат имеет то огромное преимущество, что слишком тяжкая ответственность сваливается с человеческой совести и возлагается на дьявола. Психологически это верная оценка того факта, что человек явля-ется скорее жертвой своей психической конституции, нежели ее своевольным изобретателем. Если вспомнить все беды и мучения человечества, то неизбежно возникает вопрос: откуда все это, почему одновременно со всеми благодеяниями прогресса в юрис¬пруденции, медицине и технике, при всех заботах о жизни и здоровье были изобретены неслыханные средства разрушения, которые с легкостью могут уничтожить человечество? Из того, что усилиями современных физиков произросли такие цветы че¬ловеческой изобретательности, как водородная бомба, вряд ли следует, что все они преступники. Огромная духовная работа, востребованная ядерной физикой, была осуществлена людьми, способными на такое напряжение сил и самопожертвование ради осуществления этой задачи, что с точки зрения моральных уси¬лий они заслуживают не меньшего восхищения, чем если бы они потрудились ради изобретения че-го-нибудь полезного и доброго для человечества. Даже там, где путь к великому открытию про¬лагается сознательным волевым решением, важную роль играет спонтанность интуиции. И здесь свою роль играет бессознатель¬ное, зачастую именно оно вносит решающий вклад. За результат несут ответственность не только сознательные усилия, к ним внезапно примешивается бессознательное со своими загадочными целями и намерениями. Достаточно вложить оружие в руки, что¬бы тут же был наведен прицел. Познание истины — это благо¬роднейшее стремление науки, и там, где в тяге к свету истины она обнаруживает опасные ее последствия, возникает впечатле¬ние не преднамеренности, а фатальности. Сегодняшний человек не более зол, чем, скажем, человек античности или дикарь. Только под рукой у него несравненно более действенные средства осуществления зла. Расширение и дифференциация его сознания сопровождались отставанием от них его морали. В этом огром¬ная проблема современности: одного разума уже недостаточно.
Отказ от проведения таких адских экспериментов, как расщепление атомного ядра, был в пределах досягаемости человеческого разума в силу их опасности. Но страх того зла, которого он не видит в себе, но охотно передоверяет другому, всякий развяжет разуму руки, хотя известно, что применение такого оружия означало бы конец человеческого мира. Страх вceoбщего разрушения спасает нас от наихудшего, но возможность его будет висеть над нами как темное облако до тех пор, пока не будут на-ведены мосты через душевную и всемирно-политическую про¬пасть не менее надежные, чем водородная бомба. Мы можем вме¬шаться и изменить положение только с осознанием того, что все пропасти происходят из раскола души. Пока самые личностные движения души остаются бессознательными и неведомыми, они скучиваются и производят отношения власти и массовые движения, которые выходят из-под контроля разума и уже никем не могут быть направлены к какой бы то ни было благой цели. Вся¬кие прямые воздействия представляют собой обман, тогда как гладиато-ры этого очковтирательства сами одержимы иллюзиями.
У человека пока нет ответа на эту раздвоенность; бездна не¬ожиданно разверзлась перед ним вместе с новейшими событиями мировой истории. Это случилось после многих столетий жизни в духовном состоянии, когда само собой разумеющимся считалось творение человека Богом по образу и подобию своему как едини¬цы мироздания. Мы утратили представление о том, что кирпи¬чиком в структуре мировой политики является индивид, а пото¬му он изначально вовлечен во все ее конфликты. Он осознает се¬бя, с одной стороны, как малозначимую частицу и выступает как жертва неконтролируемых им сил. С другой — он отбрасывает страшную тень, имеет противника в себе самом. Этот невидимый помощник в темных делах вовлекает его в политический кош¬мар: к самой сущности политического организма принадлежит то, что зло всегда обнаруживается у других. Почти неискорени¬мой страстью индивида является перекладывание на другого все¬го того груза, о котором он не знает и знать не желает, пока речь идет о нем самом.
Ничто не оказывает более отчуждающего и подавляющего воздействия на общество, чем эта моральная леность и безответ¬ственность; ничто так не взывает к взаимопониманию, чем эти проекции друг на друга, которые нужно оттянуть назад. Необ¬ходима самокритика — другому ведь не прикажешь, чтобы он осознал свои проекции. Как и мы сами, он о них не ведает. Пред¬рассудки и иллюзии постижимы лишь в том случае, если на ос-нове психологических познаний появляется готовность к сомне¬нию в верности собственных предпосылок, к тщательной и доб¬росовестной проверке их фактами. Слово «самокритика» является самым обычным в марксистски ориентированных государствах, однако в противоположность нашему пониманию эта «самокритика» должна служить государству, а не истине и справедливости в межчеловеческих отношениях. Омассовление никак не ведет к взаимопониманию между людьми, скорее оно ведет к атомизации, т.е. к душевному обособлению индивидов. Чем меньше у индивида привязанностей, тем больше выигрывает го¬сударство, и наоборот.
В демократическом мире дистанция между людьми слишком велика, она куда больше того, что необходимо для благоденствия или даже душевных потребностей. Чтобы преодолеть слишком очевидные противоречия, в ход идут идеалистические потуги, взывания к идеализму, энтузиазму и к совести. При этом забыва¬ют о неизбежности самокритики, нет ответа на вопрос: кто, собственно, выдвигает идеалистические требования? Не тот ли, кто желает перепрыгнуть через собственную тень, кто жадно цепляется за идеалистическую программу, обещающую ему полное алиби по поводу его собственной тени? Респектабельность и поверхностная мораль прикрывают обманчивой мантией темноту внутреннего мира. Сначала нужно убедиться в том, что идеален сам рассуж¬дающий об идеализме, чтобы совпадали слова и дела, причем не по одной видимости. Быть идеальным невозможно, и подобное требование повисает в воздухе как неисполнимый постулат. Все эти проповеди и демонстрации идеализма приемлемы лишь в том случае, если видна их изнанка. Без такого противовеса идеализм выходит за человеческие пределы и вырождается в благонамерен¬ный блеф. Надувательство означает незаконную эксплуатацию других, подавление, а оно никогда не ведет к добру.
Признание собственной тени ведет к той скромности, кото¬рая требуется для осознания собственного несовершенства. Оно необходимо для установления человеческих отношений, посколь¬ку они покоятся не на дифференциации, которая подчеркивает различия по степени совершенства и порождает противоречия, но на признании слабости, несовершенства, нужды в помощи и поддержке. Таковы мотивы и основания взаимной зависимости. Совершенному не нужны другие люди, а слабый ищет к кому прислониться и не противопоставляет себя партнеру. Противопоставление оттесняет его в подчиненное положение, унижает моральным превосходством другого. Это происходит там, где играют свою роль явно завышенные идеалы.
Размышления такого рода не следует относить к избыточной сентиментальности. Вопрос о межчеловеческих отношениях и внутренней связности нашего общества важен уже в силу атоми¬зации сбитых в массу людей, личностные отношения которых подточены ширящимся взаимным недоверием. Там, где нет пра¬вовой безопасности, где работают полицейская слежка и террор, обособление неизбежно. К тому же оно является целью диктату¬ры, которая заинтересована в приумножении бессильных соци-альных единиц. Чтобы противостоять такой опасности, свобод¬ному обществу нужны средства взаимосвязи, обладающие аф¬фективной природой, т.е. некий принцип вроде Caritas, христи¬анской любви к ближнему. Но такая любовь страдает как раз от взаимонепонимания, вызванного проекциями. Высший интерес свободного общества требует поэтому психологического понима¬ния человеческих отношений — на них строится социальная связь, а тем самым и сила общества. Где убывает любовь, там приходит власть насилия и террора.
Эти размышления не являются призывом к идеализму, речь идет об осознании психологической ситуации нашего времени. Я не знаю даже, что сегодня слабее: идеализм или разум публики. Я понимаю, что для существенных перемен в душе требуется прежде всего время. Медлительный рассвет понимания кажется мне поэтому более действенным в длительной перспективе, чем блеснувший на миг недолговечный идеализм.
7. ЗНАЧИМОСТЬ САМОПОЗНАНИЯ
То, что в виде «тени» кажется сегодня примером неполно¬ценности че-ловеческой психики, содержит на деле не только не¬гативное. Уже тот простой факт, что путем самопознания, т.е. исследования собственной души, человек натыкается на инстинк¬ты с их образным миром, высвечивает те дремлющие в душе си¬лы, которые редко себя обнаруживают, пока не нарушился по¬рядок. Они содержат в себе возможность большей динамики. Все зависит от подготовленности и установок сознания: пойдет ли прорыв таких сил и связанных с ними образов к духовному росту либо обернется катастрофой. Только врачам сегодня из¬вестна по имеющемуся опыту вся недостаточность психологиче¬ской подготовки сегодняшнего человека, поскольку лишь врач вынужден искать в природе индивида те вспомогательные силы и представления, которые оказывают помощь на пути сквозь тьму и опасности. В требующей терпения работе он не может взывать к традиционным «ты должен», «ты обязан». Врач не может переложить все муки на плечи другого, а сам довольст¬воваться дешевой ролью увещевателя. Толку от проповедей ма¬ло, но общая беспомощность столь велика, требования столь су¬ровы, что часто и врачи повторяют старые ошибки, не ломая дол¬го голову над субъективными проблемами. Кроме того, он имеет дело с отдельным индивидом, а не с сотней тысяч. Ничего не со¬вершится, пока не изменился индивид, но старания считаются оправданными лишь там, где речь идет о массах.
Воздействие на всех индивидов, которые нуждаются в духов¬ном воспитании, недостижимо и в сотни лет. Духовные переме¬ны происходят почти незаметно, малыми шагами на протяжении тысячелетий. Их не ускорить и не сдержать рациональными рас¬суждениями, не говоря уж об осуществлении чего бы то ни было в пределах одного поколения. Достижимо изменение индивидов, которые могут затем оказать влияние на широкий или узкий круг себе подобных. Я имею в виду не проповеди; но тот установлен¬ный на опыте факт, что индивид, нашедший доступ к бессозна¬тельному, незаметно воздействует на свое окружение. Углубле¬ние и расширение сознания производят то, что дикари называли словом «мана». Происходит непроизвольное воздействие на бес¬сознательное других, индивид обретает какой-то неосознаваемый престиж среди других, сохраняющий эффективность до тех пор, пока им не начинают преднамеренно злоупотреблять.
Усилия на пути самопознания небезнадежны уже потому, что действует еще один незаметный фактор, идущий навстречу нашим ожиданиям. Это бессознательный дух времени, компен¬сирующий установки сознания. В форме предчувствий он улав¬ливает грядущие перемены. Самым очевидным примером тут мо¬жет служить современное искусство, которое под видом решения эстетических проблем занято психологическим воспитанием пуб¬лики. А именно оно размывает и разрушает прежние эстетичес¬кие воззрения с их понятиями прекрасного по форме и осмыс-ленного по содержанию. Привлекательные художественные об¬разы сменяются холодными абстракциями, которые кладут ко¬нец наивно-романтической любви к объекту. На весь мир про¬возглашается, что пророческий дух искусства переходит от прежней привязанности к объектам к темному хаосу субъективных предпосылок. Но искусство пока что не открыло под покрывалом мрака того, что связует всех людей и способно выра¬зить целостность их души. Для этого нужна рефлексия, а по-то¬му подобных открытий следует ожидать от другого опыта.
Великое искусство всегда оплодотворялось мифами, т.е. тем бессозна-тельным символическим процессом, который идет сквозь Эоны. Как изна-чальное проявление человеческого духа, он яв¬ляется и корнем всех будущих творений. Развитие современного искусства с его по видимости нигилистическими тенденциями распада нужно понимать как симптом и символ характерных для нашей эпохи представлений о мировом закате и мирообновлении. Такое настроение заметно повсюду: в политике, обществен¬ной жизни, философии. Мы живем в период «смены божествен-ных ликов» — в Кайрос, когда сменяются основополагающие принципы и символы. Такие устремления не являются делом нашего сознательного выбора, они выражают изменения внутрен¬него и бессознательного человека. Грядущие поколения должны будут отдать себе отчет об этих чреватых последствиями переме¬нах, если человечество вообще желает спастись от саморазруше¬ния, которое несет мощь науки и техники.
Как и в начале христианского Эона, сегодня мы вновь стал¬киваемся с отставанием морали, которая неадекватна современ¬ному научному, техническому и социальному развитию. Слиш¬ком многое поставлено на карту, слишком многое зависит от психологических свойств человека. Дорос ли он до встречи с ис¬кушением — воспользоваться своей мощью для инсценировки мирового заката? Сознает ли он, на какой путь вступил, какие последствия должен вывести из положения мира и собственной душевной ситуации? Знает ли, что он почти утратил жизнеут¬верждающий миф о внутреннем человеке, сохраненный для него христианством? Представляет ли, что его ожидает, когда на мир обрушатся катастрофы? Может ли вообще вообразить, каково значение такой катастрофы? И знает ли, наконец, индивид, что это он играет решающую роль?
Счастье и довольство, душевное равновесие и смысл принад¬лежат пе-реживаниям индивида, а не государству. Оно является лишь конвенцией между самостоятельными индивидами, хотя Цюзит сделаться всемогущественным и подавить отдельного че¬ловека. Врач более других знает о душе, и от него многое зависит. Социальные и политические обстоятельства времени, конечно, играют немалую роль, но безмерно переоцениваются в их важности для счастья или несчастья индивида, пока рассматри¬ваются как единственно решающие факторы. Поэтому все планы страдают от одной и той же ошибки: игнорируется психология человека. Эти планы для него предназначены, но слишком часто они способствуют лишь порождению иллюзий.
Поэтому и врачу, который всю свою долгую жизнь занимал¬ся причинами и следствиями душевных нарушений, позволено высказать свое скромное мнение по поводу современной мировой ситуации. У меня нет ни избытка оптимизма, ни восторженности высоких идеалов. Меня просто заботит судьба, радости и горес¬ти конкретного человека — той бесконечно малой величины, от которой зависит весь мир, той индивидуальной сущности, в ко¬торой — если нами правильно понят смысл христианской благой вести — даже Бог ищет свою цель.
ТРИ ИНТЕРВЬЮ ИЗ КНИГИ «ЮНГ ГОВОРИТ…»
ИНТЕРВЬЮ НА БЕРЛИНСКОМ РАДИО
26 июня 1933 г.
21 июня 1933 г. Юнг дал согласие возглавить Международное медицинское об-щество психиатрии, объединяющее национальные общества Дании, Германии, Вели-кобритании, Голландии, Швеции и Швейцарии со штаб-квартирой в Цюрихе. Юнг как президент предоставил возможность вступить в Международное общество евреям и аитинацистам, исключенным из членов Немецкого психиатрического общества. Не¬смотря на то что у Юнга в его деятельности на посту президента было много сторон¬ников, он подвергался и нападкам за участие в обществе, имевшем связи с нацист¬ской Германией. Споры вокруг этого вопроса не утихли до сих пор. Документальным свидетельством того времени является интервью, взятое у Юнга Адольфом Вайцзеккером, немецким нейрологом и психотерапевтом, ранее учившимся у Юнга. Оно было записано и передано по берлинскому радио 26 июня 1933 г. Тогда же Юнг провел се¬минар по сновидениям для группы берлинских психоаналитиков, который продол¬жался в течение пяти дней. Записи радиоинтервью и лекций, прочитанных Юнгом на семинаре, сохранились до настоящего времени в мимеографической форме.
Вайцзеккер: Сегодня мы с особенным удовольствием при¬ветствуем в нашей студии наиболее прогрессивного психолога современности Карла Густава Юнга из Цюриха. В настоящее время доктор Юнг читает в Берлине курс лекций и любезно со¬гласился ответить на ряд вопросов, связанных с современными проблемами. Как вы увидите, существует современная школа психиатрии, конструктивная в своей основе. Ни для кого не сек¬рет, что психология и анализ ради самих себя справедливо вы¬зывают сомнения в наши дни. Нас утомили беспрестанное рас¬следование и расчленение по всем интеллектуальным направле¬ниям, и весьма удачно, что здесь присутствует психолог, кото¬рый подходит к человеческой душе совершенно иным образом, чем другие хорошо известные психологи и психотерапевты, осо¬бенно фрейдистского толка. Доктор Юнг родился в семье протес¬тантского пастора в Базеле. Это немаловажно, поскольку во многом определило его подход к человеку на иных, нежели у Фрейда и Адлера, основаниях. Решающим в его психологичес¬кой теории является то, что доктор Юнг не рвет в клочья и не разрушает непосредственность нашей психической жизни, тот ее творческий элемент, который всегда играл существенную роль в истории немецкой мысли, но относится к нему с величайшим по¬чтением и не обесценивает его, позволяя себе в практическом ле¬чении конфликтов и неврозов руководствоваться конструк-тив¬ными и позитивными силами, которые дремлют в бессознатель¬ной жизни каждого человека и которые могут быть разбужены. Поэтому его психология является не интеллектуальной, но ско¬рее исполненной видения; она стремится укрепить в человеке конструктивные силы и не останавливается с торжеством на ра¬зоблачении негативных элементов, поскольку в действительнос¬ти это не привносит ничего нового в жизнь личности и общества. Позвольте мне теперь, доктор Юнг, предложить вам ряд вопро¬сов, ответить на которые вы могли бы и как швейцарец, т. е. с определенной долей беспристрастности, и как психолог с огром¬ным душевным опытом. Я хотел бы спросить вас сначала, суще¬ствует ли, исходя из вашего опыта психолога, принципиальное различие между психической ситуацией в Германии и Западной Европе и в чем оно заключается? Дело в том, что мы в настоя¬щее время окружены глубоким непониманием, и было бы инте¬ресно услышать, что, по вашему мнению, может быть причиной взаимных недоразумений.
Юнг: Действительно, существует громадная разница между психиче-ской настроенностью немцев и остальных западноевропейцев. Дело в том, что под национализмом, которому отнюдь не чужды западноевропейцы, они понимают собственного изделия шовинизм, и для них непонятно, каким образом именно в Германии национализм становится национально созидающей си¬лой. Эту особенность немцев можно объяснить только молодос¬тью немецкой нации. Их энтузиазм по перестройке немецкого общества остается непонятным для остальных западноевропейцев: для них эта проблема просто не актуальна, поскольку они достигли национального единства столетиями раньше и в других формах.
Вайцзеккер: Да, и теперь я хотел бы задать вам второй вопрос, чрезвычайно важный для нас в связи с тем, что новый поворот событий в Германии возглавило молодое поколение. Как вы объясните уверенность немецкой молодежи в преследовании своей достаточно романтической цели и какое значение имеет тот факт, что старшее поколение не может вполне избавиться от своего рода сдержанности, даже если оно просто симпатизирует происходящему? Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы перекинуть мост через эту безнадежную пропасть между поколениями, которая еще более усиливает раскол в нашем на-циональном единстве? Что является причиной этого?
Юнг: Уверенность немецкой молодежи в стремлении к сво¬ей цели представляется мне совершенно естественной. Во време¬на огромных сдвигов и перемен естественно ожидать, что моло¬дежь захватит власть, потому что только ей присущи дерзость, порыв и вкус к приключению. В конце концов это их будущее поставлено на карту. Это их рискованная затея и эксперимент. Старое поколение естественно отходит на задний план, и жиз¬ненный опыт должен бы подсказать ему подчиниться неизбеж¬ному ходу событий. Пропасть между поколениями обусловлена как раз тем, что старшее поколение не идет в ногу со временем и, вместо того чтобы предвидеть ход событий, оказывается за¬стигнутым бурей новой эпохи. Но не следует думать, что это ха¬рактерно только для немцев. Сейчас это прослеживается во всех странах. Старшее поколение испытывает громадные трудности в том, чтобы сориентироваться в этом новом мире. Политические перемены идут рука об руку с переменами в искусстве, филосо¬фии и религиозных взглядах. Повсюду веет ветер перемен. Мне приходится часто контактировать с людьми старшего поколения, и они признаются мне, что по существу почти не понимают нового времени и страдают от неспособности найти выход из создавшегося положения. Многие из них даже прямо обращаются ко мне за советом, поскольку считают, что благодаря небольшому психологическому знанию можно было бы лучше разобраться в происходящем, а также предвидеть ход событий. Но я должен сказать, что старшее поколение совершает непростительную ошибку, не умея разглядеть за абстрактной идеей реального че¬ловека. Это заблуждение находится в прямой связи с ложным интеллектуализмом, характерным для XIX столетия в целом.
Вайцзеккер: Благодарю вас, доктор Юнг. Мы услышали о вашей позиции по наиболее общим проблемам ситуации в целом. Теперь я хотел бы задать несколько более конкретных вопросов относительно вашей психологии. Какова, на ваш взгляд, пози¬ция психолога в целом на сегодня? Что является ее задачей в такое время — время активности?
Юнг: Как раз потому, что мы живем во время, требующее активности и ответственности, от нас требуются большая созна¬тельность и самосознательность. В наше время огромных поли¬тических и социальных перемен, как я говорил, ко мне как к психологу часто обращаются люди, которые испытывают нужду в психической ориентации. Эта потребность обнаруживает здо¬ровый инстинкт. Когда царит всеобщая неразбериха, как сегодня в Европе, когда все увеличивается расхождение во взглядах, инстинктивно возникает потребность, как бы я сказал, в общем Weltanschauung , которое позволило бы выработать единую точку зрения и ясно увидеть внутренний смысл движения в це¬лом. Если мы в этом не преуспеем, то весьма вероятно, что нас бессознательно увлечет ход событий. Потому что массовое дви¬жение, подавляя личность силой внушения, делает ее бессозна¬тельной. Политическое или общественное движение ничего не выигрывает, имея в своем лагере толпы загипнотизиро-ванных последователей. Напротив, в равной мере существует опасность ог-ромного разочарования по пробуждении от гипноза. Поэтому наибольшую ценность для массовых движений представляют приверженцы, следующие ему не из бессознательных побужде¬ний, но из сознательного убеждения. А это последнее может ос¬новываться только на Weltanschauung.
Вайцзеккер:. И вы думаете, если я вас правильно понимаю, что в определенных случаях лучше всего овладеть таким Welt¬anschauung с помощью психологии — вашей психологии — с тем, чтобы обрести внутреннюю устойчивость и действовать ус¬пешно и уверенно во внешнем мире, в противном случае наши бессознательные побуждения, настроения и, я не знаю, еще что-то смогут навязать себя в наших действиях, направленных во¬вне. Как вы знаете, сегодня в Германии психология во многом не вызывает доверия как раз потому, что она занята саморазви¬тием так называемой личности и тем самым вызывает подозре¬ния в известном кабинетном индивидуализме или индивидуализ¬ме роскоши, принадлежащем веку, который закончился для нас. Поэтому я хотел бы спросить вас: каким образом именно сейчас, когда коллективные силы всего общества взяли на себя руковод¬ство в формировании нашего образа жизни, каким образом мы должны определить усилия психологии в ее практической роли, которую она должна играть в жизни и обществе в це-лом?
Юнг: Саморазвитие личности особенно необходимо в наше время. Ко-гда человек как личность не осознает себя, то и в кол¬лективном движении отсутствует ясное осознание цели. Только саморазвитие личности, которое, как я полагаю, должно быть высшей целью всех психологических усилий, может способство¬вать появлению сознающих свою ответственность представителей и лидеров коллективного движения. Как недавно сказал Гитлер, лидер должен иметь мужество и в одиночку следовать своим соб-ственным путем. Но если он не понимает самого себя, каким об¬разом он может руководить другими? Вот почему истинный ли¬дер всегда тот, кто имеет мужество быть самим собой и способен видеть насквозь не только других, но прежде всего самого себя.
Вайцзеккер: Теперь я позволю себе коснуться специальной темы. Каково различие — хотя я уже коснулся этого вначале — каково различие между психологией, которая, подобно вашей, исполнена видения, и психологией Фрейда и Адлера, которая всецела основывается на интеллектуальной основе?
Юнг: Как вы знаете, одно из прекраснейших качеств немец¬кого ума заключается в способности быть открытым для восприя¬тия творения в целом, во всем его неисчерпаемом многообра¬зии — без заранее составленного мнения. Но как Фрейдом, так и Адлером развивается обособленная частная точка зрения делающая упор только на сексуальность или стремление к влас¬ти—в противовес целостности феноменального мира. В этом случае какая-то часть феномена обособляется от целого и рас¬членяется на все более мелкие и мелкие фрагменты до тех пор, пока смысл того, что пребывает только в целом, не оборачивает¬ся бессмыслицей, а красота, присущая целому, не доводится до нелепости. Я никогда не смогу доброжелательно принять эту враждебность к жизни.
Вайцзеккер: Я особенно признателен вам, доктор Юнг, за последний ответ. Я думаю, что на многих он подействует осво¬бождающе. И в заключение еще один вопрос, представляющий для нас сегодня особенный интерес, — это вопрос о руководстве. Исходя из вашего опыта психолога, что бы вы могли сказать об идее личного руководства и руководящей элиты — идее, кото¬рую признают теперь в Германии, — в отличие от избираемого правительства, зависимого от общественного мнения, как это по¬лучило развитие в Западной Европе?
Юнг: Сегодня мы переживаем время варварских вторже¬ний, но они происходят в душе человека. Это переломный мо¬мент в развитии наций. Время массового движения всегда время вождей. Всякое движение естественно достигает высшей точки в лидере, который олицетворяет собой смысл и цель народного движения. Он является воплощением национальной идеи и ее выразителем. Он на острие пришедшего в движение народа. По¬требность народа в единстве всегда порождает вождя, причем это не зависит от формы государственного устройства. И только во времена общественного застоя бесцельно жужжит машина парламентских обсуждений, за которой никогда не чувствуется ни жизненной глубины, ни серьезных причин; даже наиболее миролюбивое правительство в Европе, швейцарский бундесрат, в случае необходимости облекается чрезвычайными полномочия¬ми, демократическими или недемо-кратическими. Совершенно ес¬тественно, что лидер должен стать во главе элиты, которая в прежние времена формировалась из аристократии. К аристокра¬тии считают себя принадлежащими по праву природы, это арис-тократизм крови или аристократизм расы. Западная Европа не понимает особого психического и критического положения молодой немецкой нации, поскольку не ощущает себя в той же самой ситуации ни в историческом, ни в психологическом отношении.
Вайцзеккер: Благодарю вас, доктор Юнг, за готовность, с которой вы ответили на эти вопросы, а также за суть ваших от¬ветов, которые будут иметь огромное значение для многих из наших слушателей. Действительно, мы живем сегодня в период перестройки, когда все зависит от внутренней консолидации, ко¬торая достигается и созидается в душе человека. Для этой цели мы нуждаемся, если позволите выразить мое личное мнение, в лидерах, подобно вам действительно знающих человеческую ду¬шу, немецкую душу, и чья психология как раз не интеллекту¬альная болтовня, но жизненное знание человеческой души.
ДИАГНОСТИРУЯ ДИКТАТОРОВ
Октябрь 1938 г.
Запоминающийся интеллигентный и неутомимый X. Р. Никербокер был одним из лучших американских иностранных корреспондентов. Родился в Техасе в 1899 г.; в 1923 г. в Мюнхене, где он изучал психиатрию, во время пивного путча Гитлера пе¬реключился на журналистику, в дальнейшем большая часть его карьеры связана с Берлином. Но он также печатал материалы о Советском Союзе (премия Пулитцера 1931 г.), итало-эфиопской вой-не, гражданской войне в Испании, японо-китайской войне, присоединении Австрии, Мюнхенском соглашении. Он писал репортажи о битве за Британию, о войне в Тихом океане; погиб в 1949 г. в Бомбее в авиационной катастрофе.
Никербокер посетил Юнга в Кюснахте в октябре 1938г., приехав непосред¬ственно из Праги, где оказался свидетелем распада Чехословакии. Это интервью, од¬но из самых продолжительных, которое дал Юнг, было опубликовано в «Херст Интернейшенл-Космополитен» за январь 1939 г. и в несколько измененном виде вошло в книгу Никербо-кера «Завтра Гитлер?» (1941). В основу настоящей публикации поло¬жена статья из «Кос-мополитен», из которой исключили всякий иной материал, кроме вопросов и ответов. В этом же выпуске журнала был помещен биографический очерк о Юнге, написанный Элизабет Шепли Серджент. Эти статьи из «Космополитен» сде¬лали имя Юнга известным в США.
Никербокер: Что произойдет, если Гитлера, Муссолини и Сталина, всех вместе, закрыть на замок, выделив для них на неделю буханку хлеба и кувшин воды? Кто-то получит все или они разделят хлеб и воду?
Юнг: Я сомневаюсь, что они поделятся. Гитлер как шаман будет, вероятно, держаться в стороне, не ввязываясь в ссору.
Муссолини и Сталин, каждый по своему собственному праву вождя или сильного, будут, вероятно, добиваться обладания хлебом и водой, и Сталин как более грубый и жестокий, вероят¬но, получит все.
Существовали два типа сильных людей в примитивном об¬ществе. Один их них — вождь, физически более мощный и сильный, чем все его соперники, другой — шаман, сильный не сам по себе, а в силу власти, спроецированной на него людьми. Таким образом, это император и глава религиозной общины. Император как вождь обладал физической силой благодаря сво¬ей власти над солдатами; власть же ясновидящего, которым яв¬лялся шаман, не его физическая, а реальная власть, которой он обладал вследствие того, что люди признавали за ним магичес¬кую — сверхъестественную способность, могла временами пре¬восходить власть императора. Он мог, например, помогать или, напротив, строить препятствия на пути к счастливой жизни пос¬ле смерти, мог объявить вне закона личность, общину или целую нацию и исключением из религиозной жизни общины обречь на лишения и страдания.
Муссолини — человек физической силы. Увидев его, вы тотчас сознаете это. Его тело наводит на мысль о хороших мус¬кулах. Он лидер, потому что индивидуально сильнее любого из своих соперников. И действительно, склад ума Муссолини соот¬ветствует его классификации, у него ум вождя.
Сталин принадлежит к той же самой категории. Он, однако, не созида-тель. Он просто захватил то, что сделал Ленин, вонзил свои зубы и пожирает. Он даже разрушает нетворчески. Ленин снес целую структуру феодального и буржуазного общества в России и заменил ее своим собственным творением. Сталин раз¬рушает его.
С умственной стороны Сталин не так интересен, как Муссо¬лини, кото-рому он подобен в основном типе своей личности, и не имеет ничего общего с таким интересным типом, который представлен Гитлером, — типом шамана, человека-мифа.
Никербокер: Тот, кто захватил власть над ста семьюдеся¬тью миллионами людей, подобно Сталину, не может не заинте¬ресовать, нравится он вам или нет.
Юнг: Нет, Сталин именно животное — хитрый злобный му¬жик, бессознательный зверь — в этом смысле несомненно самый могущественный из всех диктаторов. Он напоминает сибирского саблезубого тигра этой мощной шеей, этими разглаженными усами, этой улыбкой кота, слизывающего сливки. Я могу пред¬положить, что прежде Сталин мог быть Чингисханом. Меня не удивит, если он сделает себя царем.
Гитлер совершенно другой. Его тело не внушает пред¬ставления о силе. В его облике прежде всего обращает на себя внимание полный сновидений, призрачный взгляд. Я был осо¬бенно поражен, рассматривая наброски, сделанные с него во вре¬мя чехословацкого кризиса; его глазами смотрит ясновидящий.
Во всяком случае не возникает сомнений в том, что Гитлер принадлежит к категории действительно мистических шаманов. Ничего подобного не приходилось видеть в этом мире со времен Магомета — так кто-то отозвался о нем на прошедшем Нюрн¬бергском съезде партии.
В том, что Гитлер поступает, как нам кажется, необъясни¬мым и стран-ным, алогичным и неразумным образом, проявляет¬ся явно мистическая особенность Гитлера. И обратите внима¬ние — даже номенклатура нацистов откровенно мистическая. Взять хотя бы название нацистского государства. Они называют его третий рейх. Почему?
Никербокер: Потому что первым рейхом была Священная Римская империя, второй был основан Бисмарком, третий соз¬дал Гитлер.
Юнг: Все так. Но здесь более глубокий смысл. Никто не назвал королевство Карла Великого или державу Вильгельма первым и вторым рейхом. Только нацисты назвали себя третьим рейхом. Потому что это имеет глубокое мистическое значение: в каждом немце выражение «третий рейх» вызывает в его бессо¬знательном библейские ассоциации.
Таким образом, Гитлер, который неоднократно показал, что осознает свое i мистическое призвание, предстает для фанатиков третьего рейха чем-то большим, чем простой человек.
Обратимся теперь к широко распространенному возрожде¬нию культа Вотана в третьем рейхе. Кто был Вотан? Бог ветра. Рассмотрим название Sturmabteilung — штурмовые войска. Шторм, как вы понимаете, ветер. Точно так же и свастика — вращающаяся фигура, образующая вихрь, с направлением дви¬жения всегда в левую сторону — подразумевает в буддистском символизме пагубное, неблагоприятное, ориентированное на бес¬сознательное.
И все вместе, эти символы третьего рейха, вслед за его про¬роком под знаменами ветра и шторма и вращающихся вихрей направляют массовое движение, увлекая немцев в урагане безу¬держных эмоций все дальше и дальше к судьбе, которую никто, вероятно, даже он сам, ясновидящий, пророк, фюрер, не может предсказать.
Никербокер: Но почему Гитлер, который невольно застав¬ляет каждого немца близ себя падать ниц, обожествляя его, не производит почти никакого впечатления на иностранцев?
Юнг: Совершенно верно. Вообще-то некоторые отреагиро¬вали точно так же, как реагирует всякий немец? в Германии. Это происходит потому, что для всякого немца Гитлер является зер¬калом его бессознательного, в котором не для немца, конечно, ничего не отражается. Он рупор, настолько усиливающий неяс¬ный шепот немецкой души, что его может расслышать ухо ее бессознательного.
Он первый человек, который поведал каждому немцу, какой тот все время представляет и видит в своем бессознательном судьбу Германии, осо-бенно после поражения в мировой войне, и единой характерной особенно-стью, присущей всякой немецкой душе, является типично немецкий комплекс неполноценности — комплекс младшего брата, который всегда немного запаздывает на пир. Власть Гитлера не политическая, она магическая.
Никербокер: Что вы подразумеваете под магической влас¬тью?
Юнг: Чтобы понять это, необходимо понять, что такое бес-сознательное. Это часть нашей ментальной структуры, которая контролируется нами в незначительной степени и в которой от¬кладываются всякого рода впечатления и ощущения, включая сюда мысли и даже заключения, которых мы не осознаем.
Помимо впечатлений, которые мы воспринимаем, сущест¬вуют всякого рода впечатления, постоянно воздействующие на наши органы чувств, которых мы осознать не можем, потому что они слишком слабы, чтобы привлечь наше сознательное внима¬ние. Они воспринимаются за порогом нашего сознания. Но все эти сублимированные восприятия фокусируются, ничего не утрачивается.
В то время как мы беседуем здесь, кто-то может разгова¬ривать едва слышным голосом в соседней комнате. Вы не обра¬тите на это внимания, но разговор за соседней дверью несомнен¬но регистрируется в вашем бессозна-тельном, подобно нашему разговору, записываемому на диктофон. В то время как вы си¬дите здесь, мое бессознательное принимает о вас информацию, хотя я ее не осознаю, и вы были бы удивлены, если бы я смог рассказать вам все, что я уже бессознательно узнал о вас за это короткое время.
Секрет власти Гитлера заключается не в том, что его бессоз¬нательное содержательнее, чем мое или ваше. Секрет Гитлера двоякий: во-первых, это исключительный случаи, когда бессоз¬нательное имеет такой доступ к созна-нию, и, во-вторых, он пре¬доставляет бессознательному направлять себя. Он подобен чело¬веку, который внимательно прислушивается к потоку внушений, нашептываемых голосом из таинственного источника, и затем действует в соответствии с ним. В нашем случае даже если наше бессознательное изредка становится доступным для нас че¬рез сны, у нас слишком много рациональности, слишком много церебрума, чтобы подчиняться ему. Так вел себя, например, Чемберлен; Гитлер же слушает и подчиняется. Истинный вождь всегда ведом.
Попытаемся понять, как это происходит. Он сам обращается к своему голосу. Его голос есть не что иное, как его собственное бессознательное, в которое немцы спроецировали самих себя; это бессознательное семидесяти восьми миллионов немцев. Это то, что делает его могущественным. Без нем-цев он, вероятно, не казался бы таким, каким предстает сейчас.
Это буквально соответствует истине, когда он говорит, что если он на что-нибудь способен, то только потому, что за его спиной стоит немецкий народ, или, как он иногда говорит, по¬тому, что он есть Германия. Поэтому с его бессознательным, являющимся вместилищем душ семидесяти восьми миллионов немцев, он могуществен, и с его бессознательным восприятием Действительного соотношения политических сил у себя и в мире он до сих пор остается безошибочным.
Вот почему политические решения, которые он принимает, оказываются верными вопреки мнениям всех его советников и вопреки мнениям всех иностранных обозревателей. Всякий раз, когда это происходит, это означает только, что информация, со¬бранная его бессознательным и достигающая сознания, благода¬ря его исключительному дару оказывается более верной, чем у всех других, немцев и иностранцев, пытавшихся оценить ситуа¬цию и пришедших к иным, чем у него, выводам. И конечно, это означает, что, имея эту информацию в своих руках, он должен быть готов действовать в соответствии с ней.
Никербокер: Я думаю, это относится к трем действительно критическим ситуациям, которые он создал, каждая из которых влекла за собой острую опасность войны: когда он ввел войска в Рейнскую землю в марте 1936 г. и в Австрию в марте 1938 г. и когда он мобилизовал и принудил союзников бросить Чехосло¬вакию. Как известно, в каждом из этих случаев многие из самых высокопоставленных военных советников Гитлера предостерега¬ли его от осуществления этих акций, поскольку полагали, что союзники окажут сопротивление и также что Германия потерпит поражение, если начнется война.
Юнг: Верно! Действительно, Гитлер сумел составить мне¬ние о своих противниках лучше, чем кто-либо еще, и хотя каза¬лось, что его встретят си-лой, он знал, что его противники уступят без борьбы. В этом смысле особенно характерен случай с Чемберленом, когда тот прибыл в Берхтесгаден. Там Гитлер впер¬вые встретился с высшим государственным деятелем Британии.
Так, позднее, в Годесберге, Чемберлен утверждал, что при¬езжал, чтобы указать Гитлеру, помимо прочего, не заходить слишком далеко, что иначе Британия начнет военные действия. Но бессознательное восприятие Гитлера, которое до сих пор не подводило его, проникло так глубоко в характер британского премьер-министра, что все более поздние ультиматумы и пре¬дупреждения из Лондона не производили какого бы то ни было впечатления на его бессознательное. Бессознательно Гитлер знал — он не угадал или почувствовал — он знал, что Британия не рискнет начать войну. Тем не менее выступление Гитлера в Спортивном дворце, когда он под священной клятвой объявил всему миру, что первого октября введет войска в Чехословакию и без согласия Британии и Франции, это выступление впервые и только раз показало, что Гитлер в свой крайне критический мо¬мент испытывает страх, следуя за Гитлером-пророком.
Его голос говорил ему, что надо идти вперед, что все будет хорошо. Но его человеческий рассудок указывал ему на много¬численные опасности, возможно непреодолимые. Поэтому вна¬чале голос Гитлера дрожал; его дыхание прерывалось. Его речь была сумбурной и к концу затянулась. Какой человек не дрог¬нет в такой момент? В ходе этого выступления, определившего, вероятно, судьбу сотен миллионов людей, он предстал челове¬ком, решившимся на то, чего смертельно боится, но преодолевшим свой страх, потому что так было предписано Голосом.
Никербокер: Его голос не ошибался. Но кто знает, останется ли он верным? Если это так, то было бы весьма интересно проследить ход событий нескольких последующих лет, поскольку он заявил как раз после чешской победы, что сегодня Германия стоит на пороге своего будущего. Это только начало, и, если его голос говорит ему, что немцам предназначено стать повели¬телями Европы, а возможно, и мира, и если его голос не ошиба¬ется, не означает ли это, что тогда мы находимся на пороге чрезвычайно интересного периода истории?
Юнг: Да, по-видимому, немцы теперь убедились, что обрели своего мессию, спасителя, которого они ожидают со времен поражения в мировой войне. Это отличительная способность людей с комплексом неполноценно-сти. До некоторой степени положение немцев необыкновенно напоминает положение евреев древности. Комплекс неполноценности евреев был обу-словлен политическими и географическими факторами. Они жили в той части мира, которая уподобилась учебному плацу для завоевате¬лей с любой стороны, и после их возвращения из первого изгнания в Вавилон, когда им грозило уничтожение римлянами, они придумали спасительную идею мессии, который объединит всех евреев в нацию еще раз и спасет их.
И немцы приобрели свой комплекс неполноценности по годным причинам. Они слишком поздно появились в Дунай¬ской долине и положили начало своей нации намного позднее Британии и Франции, уже процветавших на своем пути к нацио¬нальному государству. Они слишком запоздали с захватом ко¬лоний и основанием империи. Когда они сплотились и объединились в нацию, то, оглядевшись вокруг, обнаружили Брита¬нию, Францию и другие страны во всеоружии взрослых наций, богатые колониями, и тогда сделались обиженными и завистливыми, подобно младшему брату, чьи старшие братья захватили львиную долю наследства.
Это был подлинный источник немецкого комплекса непол¬ноценности, который так много определил в их политическом мышлении и деятельности и который, несомненно, имеет теперь решающее значение в их политике в целом. Невозможно, как вы видите, говорить о Гитлере, не говоря о немцах, потому что Гит¬лер и есть немецкий народ.
Недавно я побывал в Америке, и мне пришло на ум, что можно провести интересные географические параллели с Герма¬нией. Я обнаружил, что кое-где на американском восточном побе¬режье существует определенная прослойка людей, которых назы¬вают «жалкие белые бедняки», и я понял, что они в своем боль¬шинстве являются потомками ранних поселенцев, некоторые из них носят прекрасные старинные английские фамилии. Жалкие белые бедняки остались, когда люди с энергией и инициативой погрузились в свои закрытые фургоны и от-правились на Запад.
Затем, на Среднем Западе, вы встретите людей, которых я считаю в Америке наиболее уравновешенными, я имею в виду наиболее уравновешенных психически. Но в некоторых местах далее на запад вы встретите крайне неуравновешенных людей.
Рассматривая Европу в целом, включая Британские острова, мы имеем, как мне кажется, Ирландию и Уэльс эквивалентом вашего западного побережья. Кельты одарены ярким богатым воображением. Затем вашему умеренному Среднему Западу со¬ответствует в Европе Британия и Франция с их психически уравновешенными народами. И затем вы попадаете в Германию, и как раз за ней живут славянские мужики, жалкие белые бедняки в Европе.
Мужики не встают по утрам и спят целый день. Немцы, их ближайшие соседи, поднимаются по утрам, но слишком поздно. Вы не помните, как немцы даже теперь изображают Германию на всех своих карикатурах?
Никербокер: Да, «Спящий Михель», высокий худой субъект в ночном платье и ночном колпаке.
Юнг: Совершенно верно, и Спящий Михель проспал раз¬деление мира на колониальные империи, и таким образом немцы приобрели свой комплекс неполноценности, который побудил их развязать мировую войну, и, когда они ее проиграли, конечно, их чувство неполноценности только усилилось, появилось ожи¬дание мессии, и таким образом они получили своего Гитлера. Если он не является их истинным Мессией, то он подобен одно¬му из ветхозаветных пророков: его миссия заключается, в том, чтобы объединить людей и привести их к Земле Обетованной.
Это объясняет, почему нацисты должны бороться с любого вида религией, кроме их собственного идолопоклонничества. Во всяком случае у меня не возникает сомнений, что кампания про¬тив католической и протестантской церквей, которые они жела¬ют заменить новой верой гитлеризма, будет проводиться по очень серьезным, с точки зрения нацистов, причинам, с безжа¬лостной и неослабевающей энергией.
Никербокер: Вы полагаете, что гитлеризм, возможно, ста¬нет постоянной религией для Германии в будущем, подобно ма¬гометанству для мусульман?
Юнг: Я думаю, что это весьма вероятно. «Религия» Гитле¬ра наиболее близка к магометанству, реалистичная, земная, обещающая максимум вознаграждений в этой жизни, но с мусульманоподобной Валгаллой, попасть в которую и наслаждать¬ся жизнью в ней имеют возможность достойные немцы. Подобно магометанству, она проповедует доблесть меча. Первая идея Гитлера — сделать своих людей могущественными, ибо дух арийской Германии заслуживает, чтобы его подкрепляли силой, мускулами и мечом.
Конечно, это не духовная религия в том смысле, который мы обычно вкладываем в это понятие. Но вспомним, что в ран¬ние дни христианства церковь претендовала на тотальную власть, как духовную, так и светскую! В наши дни церковь ос¬тавила это притязание, которое переняли тоталитарные государ¬ства, требующие не только светской, но и духовной власти.
Мне сейчас пришло в голову, что «религиозный» характер гитлеризма подчеркивается также тем, что немецкие общины по всему миру; недосягаемые для политической власти Берлина, Усваивают гитлеризм. Обратите внимание на немецкие общины в Южной Америке, особенно в Чили.
Никербокер: Меня удивило, что в этом анализе диктаторов Ничего не было сказано о влиянии матери и отца на сильного Человека. Доктор Юнг не отводит для них значительной роли?
Юнг: Было бы большой ошибкой думать, что диктатором становятся вследствие личных обстоятельств, например вследст¬вие сильного сопротивления своему отцу. Миллионы людей противостоящие своим отцам столь же решительно, как, скажем Муссолини или Гитлер, никогда не станут диктаторами или чем-либо подобным.
Надо вспомнить закон о диктаторах: «Преследует тот, ко¬го преследовали. Диктаторы должны претерпеть от обстоя¬тельств, способных привести к диктатуре. Муссолини пришел в момент, когда страна была в хаосе, рабочие вышли из повинове¬ния и людей страшила угроза большевизма.
Гитлер пришел, когда экономический кризис понизил уро¬вень жизни и увеличил безработицу до невыносимого уровня, а затем великая инфляция, несмотря на дальнейшую стабилиза¬цию, довела до нищеты весь средний класс. Как Гитлер, так и Муссолини получили свою власть от людей, и лишить их власти было бы невозможно. Любопытно, что оба, и Гитлер и Муссо¬лини, основывают свою власть главным образом на низших средних классах, рабочих и фермерах.
Но вернемся к обстоятельствам, при которых диктаторы приходят к власти: Сталин пришел, когда смерть Ленина, уникального творца большевизма, оставила партию и народ без ру¬ководства, а страну без определенного будущего. Таким обра¬зом, диктаторы делаются из человеческого материала, который страдает от непреодолимых нужд. Три диктатора в Европе чудо¬вищно отличаются один от другого, но не так сильно, как они, отличаются их народы.
Сравните, как воспринимают Гитлера и как относятся к не¬му немцы, с тем, как относятся к Муссолини итальянцы. Немцы весьма восприимчивы. Они впадают в крайности, они всегда не¬много неуравновешенны. Они космополиты, граждане мира, легко теряют свою национальную идентичность, любят подра¬жать другим нациям. Всякий немец хотел бы одеваться подобно английскому джентльмену.
Никербокер: Но не Гитлер. Он всегда одевался по-своему, и никто не мог когда-либо обвинить его в том, что он пытается выглядеть так, будто покупает свое платье на Savile Row.
Юнг: Совершенно верно. Поэтому он говорит своим немцам: «Теперь, Gott, вы должны стать настоящими немцам!».
Немцы чрезвычайно восприимчивы к новым идеям, и когда знакомятся с той из них, что находит в них отклик, привлекает цх, то способны принять ее на веру, без критики, и на время полностью подпасть под ее влияние, но затем, по прошествии времени, точно таким же способом отбросить ее прочь и усвоить новую идею, возможно совершенно противоположную первой. Таким образом они управляют своей поли-тической жизнью.
Итальянцы более уравновешенны. Их мысли не колеблются и не барахтаются, не скачут и не прерываются вследствие непо¬мерных восторгов, которые являются каждодневными проявле¬ниями германского ума. Поэтому вы находите в Италии дух уравновешенности, которого не хватает в Германии. Когда в Ита¬лии к власти пришли фашисты, Муссолини даже не сместил ко¬роля. Муссолини действует не через экстаз духа, но как бы с мо¬лотком в руке вгоняет Италию в желаемую форму, почти так же, как его отец, бывший кузнецом, изготовлял обычно подковы.
Эта муссолини-итальянская уравновешенность темперамента подтвер-ждается отношением фашистов к евреям. Вначале они не преследовали евреев совсем, и даже сейчас, когда по различным причинам начали антисемитскую кампанию, первоначальное от¬ношение до некоторой степени сохраняется. Как я полагаю, Мус¬солини вообще последовал антисемитизму главным образом пото¬му, что убедился, что мировое еврейство неисправимо настроено против фашизма — достаточно вспомнить Леона Блюма во Фран¬ции, — а также потому, что желал укрепить связи с Гитлером.
Гитлер — шаман, род божественного сосуда, полубожество, более того, миф, тогда как Муссолини — человек, и все в фашист¬ской Италии принимает более гуманную форму, чем в нацист¬ской Германии, где ход событий определяется через откровение. Гитлер как человек едва существует. По меньшей мере скрывается за своей ролью. Муссолини, напротив, никогда не заслоняется своей ролью. Его роль пропадает за фигурой самого Муссолини.
Я видел дуче и фюрера вместе во время официального визи¬та Муссолини в Берлин. Мне посчастливилось находиться в нескольких ярдах от Муссолини, когда войска прошли гусиным шагом. Если бы я не видел его реакции, то впал бы в распространенное заблуждение, что Муссолини ввел немецкий гусиный шаг в итальянской армии потому, что подражал Гитлеру. Это разочаровало бы меня, потому что я разглядел в поведении Муссолини несомненный стиль, несомненное выражение самобытного человека с надлежащим пониманием в определенных вопросах.
Например, я думаю, что это проявилось в том, что он со¬хранил короля. И выбор титула, «дуче» не дож, как в старой Венеции, не дюк, но дуче — простое итальянское определение вождя — было самобытным и обнаружило надлежащий вкус.
Итак, поскольку я наблюдал за Муссолини, то не мог не за¬метить, что он следит за лучшим гусиным шагом, какой когда-либо видел, с удовольствием и интересом маленького мальчика в цирке. Он еще больше развеселился, когда появилась кавалерия и верховой барабанщик пустил лошадь галопом, чтобы занять свое место на одной стороне улицы, в то время как отряд оста¬новился на другой. Для этого барабанщик прогалопировал во¬круг отряда, развернулся к нему лицом, не касаясь при этом по¬водьев, и направлял лошадь коленями, в то время как его руки были заняты барабанными палочками.
Это было так великолепно проделано и настолько понрави¬лось Муссолини, что он засмеялся и захлопал в ладоши. Так что введение им впоследствии гусиного шага в Италии, как я убеж¬ден, было сделано исключительно для своего собственного эс¬тетического удовольствия. Это действительно наиболее впечат¬ляющий шаг.
По сравнению с Муссолини Гитлер произвел на меня впе¬чатление в некотором роде деревянного каркаса, одетого в пла¬тье, механизма, напоминающего робота или с маской робота. В продолжение всей церемонии он ни разу не улыбнулся, как буд¬то он сердился, был в дурном настроении.
Он не обнаружил ни одного человеческого признака. Его лицо выражало непреклонную одержимость целью, без тени юмора. Казалось, что он дублер реального человека и что Гит¬лер-человек прячется внутри, и прячется намеренно, для того „ чтобы не нарушить механизм.
Какое поразительное различие между Гитлером и Муссолини! Я не мог не почувствовать расположения к Муссолини. Его жизненная энергия и пластичность были теплыми, человечески¬ми, заразительными. У вас уютное ощущение от Муссолини как человека. Гитлер вас пугает. Вы понимаете, что никогда не будете способны разговаривать с этим человеком, потому что это никто, это не человек, а коллектив. Он не личность, он целая нация.
Я полагаю, что безусловно закономерно, что у него нет личного друга. Как можно интимно разговаривать с нацией? Вы можете объяснить Гитлера при личном сближении не более, чем объяснить великое произведение искусства, изучая личность ху¬дожника. Великое произведение искусства является продуктом времени, мира в целом, в котором живет художник, результатом взаимодействия миллионов людей, которые его окружают, неис¬числимых потоков мыслей и энергий, струящихся вокруг него.
Таким образом, Муссолини, который только человек, будет легче найти преемника, чем Гитлеру. К счастью, в отличие от Муссолини я не вижу такой возможности для Гитлера.
Никербокер: Что, если Гитлер женится?
Юнг: Он не женится. Не может быть женатого Гитлера, даже если он женится. Он перестанет быть Гитлером. Но неве¬роятно, что он когда-либо решится на это. Меня не удивит, если станет известно, что он всецело пожертвовал своей сексуальной жизнью ради Дела.
Это нередкое явление; особенно для людей типа шамана, хо¬тя гораздо менее характерное для типа вождя. Муссолини и Сталин, по-видимому, ведут вполне нормальную сексуальную жизнь. Подлинной страстью Гитлера является, конечно, Герма¬ния. Можно сказать, что он будет находиться либо под властью женщины, либо под властью Идеи. Идея всегда женственна. Ум женственен, потому-то голова, мозг являются созидательными, следовательно, подобны чреву, женщине. Бессознательное в мужчине представлено всегда в образе женщины; бессознатель¬ное в женщине всегда представлено в образе мужчины.
Никербокер: Насколько важную роль играет личное често¬любие в складе характера трех диктаторов?
Юнг: Я сказал бы, что оно играет весьма незначительную роль для Гитлера. Я не думаю, что он честолюбив более, чем обычный человек. Честолюбие Муссолини превышает честолю¬бие обычного человека, но этого недостаточно; чтобы объяснить его силу. Он сознает также, что соответствует национальной по¬требности. Гитлер не управляет Германией. Он только истолковывает общее направление событий. Это делает его таинственным и психологически привлекательным. Муссолини в известной мере управляет Италией, но в остальном он является орудием итальянцев.
Другое дело — Сталин. В его характере непреодолимое личное често-любие. Он не отождествляет себя с Россией. Он правит Россией подобно ца-рю. Не забывайте, что он как бы то ни было грузин.
Никербокер: Но каким образом объяснить выбранный Сталиным курс? Как мне кажется, Сталин далеко не безынтере¬сен и столь же загадочен. Большую часть своей жизни он был революционером-большевиком. Отец-сапожник и набожная мать отдали его в богословскую школу. В юности он становится рево¬люционером и затем на протяжении последующих двадцати пяти лет он ничем не занимался, кроме борьбы с царем и царской по¬лицией. Он сидел в дюжине тюрем и из всех убежал. Как же вы объясните, что человек, который всю свою жизнь боролся про¬тив царской тирании, неожиданно уподобляет себя царю?
Юнг: В этом нет ничего удивительного. Потому что вы ста¬новитесь тем, с чем вы постоянно боретесь. Что подточило воен¬ную силу Рима? Христианство. Завоевав Ближний Восток, рим¬ляне оказались завоеванными его религией.
Вы вынужденно смыкаетесь с тем, против чего боретесь, и способны этим заразиться. Необходимо досконально знать ца¬ризм, чтобы поразить его. И когда вы убираете царя, то стано¬витесь царем сами, подобно тому как охотник на диких зверей может уподобиться зверю.
Я знаю одного человека, который после многих лет охоты на крупную дичь в надлежащей спортивной манере был задержан, потому что применил против животных пулемет. Человек сделался кровожадным, как пантеры и львы, которых он убивал.
То же самое относится к борьбе Сталина против царского кровавого угнетения, и теперь он действует как тот же самый царь. По моему мнению, Сталин теперь ничем не отличается от Ивана Грозного.
Никербокер: Ну а то, что уровень жизни в Советском Со¬юзе значительно повысился и продолжает повышаться, начиная с низшей точки голода 1933 г., о чем сообщалось многими и что отмечал я сам?
Юнг: Это так. Но Сталин вместе с тем, что он царь, может быть хоро-шим администратором. Было бы чудом, если бы кто-нибудь сумел привести такую богатую от природы страну, как Россия, к обнищанию. Сталин не оригинален, он обнаруживает порочную склонность, так грубо и так цинично уподобляя себя перед всеми царю вопреки своим политическим убеждениям! Это действительно пролетарий.
Никербокер: Но вы до сих пор не объяснили мне, каким образом Ста-лин, лояльный член Коммунистической партии, бо¬ровшийся в качестве революционера-подпольщика за обществен¬ные идеалы, превратился в узурпатора?
Юнг: По моему мнению, превращение Сталина произошло в ходе революции 1918 г. До этого он, возможно, бескорыстно служил на благо Делу и, вероятно, никогда не задумывался о личной власти для себя самого по той счастливой случайности, что ему, кажется, до поры до времени не представилось даже намека на возможность устремиться к чему-либо подобному лич¬ной власти. Для него не существовало проблемы. Но в ходе ре¬волюции Сталин увидел с самого начала, как захватывают власть. Я уверен, что он сказал себе самому с изумлением: «Но это так легко!» Он должен был следить, как Ленин и другие дос¬тигают высшей степени полной власти и сказать себе: «Так вот как это делается! Что ж, я смогу превзойти их. Необходимо лишь убрать того, кто впереди меня».
Он несомненно уничтожил бы Ленина, останься тот жив. Ничто не могло остановить его, как ничто не останавливает те¬перь. Естественно, что он заинтересован, чтобы его страна про¬цветала. Чем богаче и могущественнее страна, тем могуществен¬нее он сам. Тем не менее он не сможет направить свои усилия всецело на повышение благосостояния страны, пока его личная жажда власти не будет удовлетворена.
Никербокер: Но он сейчас несомненно обладает всей пол¬нотой власти?
Юнг: Да, но он должен удержать ее. Он окружен стаей волков. Он вы-нужден все время держаться настороже. Я должен сказать, что мы, как я ду-маю, должны быть ему признательны!
Никербокер: За что?
Юнг: За наглядную демонстрацию всему миру очевидной истины, что коммунизм всегда ведет к диктатуре.
Но теперь оставим это в стороне, и позвольте мне объяснить, в чем за-ключается мое лечение. Как врач, я обязан не только; анализировать, ставить диагноз, но и предлагать лечение.
Почти все время наш разговор шел о Гитлере и немцах как несравненно более важных явлениях диктатуры. Исходя из ска¬занного, я должен назначить лечение. Чрезвычайно трудно бо¬роться с такого рода явлением. Это крайне опасно. Я имею в ви¬ду род состояния, когда человек действует под принуждением.
Далее, когда мой пациент действует под властью высшей си¬лы, силы в нем самом, подобно голосу Гитлера, я не рискую приказывать ему не подчиняться своему голосу. Он не послуша¬ет меня, если я рискну приказать. Он будет действовать даже решительнее, чем если бы я ему не приказывал.
Единственное, что я могу предпринять, — это попытаться, интерпретируя голос, побудить больного вести себя с меньшей для него самого и общества опасностью, чем если бы он подчи¬нялся голосу непосредственно без интерпретации.
Поэтому я полагаю, что в этой ситуации единственный путь спасти де-мократию на Западе — под Западом я подразумеваю также и Америку — не пытаться остановить Гитлера. Можно попробовать отвлечь его, но остановить его невозможно без гро¬мадной катастрофы для всех. Его голос говорит ему объединить всех немцев и вести их к лучшему будущему, лучшему месту под солнцем, к процветанию и богатству. Невозможно удержать его от осуществления этих намерений. Остается лишь надеяться по¬влиять на направление его экспансии.
Я предлагаю направить его на Восток. Переключить его внимание с Запада и, более того, содействовать ему в том, что удержит его в этом направлении. Послать его в Россию. Это ло¬гичный курс лечения для Гитлера.
Я не думаю, что Германия удовольствуется куском Африки, большим или малым. Германия поглядывает на Британию и Францию с их заманчивыми колониальными владениями и даже на Италию с ее Ливией и Эфиопией и задумывается о своих собственных размерах, противопоставляя семьдесят восемь миллионов немцев сорока пяти миллионам британцев на Британских островах, сорока двум миллионам французов и сорока двум миллио¬нам итальянцев, и она готова считать, что должна занять в мире место, не только большее, чем занимает одна из трех великих за¬падных держав, но гораздо большее. Каким образом она достиг-нет этого на Западе без уничтожения одной или более наций, его населяющих? Существует единственное поле приложения ее дей¬ствий — это Россия.
Никербокер: Что произойдет, если Германия попытается свести счеты с Россией?
Юнг: О, это ее собственное дело. Для нас важно только, что это спасет Запад. Никто из покушавшихся на Россию не избе¬жал неприятностей. Это не очень подходящая пища. Возможно, потребуется сотня лет, чтобы немцы переварили ее. Между тем мы будем спасены, я имею в виду всю западную цивилизацию.
Инстинкт должен подсказать государственным деятелям За¬пада не трогать Германию в ее нынешнем настроении. Она очень опасна. Инстинкт не подвел Сталина, подсказав ему не препят¬ствовать войне, в которой западные нации уничтожают друг друга, тогда как он дождется срока, чтобы обглодать кости. Это спасло бы Советский. Союз. Я не верю, что он вступит в войну даже на стороне Чехословакии и Франции, разве к самому кон¬цу, чтобы воспользоваться истощением обеих сторон.
Поэтому, рассматривая Гитлера как пациента и Европу как семью пациента и ближайших соседей, я предложил бы послать его в Россию. Там много земли — одна шестая часть всей поверх¬ности земного шара. Не будет большим уроном для России, если кто-то захватит часть, и, как я сказал, никто никогда не преус¬пел в этом.
Как спасти ваши демократические США? Они, конечно, должны быть спасены, даже если все мы погибнем. Вы должны остерегаться помешательства, чтобы избежать заразы. Имейте себя многочисленные армию и флот, но берегите их. Выжидайте, и начнется война. Америка должна обладать значительной во¬йной мощью, чтобы сохранить мир в мире или решить исход войны, если она начнется. Вы последнее прибежище демократии.
Никербокер: Но каким образом сохранить мир в Западной Европе, позволив Германии «идти на Восток», как вы выразились, после того как Англия и Франция официально гарантировали теперь границы нового государства Чехословакии? Во вся¬ком случае не начнется ли там война, если Германия попытается включить это государство-обрубок в свою административную систему?
Юнг: Англия и Франция выполнят свои новые гарантии по отношению к Чехословакии не более, чем выполнила Франция свое предыдущее поручительство за Чехословакию. Никакая на¬ция не держит своего слова. Нация — большой бессмысленный червяк, преследуемый чем? Конечно, роком, судьбой. У нации не может быть чести; она не может держать слова. По этой причине в старые времена старались иметь короля, обладающего личной честью и словом.
Вы понимаете, что сто самых интеллигентных в мире людей составят вместе тупую толпу? Десять тысяч таких обладают коллективной интелли-гентностью крокодила. Вы, должно быть, заметили, что разговор за обедом тем ничтожней, чем больше число приглашенных? В толпе качества, которыми кто-либо об¬ладает, размножаются, накапливаются и становятся преобла¬дающими для толпы в целом.
Не всякий обладает достоинством, но всякий является носи¬телем низ-ших животных инстинктов, обладает внушаемостью пещерного человека, подозрительностью и злобностью дикаря. Вследствие этого многомиллионная нация являет собой нечто даже нечеловеческое. Это ящерица, или крокодил, или волк. Нравственность ее государственных деятелей не превышает уров¬ня животноподобной нравственности масс, хотя отдельные деяте¬ли демократического государства в состоянии несколько припод¬няться над общим уровнем.
На Гитлера, однако, более чем на какого-либо другого дея¬теля в современном мире невозможно рассчитывать, что он вы¬полнит поручительство за Германию в любой международной сделке, в соглашении или договоре, если это будет противоре¬чить ее интересам. Потому что Гитлер — это сама нация. Это объясняет, кроме того, почему Гитлер вынужден говорить так громко — даже в частной беседе, — потому что он говорит се¬мьюдесятью восемью миллионами голосов.
Монстр — вот что такое нация. Каждый должен опасаться нации. Это нечто ужасное. Как может подобное иметь честь или слово? Вот почему я за малые нации. Малые нации предполагают малые катастрофы. Большие нации предполагают большие катастрофы.
Звонит телефон. В тишине студии и безветренного дня за окном я услышал, как па-циент кричит о том, что ураган в спальне сбивает его с ног.
«Ложитесь на пол, и вы будете в безопасности», — посоветовал доктор. Тот же са-мый совет мудрый психотерапевт дает Европе и Америке, в то время
как резкий ветер диктатуры неистовствует у оснований демократии.
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНИИ
Май 1945 г.
Это интервью было опубликовано через четыре дня после безоговорочной капи-туляции немецкой армии в Реймсе в газете «Die Weltwoche» (Цюрих) от 11 мая 1945 г. под заглавием «Обретут ли души мир?». Интервью, вероятно; имело место несколько ранее. В неполном переводе оно было опубликовано в одной из газет 10 мая 1945 г.
Шмид: Не считаете ли вы, что окончание войны вызовет громадные перемены в душе европейцев, особенно немцев, кото¬рые теперь словно пробуждаются от долгого и ужасного сна?
Юнг: Да, конечно. Что касается немцев, то перед нами вста¬ет психическая проблема, важность которой пока трудно пред¬ставить, но очертания ее можно различить на примере больных, которых я лечу. Для психолога ясно одно, а именно то, что он не Должен следовать широко распространенному сентиментальному разделению на нацистов и противников режима. У меня лечатся два больных, явные антинацисты, и тем не менее их сны пока¬зывают, что за всей их благопристойностью до сих пор жива резко выраженная нацистская психология со всем ее насилием и жестокостью. Когда швейцарский журналист спросил фельдмаршала фон Кюхлера о зверствах немцев в Польше, тот негодующе воскликнул: «Извините, это не вермахт, это партия!» —прекрасный пример того, как деление на порядочных и непорядочных немцев крайне наивно. Все они, сознательно или бессознательно, активно или пассивно, причастны к ужасам; они ничего не знали о том, что происходило, и в то же время знали.
Вопрос коллективной вины, который так затрудняет и будет затруд-нять политиков, для психолога факт, не вызывающий сомнений, и одна из наиболее важных задач лечения заключается в том, чтобы заставить немцев признать свою вину. Уже сейчас многие из них обращаются ко мне с просьбой лечиться у меня. Если просьбы исходят от тех «порядочных немцев», которые не прочь свалить вину на пару людей из гестапо, я считаю случай безнадежным. Мне ничего не остается, как предложить им анке¬ты с недвусмысленными вопросами типа: «Что вы думаете о Бухенвальде?» Только когда пациент понимает и признает свою вину, можно применить индивидуальное лечение.
Шмид: Но как оказалось возможным, чтобы немцы, весь народ, попали в эту безнадежную психическую ситуацию? Мог¬ло ли случиться подобное с какой-либо другой нацией?
Юнг: Позвольте сделать здесь небольшое отступление и на¬метить в общих чертах мою теорию относительно общего психо¬логического прошлого, предшествовавшего национал-социалис¬тической войне. Возьмем за отправную точку небольшой пример из моей практики. Однажды ко мне пришла женщина и разра¬зилась неистовыми обвинениями в адрес мужа: он сущий дьявол, он мучит и преследует ее, и так далее и тому подобное. В дейст¬вительности этот человек оказался вполне добропорядочным гражданином, невиновным в каких-либо демонических умыслах. Откуда к этой женщине пришла ее безумная идея? Да просто в ее собственной душе живет тот дьявол, которого она проецирует вовне, перенося свои собственные желания и неистовства на сво¬его мужа. Я разъяснил ей все это, и она согласилась, уподобив¬шись раскаявшейся овечке. Казалось, все в порядке. Тем не ме¬нее именно это и обеспокоило меня, потому что я не знаю, куда пропал дьявол, ранее соединявшийся с образом мужа. Совер¬шенно то же самое, но в больших масштабах произошло в исто¬рии Европы. Для примитивного человека мир полон демонов и таинственных сил, которых он боится; для него вся природа одушевлена этими силами, которые на самом деле не что иное, как его собственные внутренние силы, спроецированные во внешний мир. Христианство и современная наука дедемонизировали природу, что означает, что европейцы последовательно вбирают демонические силы из мира в самих себя, постоянно загружая ими свое бессознательное. В самом человеке эти демонические силы восстают против кажущейся духовной несвободы христи¬анства. Демоны прорываются в искусство барокко: позвоночни¬ки изгибаются, обнаруживаются копыта сатира. Человек посте-пенно превращается в уроборос , который уничтожает самого себя, образ, с древних времен являвшийся символом человека, одержимого демоном. Первым законченным примером этого типа является Наполеон.
Немцы проявляют особенную слабость перед лицом этих де¬монов вследствие своей невероятной внушаемости. Это обнару¬живается в их любви к подчинению, в их безвольной покорности приказам, которые являются только иной формой внушения. Это соответствует общей психической неполноценности немцев, следствием их неопределенного положения между Востоком и Западом. Они единственные на Западе, кто при общем исходе из восточного чрева наций оставались дольше всех со своей мате¬рью. В конце концов они отошли, но прибыли слишком поздно, тогда как мужик (the mujik) не порывался освободиться вообще. Поэтому немцев глубоко терзает комплекс неполноценности, ко¬торый они пытаются компенсировать манией величия: «Am deutschen Wesen soil die Welt genesen» — хотя они не чувствуют себя слишком удобно в собственной шкуре! Это типично юноше¬ская психология, которая проявляется не только в чрезвычайном распространении гомосексуальности, но и в отсутствии образа anima в немецкой литературе (великое исключение составляет Гёте). Это обнаруживается также в немецкой сентиментальности и «Gemiitlichkeit» , которые в действительности суть не что иное, как жестокосердие, бесчувственность и бездушие. Все об¬винения в бездушии и бестиальности, с которыми немецкая про¬паганда нападала на русских, относятся к самим немцам; речи Геббельса не что иное, как немецкая психология, спроецированная на врага. Незрелость личности ужасающим образом прояви¬лась в бесхарактерности немецкого генерального штаба, мягко¬телостью напоминающего моллюска в раковине.
Германия всегда была страной психических катастроф: Ре¬формация; крестьянские и религиозные войны. При национал-социализме давление демонов настолько возросло, что челове¬ческие существа, подпав под их власть, превратились в сомнам¬булических сверхчеловеков, первым среди которых был Гитлер, заразивший этим всех остальных. Все нацистские лидеры одер¬жимы в буквальном смысле слова, и, несомненно, не случайно, что их министр пропаганды был отмечен меткой демонизированного человека — хромотой. Десять процентов немецкого населе¬ния сегодня безнадежные психопаты.
Шмид: Вы говорите о психической неполноценности и де¬монической внушаемости немцев, но как вы думаете, относится ли это также к нам, швейцарцам, германцам по происхождению?
Юнг: Мы ограждены от этой внушаемости своей малочис¬ленностью. Если бы население Швейцарии составляло восемьде¬сят миллионов, то с нами могло бы произойти то же самое, по¬скольку демонов привлекают по преимуществу массы. В коллек¬тиве человек утрачивает корни, и тогда демоны могут завладеть им. Поэтому на практике нацисты занимались только формиро¬ванием огромных масс и никогда — формированием личности. И также поэтому лица демонизированных людей сегодня безжиз¬ненные, застывшие, пустые. Нас, швейцарцев, ограждают от этих опасностей наш федерализм и наш индивидуализм. У нас невозможна такая массовая аккумуляция, как в Германии, и, возможно, в подобной обособленности заключается способ лече¬ния, благодаря которому удалось бы обуздать демонов.
Шмид: Но чем может обернуться лечение, если его провес¬ти бомбами и пулеметами? Не должно ли военное подчинение демонизированной нации только усилить чувство неполноценно¬сти и усугубить болезнь?
Юнг: Сегодня немцы подобны пьяному человеку, который пробуждается наутро с похмелья. Они не знают, что они делали, и не хотят знать. Существует лишь одно чувство безграничного несчастья. Они предпримут судорожные усилия оправдаться пе¬ред лицом обвинений и ненависти окружающего мира, но это будет неверный путь. Искупление, как я уже указывал, лежит только в полном признании своей вины. «Меа culpa, mea maxi¬ma culpa!» В искреннем раскаянии обретают божественное ми¬лосердие. Это не только религиозная, но и психологическая ис¬тина. Американский курс лечения, заключающийся в том, чтобы провести гражданское население через концентрационные лаге-ря, чтобы показать все ужасы, совершенные там, является по¬этому совершенно правильным. Однако невозможно достичь це¬ли только моральным поучением, раскаяние должно родиться внутри самих немцев. Возможно, что катастрофа выявит пози¬тивные силы, что из этой по-груженности в себя возродятся про¬роки, столь характерные для этих странных людей, как и демо¬ны. Кто пал так низко, имеет глубину. По всей вероятности, ка¬толическая церковь соберет богатый улов душ, поскольку проте¬стантская церковь переживает сегодня раскол. Есть известия, что всеобщее несчастье пробудило религиозную жизнь в Герма¬нии; целые общины преклоняют по вечерам колени, умоляя Гос¬пода спасти от антихриста.
Шмид: Тогда можно надеяться, что демоны будут изгнаны и новый, лучший мир поднимется на руинах?
Юнг: Нет, от демонов пока не избавиться. Это трудная за¬дача, решение которой в отдаленном будущем. Теперь, когда ан¬гел истории покинул немцев, демоны будут искать новую жертву. И это будет нетрудно. Всякий человек, который утрачивает свою тень, всякая нация, которая уверует в свою непогрешимость, ста¬нет добычей. Мы испытываем любовь к преступнику и проявляем к нему жгучий интерес, потому что дьявол заставляет забыть нас о бревне в своем глазу, когда мы замечаем соринку в глазу брата, и это способ провести нас. Немцы обретут себя, когда примут и признают свою вину, но другие станут жертвой одержимости, если в своем отвращении к немецкой вине забудут о собственных несовершенствах. Мы не должны забывать, что роковая склон¬ность немцев к коллективности в неменьшей мере присуща и дру¬гим победоносным нациям, так что они также неожиданно могут стать жертвой демонических сил. «Всеобщая внушаемость» играет огромную роль в сегодняшней Америке, и насколько русские уже зачарованы демоном вла-сти, легко увидеть из последних событии, которые должны несколько уме-рить наше мирное ликова¬ние. Наиболее разумны в этом отношении англичане: индивидуа¬лизм избавляет их от влечения к лозунгам, и швей-царцы разде¬ляют их изумление перед коллективным безумием.
Шмид: Тогда мы должны с беспокойством ожидать, как проявят себя демоны в дальнейшем?
Юнг: Я уже говорил, что спасение заключается только в мирной работе по воспитанию личности. Это не так безнадежно, как может показаться. Власть демонов огромна, и наиболее совре¬менные средства массового внушения — пресса, радио, кино etc. — к их услугам. Тем не менее христианству было по силам от¬стоять свои позиции перед лицом непреодолимого противника, и не пропагандой и массовым обращением — это произошло позд¬нее и оказалось не столь существенным, — а через убеждение от человека к человеку. И это путь, которым мы также должны пойти, если хотим обуздать демонов.
Трудно позавидовать вашей задаче написать об этих сущест¬вах. Я надеюсь, что вам удастся изложить мои взгляды так, что люди не найдут их слишком странными. К несчастью, это моя судьба, что люди, особенно те, которые одержимы, считают ме¬ня сумасшедшим, потому что я верю в демонов. Но это их дело так думать; я знаю, что демоны существуют. От них не убудет, это так же верно, как то, что существует Бухенвальд.
К.Г. Юнг
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Редактор В. П о м о г а й б и н
Составитель В. Г а в р и щ у к
Технические редакторы И. Г о л о в и н а,
О. М а т у с о в с к а я
Корректор В. Е в т ю х и н а
Компьютерная верстка Л. А р ю т к и н а
Дизайн обложки М. Е м е л ь я н о в
Издательство Современного гуманитарного университета
Лицензия ЛР № 071765 от 07.12.1998 г.
113114, Москва, ул. Кожевническая, д.3.
Тел. (095) 235-44-65
Отпечатано с готовых диапозитивов Московской типографии № 6
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
109088, Москва, Южнопортовая ул., 24
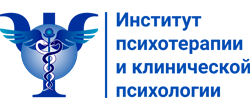

 psyinst@psyinst.moscow
psyinst@psyinst.moscow Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
 Обращение к руководству
Обращение к руководству



 Подписаться на рассылку
Подписаться на рассылку
